Текст книги "Мой секс"
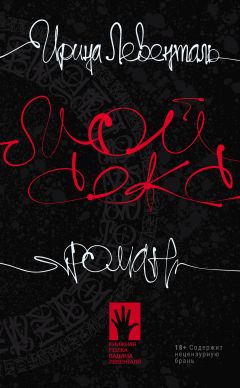
Автор книги: Ирина Левенталь
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Ирина Левенталь
Мой секс
© И. Левенталь, 2021
© ИД «Городец», 2021
© А. Сластенин, оформление, 2021
* * *
1
Рассказывают, что когда я впервые увидела член – мама с подружкой вместе переодевали нас, своих пупсов, – я очень обрадовалась. Даже если эта история апокриф, она мне нравится. Нравится, потому что если так, то, значит, вся дальнейшая история моей сексуальной жизни (не всегда радужной, я не об этом) была фигурой, описывающей вопросительный знак вокруг точки этой радости. Между тем мне вообще нравится думать о человеке как о существе вопросительном, не завершенном.
Что я имею в виду: тело. Тело как странный объект, странность которого в том, что оно одновременно вполне посторонний объект и вместе с тем самое непосредственное я. (В этом смысле единственный объект в своем классе, множество, состоящее ровно из одного элемента.) И – тот факт, что секс оказывается едва ли не единственным способом изучения этого поражающего воображение дуализма. Более того, все попытки такого изучения мы склонны относить к области сексуального, хотя бы они и не имели отношения собственно к сексу.
Скажем, мне пять лет, и я в гостях у маминой двоюродной сестры. Лето, Гатчина. Мама оставила меня на неделю или около того – сказала, что командировка, но к тому моменту папы уже не было, так что могла и поехать с кем-ни-будь отдохнуть. У тети Лены две дочери: одна моя ровесница, другая старше на три года. Старшая начинает игру. Она просит сестру снять трусы, наклониться, а затем вкладывает ей между ягодиц одуванчик – желтый пушистый цветок. После этого мне предлагают подвергнуться той же процедуре, и я, преодолев робость, соглашаюсь. Чувства, которые я при этом испытываю, – это одновременно легкое удовольствие, легкий стыд, легкая гордость (игра ощущается как взрослая), легкое удивление – и сильнейшее любопытство. Я говорю о том, что эта игра – имеющая, само собой, отношение к детской сексуальности, – была не чем иным, как постановкой вопроса о мере независимости от меня моей задницы: в чем разница между сережкой в ухе и одуванчиком в попе?
Я не признаю бульварного фрейдизма, в соответствии с которым если ты впервые в жизни увидела кривой член, то потом всю жизнь будешь любить только кривые, а прямые будешь презирать. Уверена, дело обстоит сложнее. В частности, вот что: никакой такой специальной детской сексуальности не существует. В действительности речь идет об одном и том же круге вопросов и о непрерывно совершенствующихся подходах к ним. Я не получила нового тела на совершеннолетие – и то же касается моей сексуальности.
Что, разумеется, не означает, будто людей, которые детской неопытностью пользуются в своих сексуальных интересах, не нужно закапывать поглубже, – нужно, да еще как.
Мне повезло: я не была изнасилована в детстве, точнее эти попытки провалились – так что, кажется, у меня есть основания считать свое детство в этом смысле счастливым и – обычным, как у всех.
Я пошла в первый класс на окраине Петербурга – там маме удалось получить квартиру после того, как они с папой развелись. Многие тогда (когда квартиры еще давали) для этого разводились фиктивно, но у них с папой действительно не сложилось, и я до сих пор с уверенностью не могу сказать почему. К тому времени, когда я уже могла осознанно спросить об этом, мама успела сформулировать окончательную, не подлежащую пересмотру версию событий (на самом деле линию защиты), которая, судя по всему, имеет мало отношения к реальности, а с отцом – в те редкие моменты, когда мы общаемся, – у нас сложились такие отношения, что я не могу его об этом спросить. Впрочем, уже тогда мне казалось, что папа спокойный и мягкий человек, а мама – скорее слегка экспрессивна. Словом, похоже на то, что их развод был нелепой, хотя и неизбежной случайностью.
От самого процесса обучения в начальной школе у меня не осталось ровно никаких воспоминаний. Читать, писать и считать я научилась дома – и не думаю, что я много потеряла бы, если бы вовсе пропустила первые четыре или даже пять классов. Совсем другое дело – то, что сейчас называют социализацией. Я оказалась в окружении жестоких и невоспитанных детей и вынуждена была как-то встраиваться в этот дружный коллектив. Не могу сказать, что дома обстановка была прямо уж безоблачная, но в школе любимым детским развлечением было выбрать кого-нибудь одного и травить его. Дело усугублялось тем, что маме приходилось работать, так что в первый год я всегда оставалась на продленку – со всеми этими прогулками, играми в рекреациях и, само собой, с тихим часом.
Детская жестокость беспричинна. Выбирая кого-то одного для травли, мои одноклассники делали это не потому, что этого одного как-то специально ненавидели, а, скорее, из все тех же исследовательских соображений: ну хорошо, а что будет, если нажать вот сюда? Так что сегодня могли дразнить (вспомнила, как это называлось) за длинный нос девочку, завтра – описавшегося на физкультуре мальчика, а через несколько дней, с новым поворотом карусели, полностью перегруппироваться, выбрать кого-то следующего, и тогда те, кого травили на прошлой неделе, сами старались придумать, что бы такого крикнуть пообиднее. (Да, я тоже принимала участие во всех стадиях этих игр.) Впрочем, точно так же в произвольный момент все тридцать детей могли отставить издевательства и действительно сплотиться в дружный коллектив – это случалось почти всегда во время тихого часа.
Разумеется, никто во время тихого часа не спал. Помню, воспитательница всегда говорила, что, мол, зря не спите, вырастете, будете сами себе завидовать, что можно днем часок поспать. Она оказалась права, но что толку? Тихий час был в действительности часом, когда могли отдохнуть от галдящей детской толпы сами воспитательницы, – и это единственный разумный смысл этого часа, если только не допустить, что он был устроен специально для самостоятельного детского сексуального развития.
Пару лет назад я разговорилась об этом со своей подругой – она рассказала, что во время тихого часа девочка из соседней кровати перелезала к ней, они лежали в обнимку и, имея возможность убедиться, что их тела устроены примерно одинаково, пользовались этой возможностью (нет, она не стала лесбиянкой). Исходя из этого, можно представить себе, какие широкие горизонты открывались перед тысячами и сотнями тысяч детей по всему Советскому Союзу, когда их оставляли в полутемных комнатах с кроватями.
У нас в классе практиковалось нечто вроде стриптиза (называлось это просто «показать») – кто-нибудь один говорил, например: «Олька, покажи!», – все остальные дружно уговаривали Олю, и она рано или поздно снимала трусики и вставала ногами на постель, чтобы все могли посмотреть. В эти моменты все чувствовали настоящее единение и общую причастность к одному на всех секрету. Здесь не было унижения – напротив, тот, на кого падал жребий, чувствовал скорее свою возросшую значимость, а возможно, даже и гордость за свою смелость. Разумеется, были девочки и мальчики, которые «показывали» чаще других. Я была не из них.
Я не хотела бы, чтобы создалось впечатление, будто, рассказывая об этих практиках, я одобряю их. Нет – хотя и наказывать себя-ребенка не стала бы. Честно говоря, я до сих пор не знаю, сколько во всем этом было от дурного ответа на законное любопытство, а сколько – от тупой неизбежности (все дети делают это). Что по-настоящему достойно осуждения, так это страусиное самоустранение миллионов взрослых от сексуальности детей. Убедить себя в том, что чего-то, с чем ты не хочешь иметь дела, не существует, и тем самым поощрить самые дикие практики и события – это так по-взрослому. Только представьте себе, как все эти воспитательницы, учительницы, вплоть до директора, узнав, что первоклашки показывают друг другу, закудахтали бы, и закатили бы глаза, и вскричали бы о времена, о нравы, и стали бы выдумывать для детей наказание, – чувствуете, как сразу хочется раз и навсегда запретить этим кумушкам приближаться к детям? Вот и я о том же. А ведь они не только в школах работают, у них самих есть дети, общество состоит из таких кумушек – всем пофигу, что там происходит с детьми и у детей, лишь бы мы ничего-ничего об этом не знали.
То же самое относилось и к вопросу об информировании детей относительно появления людей на свет. Предполагалось, что ребенок должен вырасти, совершенно этим вопросом не интересуясь, вполне удовлетворившись образами аиста и капусты, дожить до седьмого класса, проштудировать учебник биологии, узнать, как размножаются кролики, и догадаться, что у людей происходит так же. В действительности, само собой, дети к седьмому классу уже представляли себе процесс во всех подробностях без всяких кроликов – другое дело, что знание это приходило на смену целой череде самых невероятных представлений и убеждений, давалось с трудом и сопровождалось исключительно негативным эмоциональным фоном. Сейчас, понятно, у детей есть интернет, но боюсь, что это не освобождение человечества из векового рабства, а те же яйца вид сбоку.
Несомненно, разговоров на эту тему было множество – я довольно хорошо помню один. С детьми-соседями мы сидим в густых кустах во дворе. Стало быть, это либо сентябрь, либо конец мая – и либо конец первого класса, либо начало второго. Я доказываю, что дети зарождаются от обмена слюной при поцелуе, а выходят из тела матери через специально открывающуюся по такому случаю щель между грудей. (Откуда у меня такая информация, не помню, убей бог.) Мальчик постарше на год или два не очень уверен насчет первой части, но совершенно уверен, что я ошибаюсь во второй и что дети выходят «из письки». Мне эта версия кажется крайне неубедительной – даже маленькие дети, по моему мнению, не могут быть маленькими настолько, чтобы там пролезть.
Просвещенья век настал для меня и открытия чудные настигли три года спустя. Моя лучшая подруга Ксюша в школе на перемене отводит меня в сторонку и говорит, что все узнала, но чтобы рассказать, нужно пойти домой. Почему – не обсуждается, и так понятно: в школе опасно, ну и к тому же без атмосферы секретности пропадает удовольствие от владения тайным знанием. После уроков мы идем ко мне (мама еще на работе), Ксюха забирается с ногами на кровать, я усаживаюсь рядом, и она рассказывает, что мальчик вставляет хуй девочке в пизду, они ебутся, в результате чего из мальчика вытекает сперма, которая остается в девочке, от чего она беременеет, и через какое-то время ребенок выходит через пизду. Я с трудом представляю, как можно вставить куда-то мягкую мальчишескую висюльку, но спросить не решаюсь, как не решаюсь спросить, что значит ебутся: знание передано с максимальной торжественностью. И – с предельным отвращением, с интонацией «ты только представь себе эту гадость». В связи с этим информация «а еще это очень приятно» выглядит сноской мелким шрифтом, ложью для простаков – мы с Ксюхой торжественно обещаем друг другу, что никогда не будем заниматься ничем подобным. (Представьте себе, что как раз в это время я запоем читала «Волшебника Изумрудного города» Волкова – все шесть томов подряд.)
Боюсь, словосочетание «лучшая подруга» может натолкнуть на мысль о том, что их было несколько. Совсем наоборот: Ксюша была единственной, и к тому же – так себе подругой. Настоящие появились у меня только в старшей школе. Ксюша, насколько я могу вспомнить, пользовалась мной и моим желанием общаться в рамках запутанных интриг с другими одноклассницами, смысл которых сейчас уже не восстановить.
Гораздо лучше отношения складывались с детьми маминых подруг, но виделись мы нечасто, поскольку те жили в центре, и к тому же это было всегда если не под надзором, то в присутствии взрослых, которые рядом с нами, играющими, выпивали, так что, понятно, никакой обмен секретными знаниями там был невозможен.
Напротив, как раз в этой среде мне было предложено испытать нечто вроде романтической влюбленности: мама с подружкой придумали, что я должна влюбиться в подружкиного Рому, а он, соответственно, в меня. Не то чтобы они на этом настаивали, но они постоянно намекали на это, и конечно, эта мысль не могла в какой-то степени не завладеть мною. Рома был хороший мальчик, только не очень заинтересован во всем этом – мы больше играли в приставку, а когда я, по маминому наущению, дарила ему какую-нибудь мелочь, он не видел за этим никакого намека. Да и я не очень понимала, чего от меня хотят.
Я к тому, что большую часть времени я была предоставлена сама себе, много читала, а некоторые важные открытия вынуждена была совершать самостоятельно, и обсудить их мне было не с кем. Однажды в ванной мне пришло в голову попробовать свою вагину на вкус, и я тут же проделала это. Вкус показался мне необычным, но вполне приемлемым, и с тех пор я делаю это каждый день – я знаю свой вкус, слежу за ним. Тогда же я начала ежедневно подолгу рассматривать себя в зеркале. Мне нравились изменения в моем теле – растущие волосы на лобке и увеличивающаяся грудь с большими ареолами вокруг сосков. В том, что они значительно больше, чем у других, я убедилась на школьном медосмотре – девочки смотрели на меня и говорили, что у меня уже все как у взрослой (хотя это было, конечно, не совсем так), и я испытывала гордость.
Довольно скоро я догадалась использовать зеркало для того, чтобы изучить, что у меня там между ног. Мамы обычно не было дома, когда я возвращалась из школы: тогда в редакциях сидели полный рабочий день, никакой удаленки – словом, несколько часов в день я всегда была в полном одиночестве. Мысль о зеркале пришла мне в школе и сразу взбудоражила меня. Я еле досидела до конца занятий, помчалась домой, нарочито спокойно переоделась, съела оставленный мамой обед и выпила чай, после чего полностью разделась, забралась в кровать, легла и поместила между ног раскрытую пудреницу. Я увидела приоткрытые половые губы и собственные глаза – из маленького диска пудреницы на меня смотрело лицо. Выглядело это пугающе: казалось, лицо того и гляди раскроет вертикальный рот и что-нибудь проговорит. Я даже закрыла пудреницу и вернулась к рассматриванию спустя несколько минут. Я перебирала и раздвигала складки и провела за этим занятием полчаса.
Обсудить увиденное у меня ни с кем не получилось – я просто не смогла придумать ни одного человека, который совершенно точно не стал бы использовать мои откровения (она разглядывает свою письку!) против меня. Было это осенью, а весной я уже успокоилась на эту тему.
Это важно, потому что как раз та компания, в которой я могла об этих вещах говорить, была не гопническая школьная и не «центровая», почти светская мамина, ее подруг и их детей, а дачная, наполовину деревенская, в которой я оказывалась каждое лето, когда меня брали с собой бабушка и дедушка, мамины родители. Не могу с уверенностью сказать, в чем в большей степени было дело: в том ли, что дети были другие, компания разношерстнее, или в особой атмосфере летней детской вольницы, своего рода безответственности – хоть каждый август там прощались до следующего лета, каждый понимал, что в этой жизни никто уже больше не увидится. Названия деревни (городка) сказать не могу – речь пойдет о вещах не вполне невинных, а в маленьком местном сообществе сразу будет понятно, о ком речь.
Я умудрилась ни разу не побывать в пионерском лагере – видимо, мама считала меня слишком маленькой для этого, пока это было вообще заведено, а стоило мне чуть подрасти, и пионерские лагеря просто-напросто закрылись в связи с уничтожением страны, исчезновением пионеров, а заодно заводов, денег, еды, общими паникой и ужасом (тогда это называлось свободой, некоторые используют это слово до сих пор). Не чувствую себя вправе говорить о них. Рассказы, которые я слышала от друзей, в том числе и гораздо позже, в том числе и от старших друзей, могли бы составить отдельный пионерский декамерон, но, честно говоря, я склонна думать, что пионерские лагеря стали заложниками мифа о самих себе, и самой обыкновенной жизни там было значительно больше, нежели пьянства и разврата. В самом деле: не станешь же на вопрос о пионерских лагерях рассказывать, что, мол, ходили купаться и делали зарядку, – никто просто не поверит. Я это к тому, что мне сложно судить, насколько мое полудеревенское летнее детство (которое в своем роде, уверена, типично) более или менее невинно по сравнению с детством тех, у кого бабушки-дедушки с их дачей не было и кто томился в застенках пионерского гулага. Рискну все же предположить, что плюс-минус все было примерно одинаково.
Речь не идет о первом-втором классе, скорее, мне уже лет одиннадцать-двенадцать. Говорят, нынешние дети о мастурбации все узнают из яндекса – нам приходилось проявлять смекалку и доходить до всего своим умом. (Отсюда, к слову, и беспокойство за молодое поколение: если даже такие вещи им подносят на блюдечке, то что же они смогут выдумать сами? Впрочем, не исключено, что я дезинформирована, и все не так плохо.) Что касается меня, то я узнала о ней так. Я лежала дома на диване, читала и машинально водила ногтем по трусикам. Так продолжалось минут десять – и наконец я почувствовала под пальцем жар. Тело настаивало на продолжении, и мне стало в высшей степени любопытно, что это значит. Я просто терла ногтем трусики, двигаясь очень медленно. Через пару минут я испытала сильнейший оргазм – по всему телу разлилась волна, от которой занемели ноги, бедра, живот и даже губы. Это было крайне радостное открытие – оказывается, так просто и без особенных усилий можно испытывать такую классную штуку. Я стала мастурбировать регулярно, каждый день и по нескольку раз в день. Часто я притворялась, что сижу и делаю уроки, пока мама ходила туда-сюда по кухне и коридору, а сама вечерами напролет путешествовала пальцами в трусы. (И кстати, с возрастом я не стала мастурбировать меньше.)
В связи с открытием возникли вопросы. Я чувствовала, что обнаруженная мною вещь явно не из тех, которые можно обсудить с мамой или одноклассницами. Но насколько она нормальна – то есть происходит ли то же самое с другими девочками, может быть, все уже это знают и одна я только сейчас обнаружила, или наоборот, я первооткрыватель, и вообще еще слишком рано? Что все это значит? Как называется? И так далее. Был и другой вопрос, который меня начал мучить уже тогда – в какой степени то, что происходит с моим телом, вообще имеет отношение ко мне? Для такой формулировки мне тогда не хватило бы слов, я скорее чувствовала этот вопрос, чем вообще его формулировала. Впрочем, был один способ поставить его ребром: могу ли я не делать этого? Всякий раз оказывалось, что нет. Получалось, что я существую ровно до того момента, пока меня не замещает частое дыхание, пот, жар, влага между складок, и свое, принадлежащее мне, являющееся мной тело я не могу заставить вести себя по-другому хотя бы даже ради эксперимента.
На последний вопрос едва ли кто-то ответит и сейчас. Что касается первых, то с ними оказалось все просто. В первый же день, как я приехала на очередные каникулы к бабушке с дедушкой, Рита, лучшая дачная подружка, затащила меня к себе и, усадив рядом с собой, шепотом, хотя взрослых не было, спросила: дрочишь уже? Я сразу поняла, о чем речь. Если у меня и была мысль отнекаться, будто я ничем таким не занимаюсь и вообще не понимаю, о чем речь, то я мгновенно от нее отказалась. Не потому даже, что не хотела врать, а потому что я в таком случае рисковала лишиться шикарной и волнующей перспективы широкого и откровенного диалога. Оставался, конечно, не нулевой шанс, что меня разыгрывают, но во всех остальных случаях скорее нулевым был шанс на диалог. Я кивнула: ага.
Оказалось, что Рита уже несколько опытнее меня в этом вопросе. Так, то ли ей кто-то сказал, то ли она сама догадалась, что с этой целью можно использовать не только палец, но и окружающие предметы. Например, ручку дивана. Я сильно удивилась, когда она об этом сказала, и выразила недоверие – просто не могла представить себе, как это возможно. В ответ Рита, нимало не стесняясь, уселась на лакированную ручку верхом и стала по ней аккуратно елозить. Я наблюдала за ней несколько минут, и мне захотелось попробовать самой. Вероятно, я бы ни за что не решилась на это, но Рита из уважения к моему смущению стала настаивать: оставалась еще вторая свободная ручка. Не то чтобы ощущения, которые я испытала, были какие-то особенно феерические (руками намного приятнее, да и в присутствии Риты было как-то нелепо стараться довести дело до конца), но сама мысль об открывающихся возможностях кружила голову.
Не нужно думать, будто только подобными вещами мы все лето и занимались. В действительности по большей части это были самые обыкновенные летние детские деревенские занятия: купаться, кататься на велосипедах, съезжать на них на спор с крутой горки (синяки и ссадины, а как же), бадминтон в безветренный вечер, карты в дождливый, страшные истории и немного интриг. Мальчишки, помнится, пытались рыбачить, а мы с девчонками ездили на автобусе к окраине колхозного поля щипать горох. Обо всем об этом можно было бы написать увлекательную книжку для подростков, не сомневаюсь.
Городок не был исключительно дачным, из тех, которые пустеют ближе к зиме и на всю округу остаются три с половиной старушки, – Рита была местная и всех здесь знала. Одна из ее подружек по большому секрету рассказала ей про своего отчима и старшую сестру (мамы в этой семье не было – кажется, умерла), что она видела, как отчим сестре (той было пятнадцать) «там лижет». Рита рассказала мне об этом без осуждения, скорее как пример того, какие еще могут быть варианты и вообще, как они, оказывается, многообразны.
Я действительно никак не могла оценить эту информацию с моральной точки зрения – бог его знает, может, так у них, взрослых, и надо (пятнадцатилетняя сестра была для меня, безусловно, взрослая). Зато с практической стороны она очень меня заинтересовала, и я стала приглядываться к коту, который жил у бабушки с дедушкой. Через несколько дней, выгадав момент, когда их не было дома, я заперла дом изнутри, достала из холодильника банку со сметаной и постаралась пожирнее себя намазать. После чего поймала кота и сунула его носом между ног. Никакого эротического опыта не получилось – было слегка приятно, но в гораздо большей степени, до невозможности, щекотно. Я извивалась ужом и терпела секунд десять, а потом убежала на кухню отмываться. Делиться опытом с Ритой я не стала – гордиться было особенно нечем, и к тому же было понятно, что, коль скоро она не дорожит большими секретами даже своих местных подруг, мои опыты с котом тем более станут достоянием всего города. Излишне говорить, что нам ни на минуту не пришла в голову мысль поэкспериментировать в подобном роде друг с другом – думаю, потому же, почему ни в каких наших разговорах на эти темы еще пока никаким образом не фигурировали мальчики: телу было вполне достаточно себя самого, идея контакта с другим телом в этих целях показалась бы мне тогда идиотской шуткой.
В том, что никакие это все не шутки, я убедилась той же осенью, уже в Петербурге (кажется, тогда уже проголосовали за Собчака и Петербург).
Девяностые были временем возможностей. У кого-то возможности были, у кого-то – у большинства – нет. Мне не повезло. Говоря о возможностях, я имею в виду не только рассекавших по улицам бандитов всех мастей, про которых моя бабушка говорила, что это даже хорошо, что есть бандиты, значит-де, у нас нормальное капиталистическое общество и все будет становиться только лучше (не трудно догадаться, откуда у нее в голове появились подобные суждения, – те же самые opinionmakers сейчас вещают о диктатуре и тоталитаризме; сама бабушка с трудом наскребала на свою гречку). Не только, говорю, бандитов, но и своих нынешних старших друзей – людей, которые вошли в девяностые восемнадцатилетними или около того. Впрочем, боюсь, это тоже не от хорошей жизни – просто-напросто взрослым было настолько не до чего, лишь бы придумать, на что сегодня купить еды, что едва дети переставали требовать ежедневного ухода, на них элементарно не оставалось сил и их предоставляли самим себе. У них были бесконечные тусовки, клубы, феерическая сексуальная раскрепощенность, много самого смелого искусства, никаких обязательств, реки алкоголя и горы разнообразных наркотиков, – все они вспоминают о девяностых как о лучшем времени своей жизни.
Я про себя такого сказать не могу. Для меня девяностые – это нищета, грязь и темнота. Не работали никакие фонари и в подъездах не было лампочек, везде было темно и страшно. Не было урн, мусор почти не вывозили, и, конечно, никаких дворников – на улицах валялись пакеты с отходами, в том числе и пищевыми; не удивительно, что то тут, то там шмыгали крысы. Я была одета в вещи самого низкого качества, карманные деньги появлялись у меня только по большим праздникам, заняться мне, по большому счету, было нечем. Бесплатным было чтение, я была записана в районную библиотеку и бывала в ней раза два в неделю и кружки в Доме культуры (учреждение называлось не так; не называю его в точности – все это затеяно не для того, чтобы поквитаться с кем бы то ни было).
Отец перед отъездом на новое ПМЖ подарил мне коробку своих книг и еще коробку с мелочами, в числе которых был относительно новый фотоаппарат «Смена», – я записалась в кружок фотографии. Добираться до него нужно было через полгорода на метро, но было интересно, и к тому же руководитель кружка – тогда он казался глубоким стариком, сейчас я понимаю, что ему было около пятидесяти – был веселым, добрым, и, хоть от него всегда несло потом, чесноком и табаком, все дети буквально обожали его – словом, я с удовольствием ездила на кружок два раза в неделю почти весь пятый класс и, вернувшись с каникул, пошла снова.
Ванночки, растворы, баночки, прищепки, пленки, бумага – все это очень вдохновляло, было похоже на магию, алхимию, я действительно была от всего этого в полном восторге, всюду носила с собой фотоаппарат, щелкала дома, набережные, лужи, деревья, тратила на пленку все карманные деньги и клянчила еще (бабушка по папе была в этом смысле добрее бабушки и дедушки по маме и поддавалась чаще – только сейчас я понимаю, чего ей это стоило). Боюсь, великого фотографа из меня не получилось бы в любом случае, но из кружка я вынуждена была уйти не поэтому.
Был конец ноября, суббота. Для непетербуржцев скажу, что в пять часов в это время у нас уже кромешная тьма. Мало этого – валил сильный мокрый снег. То ли поэтому, то ли почему-то еще на кружок пришла я одна, больше никого из ребят не было. Около сорока минут я занималась. В лаборатории был выключен свет, горел только лабораторный фонарь, я закручивала пленку в бачок, заливала проявитель, возилась с фиксажем, ополаскивателем, сушила и собиралась печатать. Руководитель кружка сидел на стуле в углу лаборатории, несколько раз я о чем-то спрашивала его, и он оттуда подавал советы: «Подержи еще две минуты», «Лей еще воду, не жалей», типа того. В какой-то момент у меня заклинило бачок, и я попросила его помочь мне. Он сказал: «Дай его сюда». Я подошла к нему с бачком, он взял его, отставил в сторону, крепко ухватил меня, усадил к себе на колени и стал мять грудь, спину, бока и попу. Он говорил: «Ну что, маленькая сучка, ты этого же хотела? за этим пришла? ты же хочешь? Ах ты сучка». Я не могла пошевелиться от страха. Он развернул к себе мое лицо и стал целовать меня в губы, залезая языком в рот (напоминаю: чеснок, пот и табак). В этот момент я поняла, что сижу на твердом члене. До сих пор я видела только неэрегированные члены – будь то Эрмитаж или продленка в школе, – тут меня наконец осенило, что с ними происходит и как именно член можно вставить в женщину. Пазл сошелся.
Я несколько раз слышала слово «изнасилование» – в каких-то взрослых разговорах и по телевизору, – но смутно представляла себе, что это такое. Руководитель кружка продолжал шептать ах ты, сучка, маленькая дрянь, и я поняла, что то, что со мной происходит, и есть изнасилование.
Думаю, это было что-то вроде аффекта. Я сильно укусила его, вскочила, кинула в него несколько попавшихся под руку предметов, схватила куртку, сумку и выбежала за дверь. Он догнал меня внизу, во дворе. Больно схватил за шею и со злобной яростью пробормотал в ухо: «Я тебя убью, если ты кому-нибудь расскажешь, ты поняла? Я убью тебя, сучка, дрянь малолетняя». После этого оттолкнул, и я, поскальзываясь на снегу, побежала на улицу.
Я ехала домой в почти полном вагоне метро – растрепанная, в незастегнутой куртке, с квадратными от ужаса глазами, меня трясло. Думаю, что если бы я увидела в метро такую девочку сейчас, я бы обязательно подошла и спросила бы, что с ней случилось. Меня никто не спросил, в те годы это было не принято. Если бы спросили, я, возможно, не выдержала бы и сказала, что меня изнасиловали. В тот момент я была абсолютно в этом уверена. Я чувствовала себя именно маленькой сучкой и малолетней дрянью и ненавидела скорее себя, чем руководителя кружка (напоминаю: доброго, веселого и любимого всеми). Домой я пришла, уже немного отойдя от аффекта, в застегнутой куртке и с каменным лицом. Мама отчитала меня за потерянный шарф, я ничего ей не сказала. Фотоаппарат я убрала на дно ящика в шкаф и, конечно, больше не появлялась в кружке.
Я знаю немало женщин, прошедших через нечто подобное в детстве. Полное совпадение в целом и в деталях – начиная с того, что это всегда либо учитель, либо родственник, например, дядя, во всяком случае, уважаемый член общества, заканчивая тем, что он всегда будто бы в шутку сажает ее на колени. Подозреваю, что и большинство мальчиков проходят через это, но им трудно об этом рассказать даже спустя десятилетия.
По сегодняшний день события того вечера остаются одним из самых страшных воспоминаний моей жизни. Дело не только в том, что это жутко само по себе – когда существо в три раза больше тебя хватает тебя и намеревается тебя трахнуть в тот момент, когда ты не просто к этому не готова, но даже не представляешь себе, что это значит, – это очевидно. Намного страшнее другое. Чувство вины и обращенное на саму себя подозрение. Много лет, перебирая в голове весь сексуальный опыт моего детства, я не могла не задаваться вопросом: а может быть, я, малолетняя дрянь, действительно этого хотела? Может быть, я, маленькая сучка, и в самом деле выросла как-то специально развращенной? (Вот хоть бы и из-за неполной семьи? – бульварный фрейдизм уже тогда был на марше.) Наконец, может быть, под коркой ужаса и отвращения на дне меня, в тине и водорослях, распускала жабры рыба удовольствия? Настоящего сексуального желания? Может быть, и до сих пор, помимо своей собственной, я отбрасываю и тень одиннадцатилетней девочки, которая хочет, чтобы ее слегка насильно трахнул большой взрослый мужчина? Задаваясь этими вопросами, я не могла не находить на них ответы. И даже сейчас, когда я все уже знаю и понимаю, эти вопросы вызывают у меня ужас – как тигры в клетке зоопарка: замки надежны, но тигр жив и опасен.









































