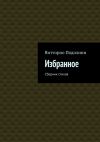Текст книги "Прогулки вдоль линии горизонта (сборник)"

Автор книги: Ирина Листвина
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
1
…Отщёлкнет ключ щепу с сухих поленниц.
Под снегом оперишься ль наконец?
Неприспособленный приспособленец,
питомец, и подзимок, и птенец.
Ты приручён, твои ручьи застыли,
ты окольцован колкий снег клевать,
ищи себе тугие бритвы-крылья,
твоими – стужу не поколебать.
Шеренги крестиков – канва по снегу,
канавки поворот, как бурка, сив…
Дым по оси земной покрыл полнеба.
Кулич со свалки – досыта ль красив?
Бросай же зимний плод, земную тяжесть
на гулкие ладони мостовых.
Бумажный змей застуженный приляжет
всей пестротой под два крыла живых.
(Твой крест небесный в меловом вертепе
чудесной силой чьей-то веры теплой[22]22
Теплая вместо тёплая, как в церковных текстах, где нет букы «ё».
[Закрыть]…)
Что ж, небо чернокрылое ушло,
и копья звёзд тебя не пригвоздили.
Сиянье нимбов в голубом горниле
тебя не опалило, не сожгло.
2
Вот только бы не вспомнить как-нибудь
что твердь – тверда. И что тяжёл, как ртуть,
последний из блуждающих трамваев
(другие уж «промчались, завывая»[23]23
Из строфы забытого поэта 20-х гг. Михаила Голодного: «А трамвай как сдунет ветром, / Он промчится, завывая, / Профиль юности бессмертной / Промелькнёт в окне трамвая». («Снегопропады: С птичье человеческой фигуркой»).
[Закрыть]),
тех, с яблоками вмятин на боках
широких… тех, что в послужных бегах
отскрежетали все свои моленья
и оседают медленно в коленях…
Дотла сожжёт подённый луч жестокий
билет в пустом кармане и ключи.
Прощай! Белеет парус одинокий
сквозь пепел-снег…
И белый свет горчит.
Ал-ру Ке-ну
(Моя бездомная любовь)
I
Снег за окнами мягко теряется где-то,
время каплет так близко.
Во сне
вдруг разбилась сосулька, бездумная флейта,
что один раз звенит о весне.
…Я бежала, не помня себя от разлуки,
поезд мчался за море, за твердь.
Из прозрачной травы
сквозь замёрзшие руки
я училась на солнце смотреть.
В мире утренней алости нежно и грубо,
плеском вешним окрест обойдя,
пели вóды (наяд[24]24
Наяды – божества ручьёв (из древнегречеких мифов).
[Закрыть] мимолётные губы?)
о сверканье и шуме дождя…
II
…Ближе к утру
сольются (с затверженной болью)
стук колёс и следы на песке.
Я не знаю, не жду. Всё, что было – невольно,
снег, серея, твердеет к весне…
Не в своих беловежьих и заспанных царствах, —
глубже голоса, в горле-спине.
А слова – наугад, наизусть? – род лекарства,
чтобы быть наяву, как во сне.
В том немыслимом сне
снег летит вместе с летом,
в луннооком заоблачном сне —
нет разбитой свирели. Эолова флейта[25]25
Эолова флейта – по аналогии с эоловой арфой.
[Закрыть]
мне бездонно звенит о весне.
(но – и молитва)
Из цикла «Снегопропады»
…Сумеречной снастью сводит мир с основ
снег…
Схожу – во власти тысячеоких снов.
Сузилась ли пучина, ширится ли волчком,
бьётся путь в паутине с тонущим зрачком.
Снова Земля проходит точечный зенит,
время натянулось, крови связь звенит.
Снова тише ли, громче повторять от сих:
«Эту чашу, Отче, мимо пронеси»[26]26
Из «Гамлета» Б. Пастернака.
[Закрыть] —
и до сих… Не ставить нам, не воздвигать,
вёрст во мгле не править, мук не избывать.
Только переходов «тронутых»[27]27
Тронутый – немного не в себе, просторечие.
[Закрыть] черты,
только снегопадов сóлоны гряды,
только б не покинуть – так легко уснуть! —
этот нитевидный, еле внятный путь.
Помни: «И потомкам странен голос тех,
что в котомках тонких уносили – снег».
Ал-ру Ке-ну
(Моя бездомная любовь)
1
Вдруг снова днём, – как белой ночью.
Откуда эта тишина?
Ведь осень в городе хлопочет,
недавно началась она.
Да, воскресенье в самом деле,
вот отчего на даль версты
Гостинодворские аллеи
стоят пустынны и желты.
А в Павловске дни как газеты,
(что шрифт смешали с домино).
Там привокзальные буфеты
пыхтят… И в них ещё полно.
Бумагой, а не тягой шмельей,
шуршат оборванно кусты.
И в этом – весь конец недели
до наступленья темноты.
2
Ты помнишь взлёт косых и рдяных,
летучих, как косынки, туч?
Вдоль притолоки покаянно
склонялся к нам последний луч.
А утром дождь по древесине
летел… Что пело сквозь него?
Златой мелодии Россини
улыбчивое торжество?
Нет, кто-то клавиш в дачной сини
касался – до рассветных рос,
заплаканной былой России,
весны и ветра виртуоз.
3
Мне снится плач ребёнка горький.
Да водосточная труба
лепечет, льёт скороговоркой
хлопки невыжатых рубах.
И в пробужденья метке краткой,
когда в глаза метнётся ночь,
знать – явственно, но и украдкой, —
что ничему нельзя помочь.
Что смерклось лето, им покинут
в полях
полёт дождей и птиц.
И время дням слагаться в кипу
никем не тронутых страниц.
(Снегопропады)
Одинокий свет и морозный ворс,
листовой воротник-карниз…
И протает ли с жести изморось
иль под утро бросится вниз?
Надвигаясь, плывёт и плавится
Айсбербург[28]28
Город айсбергов, срединное «г» стёрто в соответствии с неписаными правилами языка.
(«Снегопропады: Послеполуночный»)
[Закрыть] накалённых лбов.
В стройных снах со дна надвигается
полк фонарных калек-столбов.
В гололобье крыш
снег бормочет: «Ночь».
На домах туманность рубах,
слуховая и одиночная
с чердака – в водосток труба.
Прилегла душа в тихом холоде,
на глубинной дельта-волне[29]29
Энцефалограмма мозга включает и дельта-волну, соответствующую состоянию наиболее глубокого сна.
[Закрыть],
гаснет Эго (и эхо) города,
воск неоновый в вышине
как сквозь копоть… Сколько их, медленно
тьму светлящих капель в саду?
Шорох? Зов ли? Идти мне велено:
«Слышу, слышу,
спешу, иду…»
Ал-ру Ке-ну
(Моя бездомная любовь)
I
Бессонница в чёрных томах,
бег
белых полей наяву.
Я в серых и жёлтых домах
жизнь – вместо себя – проживу.
Сны робко нисходят за мной
с глядящих в забвенье зеркал,
Твой облик стал прядью льняной
(заброшенной в лунный овал).
Дрожит, как разбитый фонарь,
древесными гранями сад.
Бьёт в колокол старый звонарь
собора любви и утрат.
Там в узком, как рана, окне
дамасских клинков голубей,
застынут, забыв обо мне,
химеры минувших скорбей.
II
Там в самую раннюю рань
небытия забытьё
шепнёт: «Есть льдистая грань,
легко соскользнуть с неё»
Там время – кормчий впотьмах.
Весь век мой будет оно
нести к тебе на руках,
но – только в это окно.
(Снегопропады)
Белые листья слетают мои,
красные, жёлтые падают с крон.
Белые листья – в четырёх стенах,
Чёрные – по ночи – с четырёх сторон.
Ими заполнена, ширится ночь,
красные, жёлтые не в силах помочь.
В ком[30]30
В снежный ком.
[Закрыть] – большой, скомканный
(со звуком «клэп-клок»[31]31
Звукоподражание, составленное из двух односложных англ. слов: clap – хлопать, clock – часы
[Закрыть])
белый попал, неисписан, листок.
В окна стучит знаки морзе
Мороз,
колет в сознании точки насквозь.
Дом стеклоокий, что наискосок,
красные, жёлтые светят – кому?
Им в голубом – на прощанье – дана
милость: кружась, завораживать тьму.
А за окном
треугольник окна,
сложен, отослан, белей полотна.
Но неопознан его адресат,
Чуть рассветёт, он вернётся назад.
Ал-ру Ке-ну
(Моя бездомная любовь)
Это пригород,
куст и изгородь,
горе, счастие мимолётные,
скрытных крыл трепетанье лёгкое.
Это иволга – «милый, милая»,
это снегири – «снег с ресниц сотри»
и синичий глаз – «спички свет погас»,
это коростель —
«скоро стлать постель».
У малиновки – мал-малинов сад.
Молния! —
И куст ринулся назад,
но всю ночь в окне плакал, не дыша:
«Ты прости, моя малая душа».
Так и сплыл наш дом
лепестком к луне,
о тебе одном плачу я во сне.
Жаворонка жар с тоненьких небес
только продолжал,
только о тебе.
(деревьев и статуй) ночью[32]32
Этот снегопропад, названный здесь ледоставом, заканчивает оба цикла «Шансон Сон» – и лирический, и абстрагированный (элегические стихи и основную часть «Снегопропадов» (Написанную одновременно с ними.)).
Он – о застывании любви, которая останется на всю жизнь, но обречена не на естественное, тёплое существование в живой сущности души и тела, а на иную его форму, подобную медленно застывающему воску. И всё же – вопреки всему – живому, потому что затаившему в себе пламя и свет свечи.
«Снегопропады: Ледостав Летнего сада».
[Закрыть]
В Элизий улетает
Их лёгкая душа
А. С. Пушкин
Ведь можно жить при снеге,
При холоде зимы.
Как голые побеги,
Лишь замираем мы.
Д. Самойлов
(Снегопропады)
Часть вторая
Вспыхнул чиркнувший снег,
лёгкие ресницы,
до утра к дрёме век
каменных – лепиться.
Вспыхнул в камере сад,
чёрно-белый, чёткий.
Статуи стоя спят,
тени на решётке.
В камне – воска ожог,
колебалось, тлело
чуть живое в чужом,
лёгкой тени тело.
Но не вспыхнет извне
ласковое пламя.
И нельзя свет в окне
удержать руками.
Свет ночной, свет всегда
контурный и лунный —
выплеснут, как вода
из разбитой урны[33]33
Известная статуя с разбитой урной, из коей льётся струя воды.
[Закрыть]
На руке мокрый снег
(хлороформа клочья?).
Не пролить – проще б! Нет
слёз и глаз – воочью.
Снег летит… Им дыша,
нежны ль губы статуй?
Свеч прозрачных душа,
пар голубоватый.
1969 г.
II. Подмена рar depit[34]34
C досады (фр.).
[Закрыть]…И отголоски
Д. Ф-су
Иногда торжество ложных чувств над привязанностью пагубнее для неё, чем измена.
Ж.-Ж. Руссо
Всё. Прощаясь, мы молча с тобой постоим.
О прошедшем – ещё помолчим, погрустим.
(Но когда же он скажет мне просто:
«Прощай!»
И покажет-подскажет мне, как отвечать?)
Ты, вина, – чья ты тень? Что маячишь в углу,
что боишься и шага не ступишь к столу?
Зря склонялась ты, тень, то ко мне, то к нему,
каждому прошептав: «Я ничья – никому».
Зря металась, таясь, от меня, от него:
«Не хочу, – мол, – ни лгать, ни пугать никого».
Скрыв упрёки, как прячут безжалостный стон,
ты в ногах, на полу танцевала бостон.
Без измены окончился молча наш день.
Сгинь в ночи ты, сообщница, общая тень
Этой ночью падала луна,
изредка скрываясь за домами,
и стояла в арках тишина,
дева с поминальными цветами.
Падала в обычный небосклон,
падала то медля, то срываясь,
вслед дома – спокойно колебались
однотонней инфрасерых[35]35
Известны инфракрасные и ультрафиолетовые волны, они невидимы. «Инфрасерых» в природе нет, но всё та же невидимость позволяет ввести их в текст, как метафору.
(«Подмена par dépit»: О падении).
[Закрыть] волн.
В тёмных стёклах с метинками льда
(в памяти – такой же слой изгнанья)
падала Селена в бессознанье
млечным слепком детского гнезда.
Хоть шаги неровны и длинны,
твой двойник случайным был прохожим.
Что он знал о городе, похожем
на раздробленную персть луны.
Свет, как стон, прерывисто лучист,
вдруг померк, дойдя до изголовья.
…Мел скрипел, шуршал осенний лист,
отчертив квадратики безмолвья.
Падала и падала луна,
зеленела медь, мосты вставали,
Нет, не стала падалью она,
но её на лунки разорвали.
Чьей-то жизни не было как нет.
Кто ты, призрак, вечно уходящий?
В перегонном кубе стынет свет —
известковый, резкий, жалко льстящий…
…В городе глубок ночной покой,
смолкли птицы, отключился грохот.
Воротник подняв, бреду домой —
к свету фонарей за поворотом.
А над Невой – посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина…
О. Мандельштам
(Снегопропады)
На Васильевском низко, клубами,
пропадая в подземных сильфонах[36]36
Сильфон – гофрированная раздвижная труба.
[Закрыть],
глух, впадал снегопад перед нами
в лобный, вдолбленный вакуум сонный.
Снег взмывал, проплывал под ногами,
пролетал с непоклонным наклоном.
И чернея главами, колонны
выступали на миг из ампира,
как из призрачно буйного пира.
И корсетные рёбра тех залов
прогибались, шурша несказанно,
а фасадам – глаза застилало.
Но зарницей на миг из ампира
колокольное яблоко мира
(снегопада свеченьем сверхочным
рассечённое, в точечных толщах) —
раскололось на срезе…
Вот площадь.
Оселок ножевой[37]37
Этот переход уподоблен здесь оселку (но огромному) уличного точильного станка, какие тогда встречались нередко.
[Закрыть] под ногами,
отражается в небе над нами…
Да как спички ли, семечки – люди
(а другого уж больше не будет)
над искрящим бессолнечным срезом —
сердцевины наклонной, чернея,
всё бегут, оглянуться не смея,
шаг держа, под полою таимы,
тёплым дымом полынным хранимы.
«Помоги перейти!» Но он тоже
с круга на круг, а выйти не может.
И по острой, как порох, пороше
нам метаться на спичечных ножках.
(Муравьиные лёгки поминки,
средь снежинок чернеют кровинки.)
Снегопад не поможет нам в горе,
он идёт, как волна в Лукоморье,
к Стрелке, Биржею втянутой в площадь.
Но долбя островные составы,
кран[38]38
Башенный, на другом конце острова, в Порту.
[Закрыть] грох-бухает: в облако ночью,
в наобум, в надколонные главы,
в ледяные глазницы ампира…
Вспомни – «солнце, посольства, Пальмира»[39]39
Вольный повтор эпиграфа (из О. Мандельштама).
[Закрыть]
То, что было, – осталось прекрасным,
но былое-то смёрзлось, как тундра…
Ты очнёшься пронзающе ясным,
словно гонг пред отплытием – утром…
Л. С-ни
…И отголоски (первый)
Лестница смутной, но белой ночью,
ступенек стаккато, споткнусь вот-вот.
Скрипичным ключом, вот только короче,
по коридорам носится кот.
…Бравурное что-то мешается с Брамсом,
шаги на улице, гомон и плач.
Дана полу-явь нам. Не надо бояться
самых немыслимых неудач.
И в дрожи комнатного коллодия,
в струнном сближенье плеч и времён
пробует встать, оживает мелодия,
ключ, биение, камертон…
Я и не знала, что не забуду
зеркало в сад и ваш голос глухой.
Ступенек – приметы, призывы, причуды?
Нет, лишь прохладный ночной покой.
Светятся в городе (светлом не очень)
поровну – быт, неизменность и грусть
сквозь проруби окон в белые ночи.
Считаю их медленно… учу наизусть…
Небо горбится плавно, голубо,
солнце – не огонь, подаяние.
Серебрит листва твою голову…
Тени, блики, сень увядания.
От кувшинок – полушки талые,
и потуплены улиц головы.
Тихий голос поёт литанию,
улетают птицы из города,
Что ж, прудов опустелых лебеди,
ранний снег ли на ветках бережных,
листопад сквозь дождь —
множит знак беды?
Солнца пригоршни – в воду денежкой?
Шаг. Канала вдоль уз, с подсказками
от зимы,
льда наплыв ли, таянье.
Умолкала музыка ласково,
застывала даль – «До свидания!»
Пустота стоит смутно каменна.
Я одна – отрицать и каяться,
серебрит-темнит амальгама на
паутине слёз да тоска моя.
1972 г.
Написан значительно позже остальных.
[Закрыть]
(Снегопропады)
Осень, подмешавшая истому
в невесомость кротких, кратких дней.
Профиль неба в проводах, в изломах
быстрых серо-золотых ветвей.
Кажется, прозрачный этот свет
(к Рождеству. И поколеблен не был) —
затемно окутав дом и небо,
смыл железо стылое на нет.
А задует и потянет вниз,
дрогнет и забьётся по карнизу
мимолётно мишура ветвей,
финифть с тенью, солнечных и сизых.
(проскользнёт по кромке серых дней…)
Серых дней смутна лебяжья шерсть,
спиц мельканье, шаткая ограда,
ненароком сбросишь петель шесть,
и в гнездо пробьётся луч отрадный,
сбив завалы снега с наших душ —
блеск подсветки —
с ярких улиц в глушь —
позовёт на театральный ужин.
(Уж стекло заволокла не стужа —
светло-золотистое вино.)
Но – ненáдолго гостить, раз в лужах
кровельным железом крыто дно.
…
Станет ветер рыскать день-деньской
и завьёт воронку злая скорость,
чтобы обобрать с ветвей покорных
позолоту, ставшую золой.
Но едва вязанья стужи перст
запросто дотронуться посмеет —
станет острой проволокой шерсть,
а в гнезде – птенец, что он умеет?
И укачивая, трепеща
голыми, безрукими крылами,
талый Ангел дня взлетит над нами,
мгла отступит, сучьями треща…
Боже, дай Ему (и нам) с утра
тихое успение утрат.
1971 г.
…И отголоски (второй)
из «Переводы из N. 1»[43]43
«Переводы из N.1» см. много ниже.
К сожалению, бывало и так, что у А. Крэдль (см. ниже) уцелели только 2–3 строки стихотворения или 2 строфы баллады. Их пришлось восстанавливать в её стиле. Эти – именно из таких. Они даже и не переводы, а стихи, основанные на «заданных строках и размере». что и позволило поместить их здесь. («Переводы из N»: Из ранней лирики)
[Закрыть]
«Ты не из тех, кто выживает
ценою лжи длиною в жизнь»[44]44
В (последнем и коротеньком) ЛИТО Г. С. Семёнова эти две строки были нам как-то раз заданы как зачин.
[Закрыть] —
Скорей из тех, кто вышивает
по краю пропасти во ржи.
Цвет василёк на пяльцах лета,
луг, горизонта колыбель,
тенистый хоровод в полсвета
и лёгкий виноградный хмель.
Господь прошёл. Темно и рано.
Пред птичьим звоном на заре
коснулся Он глубокой раны
всех, званых позже умереть.
Земля уходит в миг разлуки,
в овале вьющемся кружа.
Стрижами вслед взмывают руки.
И зёрна вверх идут, шурша.
Как сквозь фарфор и пепел,
я на ладонь смотрю.
А день, нелеп и светел,
вторую ждал зарю.
Снег, дуновенье пара
и лайка облаков…
Что плоть, как не опара?
В ней прах иных веков.
Всё бродит ли закваска,
трепещет тень ли, свет,
но не даётся ласка,
и отрешенья нет.
Мне – вспомнить ликованье,
блеск августа и гром?
Я опыт рисованья
твой на песке морском
была. Как это было
давно и навсегда,
все очертанья смыла
шершавая вода.
Что ж, мне остались арфа
Эола да пески…
След реактивный шарфа
воздушной, злой тоски…
Не крест, а снег и верба,
жар перистый и лёд.
Я сплю, но рокот ветра
dahin[46]46
«Туда!» – в тот мир, мир иной – из немецкой лирики времён классического романтизма. (Гёте, Шиллер, Бюргер, Гейне).
[Закрыть], к тебе зовёт.
Кричащий комок из глины,
из глины с солью морской,
со смертной и лебединой
(что воскликнешь) тоской?
Выразит крик отвагу
клятву насмерть скрепить?
Нет, ледяную влагу
с солью до дна мне пить.
Ты вырван один из сада.
Я водоросль в снегу.
В ограде моя отрада
спит – на ином берегу.
Решётчатый дом вороний,
сверкнувший на солнце шпиль…
И некому больше вспомнить
о нас сквозь снежную пыль.
(по Гайдну[47]47
«Прощальная симфония».
[Закрыть]: гаснут свечи, музыканты уходят)
(Снегопропады)
Кто здесь остался? Только снег,
заброшенный протальный лоскут,
да свечи, что из века в век
мерцают тёплым, внятным воском.
Сквозь кресел лиру[48]48
Лира (и овал) – формы былых филармонических кресел.
[Закрыть] и овал —
пыль звёзд в петлицах из лазури.
Как если б плющ сокрыл провал,
два века на миниатюре.
Освободилось столько мест.
Вокзален музыкальный ящик
и тьма смыкается окрест
застигнутых и уходящих.
Блок в снежной маске встал без сил,
и пламень, голубь шестиклинный,
звездой клубящейся проплыл
над колыбелью Коломбины.
С ним век ушёл под землю лечь,
гортанно гаснущий, бездонный
эон… Ростральный призрак свеч
на белой синеве колонны.
Нет обречённости души —
чуть раньше, много ль позже Баха,
но скрыт рассвет и смерклась ширь
гармонии
в струенье праха.
Что ж, вновь – и в полночь, и в ночи
лей, прожигая фалды мрака,
свой огнь и свет, звезда свечи…
В зигзаге оборотня-фрака.
Часть третья[49]49
Прости нам, Господи, прости…
Как долго (долго ль – мне?) брести
продрогшей тенью бездорожья?
Сам вскрик души моей: «Дыши!» —
ужели в чём-то вызов ложный?
Как возникает вновь трава,
когда земля с зимы мертва.
Как голубеет ломкость зданий
весной холодной, в дымке ранней, —
она шатается сперва.
И как размытый снег – слова,
что дремлют в ране бессознанья…
Прости и не оставь. Внемли,
ведь я росток твоей земли.
Прости и корни, и долги
в ночи земной, до первой зги.
Когда в ней оживёт трава
и снег растает, как слова:
«Весной холодной, в дымке ранней…»
Вернее, всего лишь отрывок из неё.
[Закрыть]
Отрывок из малой поэмы
«Ночные разговоры»
(Разговор одинокого человека с его невидимым Ангелом)
II
«Алло, алло… Да, добрый вечер, —
случайно набрала я „вечность“. —
Мне б „скорую“![50]50
Вызов машины «Скорой помощи».
[Закрыть] О, как-нибудь!»
Там – в словарях – нет слова «скоро»,
мне ж не расслышать – в горе ль?
В горы?
«Что? – отвечают – Долог путь».
Гудки постскриптум подтверждают,
что жить велят и продолжают,
что этому нельзя помочь.
А облака над переулком
восходят в горы. Хладно, гулко,
всю нескончаемую ночь.
III
Ширококостный тур, оратай,
меч обнажённый и крылатый —
таким встаёт в проёме Свет.
Не отроком большеголовым
пралучезарного былого
небесной родины,
о нет…
Он нить светящуюся, совесть
жжёт.
Медный зык свергает в пропасть
наш слой[51]51
Будущий археологический?
[Закрыть] истории трубой
в рёв водопада… Зря я плачу,
(едва ли я хоть что-то значу)
склоняясь молча пред Тобой.
Площади – окна[52]52
Из второго сборника «Прогулок вдоль линии горизонта» (Часть первая).
[Закрыть]
(1971–1979)
«Снегоземье» и «Площади – окна-1»,
(включая цикл «Шары»)
О Снегоземье
(Отрывок из повести)
Первым названием этой части сборника было «Площади – Окна-1», но потом его сменило «Снегоземье».
…Переезжая, мы всё глубже и дальше забирались в Невский район. А когда добрались до Правобережья, то из единичных «Снегопропадов» возникла тема «Снегоземья». Если у водной стихии, моей самой любимой в детстве (море, озёра, дельта большой реки), были берега-границы, до которых можно доплыть, то для российского равнинного, но в том числе и городского (в особенности окраинного) снегоземья характерна размытость и зыбкость. И ещё – пугающая бескрайность.
Новострой[53]53
Напоминаю, что речь идёт о 70-х, когда эти новые районы только возникали, но ещё не были застроены.
[Закрыть] (для тех, кто вырос в центре города, столь целостного архитектурно, что в нём издавна всё соразмерно), был синонимом бессвязности, путаницы – вплоть до полураспада. Его едва намеченные в 70-х кварталы были своего рода городскими «белыми пятнами». У них не было стиля, общего с городом да и ни малейшего сходства с ним.
Они были как бы вырезаны ножницами из почти не заселённых снежных пространств и наскоро, наспех прилеплены к городу в виде пустырей. И на этом «новейшем месте пусте» стали медленно расти тускло окрашенные, разбросанные как попало, и то вертикальные, то горизонтальные «параллелепипеды» новостроя.
…Итак, мы переезжали в Невский район всё дальше, глубже… Первой была обычная Невская застава, старая заводская окраина, она быпа проще и простонароднее центра, но по духу ещё оставалась питерской. Но чем дальше мы забирались, тем отчуждённее и непривычнее становилась картина окружающего мира.
Повторяю, «Снегоземье» первоначально было расширением «Снегопропадов». Но стихи эти быстро менялись под влиянием запустелого и ещё лишь возникающего Правобережья, с его разроненными – даже и не совсем домами, а корóбками, кубами или даже «комодами». В первом новоселье (в 60-м году на ул. Ольминского) тоже имелись пустырьки, но их было куда меньше. Да и по просторности им было далеко до забредших в город правобережных осколков северной равнины.
К тому же на левом берегу преобладали не особо презентабельные, но аккуратные пятиэтажки. А на правом их словно что-то растягивало то вширь, то в длину, то в высоту (последнее намного реже).
Таким рисовывался мне масштаб Снегоземья, и оно всё менее казалось привычным и полуручным, как знакомый уличный пёс. Оно дичало, оно наступательно надвигалось по трамвайным рельсам, почти как по железнодорожным.
Но повторяю, вначале оно виделось мне просто расширением «Снегопропадов», хотя куда более жёстким, «стандартизированным» (но в то же время и аморфным, даже бесформенным, как бесконечно тянущаяся белая фуфайка).
И казалось, что нет ему ни конца ни края, хотя до настоящей российской равнины со стаей волков оно никак недотягивало. И даже было (в этом смысле) мелковато, как Маркизова Лужа по сравнению с Балтийским морем.
Да, вначале выходила широкая развёртка «Снегопропадов», но не любых[54]54
А «Снегопропады» – они именно любые, немногие из них слегка напоминают акварели с подсвеченными красками.
[Закрыть], а тех из них, что строже, «монохронней, графичнее». Тех, где имелся не набросок, а черновой эскизный план, сделанный рейсфедером и тушью на белой бумаге, будь это схематичный рисунок в блокноте или эскиз студенческого чертежа. (Как будто в моём жизненном пространстве фантастически продолжались те черновые чертежи на четвёртом курсе, с которыми я так и не сумела справиться. И сбежала от них в технические переводы.)
Впрочем, и сама «окраинная жизнь» тогда казалась мне упрощённо схематичной, чуть ли не голой. Рано утром на работу, давка в транспорте, затем бег с моста через Неву по обледенелым ступенькам и опять бег по ходу или против ветра (как в ледяном туннеле) по проспекту Обуховской Обороны до режимной заводской проходной… и так далее, в том же духе.
А в темноте (зимне-ранней ли, но чаще поздней) возвращение домой. Я чувствовала себя при этом движущейся круглой точкой в конце пунктирного пути по пустырям, заметённым снегами. Метро из центра кончалось станцией «Площадь Александра Невского», дальше были мосты, трамвайные пути, долгое и бесплодное ожидание на остановке. А случалось, что трамваев не было, но находилась попутка (садиться в которую было страшно? Не совсем, «человолки»[55]55
Из строк А. Вознесенского: «А если наземь упадут, / Их человолки загрызут».
[Закрыть] тогда были редкостью, так что всего лишь страшновато как-то).
На фоне абстрактной обнажённости и обездушенности пространства новостроя (белый ватман, линейка с движком, серые карандаши растушёвывают чёрные прямоугольные линии) почему-то резче проступали контуры иных явлений моей собственной жизни (как обитателя этих не то пустынных, не то пустотных мест). Всяческие скольжения, падения, «судьбы скрещенья»[56]56
Из стихотворения Б. Пастернака, но здесь с иронией.
[Закрыть], да и сугробы, бег во тьме спортивным шагом, порой провалы, карабканье (и по жизни в том числе).
Во всём этом совсем не осталось ни музыкальной экспрессии, ни гармонии. В сон врывалось громкое лязганье трамваев, возвращавшихся в парк до двух часов ночи и вырывавшихся оттуда в полшестого утра. Так начинал преобладать (и притом с педалью) жёсткий контрапункт авангардизма. Дирижёром был вихрь, а музыкальным фоном – скованные своей стандартностью, жёсткие и безлично-безликие снежные пространства (не то чтобы «идущие войной» на мой прекрасный город, но основательно берущие его «в кольцо окружения»).
Кто же в сущности был героем этих стихов, я так и не знаю: я ли сама, случайный ли прохожий, безвестный, растворившийся в Снегоземье и бывший чем-то сродни пушкинскому бедному Евгению? Наверное, героиней (но лишь отчасти) была и «полубогемная и юродивая девочка» Эна[57]57
Её имя также от латинского N, чтобы подчеркнуть обобщённость образа (но никак не его безликость).
[Закрыть].
Или напротив, антипод Евгения? Тиранически жестокий лейтмотив вьюги или даже снежного Вала (Ваала[58]58
Жестокое божество древнего Ханаана, требовавшее человеческих жертв.
[Закрыть]), всем безудержно заправляющий? В нём были черты тёмных древних Кумиров, но преобладали-то российские черты: булгаковского ли Воланда, Медного ли Всадника (но только не из поэмы Пушкина, а из «Петербурга» Андрея Белого). К ним как бы «примагничивало» и иные черты: например, Точильщика из английской сказки о народном восстании, да и Вожатого[59]59
Который на поверку оказался Емельяном Пугачёвым.
[Закрыть] из «Капитанской дочки»…
Но у меня, пожалуй, ещё и не возникло тогда представлеия о genius loci[60]60
Гений местности.
[Закрыть] Снегоземья. Само воображение тупо молчало, когда «в двенадцать часов по ночам» (то есть не совсем, но близко к тому) я измученно брела от трамвайной остановки через бесконечный пустырь к слабо освещённой (от силы пятью-шестью ещё горящими окнами) и очень длинной стене нашей девятиэтажки, стоящей параллельно трамвайным рельсам. Но главным было, пожалуй, и не «уж полночь близится», а монотонная рутинность, повторность и одинаковость предстоящих дней.
Оттого-то я и возвращалась два-три раза в неделю поздно из центра города: из Филармонии, от подруг и знакомых, а позже – из семинара романских переводов (Э. Л. Линецкой). Так как иначе это бело-зимнее однообразие жизни дошло бы (вернее, довело бы меня) до одури, могло бы – и до деградации…
Остаётся лишь добавить, что ряд стихотворений всё-таки по-прежнему связан (но нитью оборванной, с затерянным концом) с городом, со «Владимирским малым Арбатом» моих детства и ранней юности[61]61
В частности, «За госпиталем», «Окна», «Карниз».
[Закрыть].
P. S. Но дело было, пожалуй, не в капризе и личной аллергии на новострой. В архитектуре наиболее наглядно и откровенно выражают себя дух и направленность времени. Непрезентабельные хрущёвские пятиэтажки ещё можно было бы (с помощью штукатурно облицовочных работ) превратить в дома с фасадами (в упрощённом стиле неоклассицизма или постмодернизма). Они были промежуточными, они в каком-то смысле так и остались недоделанными. В новострое же прочно господствовал Стандарт, а само время стало жёстче, оно всё меньше походило на «эпоху наших надежд».
P. P. S
I
Итак, о поэтике «Снегоземья», этого абстрагированного и жёсткого мира (близкой к авангардизму) уже рассказано, как и о новострое начала 70-х, где «площади» были едва намеченными пустырями, а окна шли бесконечными рядами и были «так впечатаны, что не прочесть».
«Азбучный молитвослов» продолжается, но более затаённо. Он становится тихим, прерывистым мотивом с рефренами. Вскоре он вновь напомнит о себе отдельными стихами в полный голос: во второй части сборника, в «Площади – окна 2» (циклами «Паломничества по стопам Блж. Ксении» и «По Святой Руси»).
II
О цикле «Шары».
Всё, что в «Снегоземье» не нашло бы места своей (слегка) цветной окрашенностью, полуакварельностью, да и тематической свободой, ушло в «Шары». Теперь это уже не элегическая, а просто лирика. И ещё – там притаилась та «круглая» цельность мировосприятия (которой я обладала ещё со времён детства и театрика «Кокон»). Теперь она, пусть на заднем плане, переместилась в «Шары».
Увы, Снегоземье не позволило им стать по-настоящему воздушными и взлетать как можно выше. К каждому как бы привязано по камушку (мелкому осколку стеклобетона?). И всё же это шары, но тогдашние, не такие фольклорно-яркие и разноцветно-пёстрые, какими были бы, наверное, сейчас. Но им всё же присущи лёгкие и «фоновые» питерские краски, идущие от Невы, от светло-синего (но также и разного) облачного неба над ней. Вот, пожалуй, и всё.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?