Читать книгу "Райское яблоко"
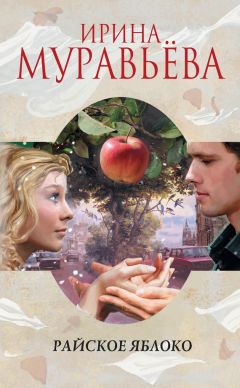
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ирина Муравьёва
Райское яблоко
Глава первая
Алеша
Лето особенно запомнилось Алеше свежим и терпким ароматом леса – он от него просыпался. Сами по себе деревья не могли так пахнуть – так пахла вся летняя жизнь. И листья, и кроны, и вылезшие из земли корни, которые напоминали вздувшиеся вены на руках молочницы, и звери, которые прятались в чаще и там же кормили детенышей. А зверь каждый пахнул по-своему. И было полным-полно птиц и гнезд с их птенцами. Они раскрывали чернильные рты, и мать, подлетая, совала то в один, то в другой жадный рот живого червя. И не было жалости в птичьих глазах, ведь червяк был чужим, а этот орущий птенец – родным сыном.
Алеша был сыном и сам. Родным и любимым. При этом он, кроме страданий, почти ничего не изведал. А может быть, если отец бы не пил, то было бы все по-другому. А может быть – если бы не был актером. Семья заплатила за водку и славу тем, чем положено – болью и страхом.
Обычно артист встает поздно, к полудню, возвратившись после спектакля лишь на рассвете. После спектакля никто не идет прямо домой. Идут в ресторан, или в закусочную, или в гости к тому, к кому можно нагрянуть, не боясь разбудить после одиннадцати. Потом наступает глубокая ночь. Журчит в батарее вода. Тянет холодом в форточку. Алеша, конечно же, спит. И мама. И даже, наверное, бабушка с ее этой вечной проклятой бессонницей. Но каждый из них просыпается, заслышав, как затормозила машина у дома.
– Ну, сколько натикало? (Голос отца.)
– А сами не видите? (Голос шофера.)
– Держи. (Снова голос отца.)
– Спокойной вам ночи.
Cкользнув равнодушным огнем по скамейке, такси отъезжает. Из спальни выходит мама – в длинном халате, тонкая, как оса, и такая же равнодушно-озлобленная, как оса, которой как будто бы все равно, прихлопнут ли нынче ее полотенцем. И если прихлопнут, не очень-то жалко – варенье все съедено, полки пусты.
Потом начинается скрежет и шум. Дверь не открывается: ключ не попал. Опять не попал. Звон. Упала вся связка. А мама, оса, затаилась и ждет. И вот раскрывается дверь, и на маму нисходит лавина снега. На лбу снежный бинт. Значит, только упал.
– Дополз?
– Помолчи! Ребенка разбудишь!
– Ребенок не спит.
– Все равно замолчи!
– Я долго молчала.
– Когда ты молчала? Пусти, я умоюсь.
– Нет, ты уж послушай!
– Уйди.
– Не уйду. Когда это кончится?
– Чтоб ты подохла!
– Не бойся, подохну! Но после тебя!
Алеша зарывается в одеяло и там, в темноте, где тело покалывают крошки печенья, которое съел, засыпая, дрожит крупной дрожью. Ведь мог бы привыкнуть, а не получается.
Бывали, однако, и праздники. Зимою поставили новый спектакль – «Семейное счастье». Когда решалось, кому играть главную роль, отец неожиданно пить перестал и вдруг похудел, побледнел, подтянулся. Глаза его стали тревожными, жалкими. И мама однажды его обняла – когда сели завтракать, вдруг обхватила одною рукою за шею, в другой был омлет, еще весь пузырящийся.
– Не бойся, ты будешь играть.
– Не дадут. Ануфриев метит.
– Ты будешь играть. Я сон вчера видела.
– Хватит про сны!
– Да что значит хватит? Пеку я блины. И сахаром их из кулька посыпаю. Теперь уже точно, ты будешь играть.
Она не ошиблась: отцу дали роль.
Премьера состоялась перед самым Новым годом. И мама накрасила губы так ярко, как будто бы главную роль дали ей. И бабушка тоже накрасила губы. У бабушки есть для кого губы красить. Для Саши, любовника. Женатого, с очень больною женой. Она уже год в психбольнице. История грустная, нервная, долгая, но бабушка терпит. Деваться ей некуда.
От дома идти до театра пешком. Живут Володаевы в центре. Музей Станиславского – прямо у них во дворе, смотрит через дорогу на зашторенные окна корейского посольства. Корейцы одеты всегда одинаково: штаны темно-синие, белые блузки. На каждом корейце значок. С другой стороны от музея растет вековая огромная липа. Она прикрывает музей от дворовых – актеров, старух, стариков и детей. Зимой, когда дерево обнажено, то можно увидеть на стуле смотрителя. Он спит, и его бакенбарды шевелятся.
На премьере было так много знакомых, что маму от страха, что папа провалится, слегка затошнило. Помада вся стерлась. А бабушка – тоже от страха – держала любовника Сашу так крепко, что палец с его обручальным кольцом немного вспотел.
Во втором акте отец, с шелковым шарфом на шее, сказал:
– Ведь я для вас стар. И не спорьте. Я знаю, что я для вас стар!
Алеша напрягся, и тут ему вспомнилось: он был совсем маленьким, кротким и толстым. Гуляли с отцом на Никитском бульваре. Детишки давно разошлись. Алеше хотелось домой, но отец все топтался и грел его руки в ладонях. И вдруг подбежала какая-то девушка. Отец сразу кинулся к ней. Они обнялись и стояли так долго. Она разрыдалась, открыла лицо. Алеша запомнил: лицо было мокрым. И что-то такое отец ей сказал… Да, он ей сказал эту самую фразу:
– Я стар для тебя. И не спорь. Слишком стар.
Мороз был тогда, очень сильный мороз.
На сцене отец его, статный, высокий, с горящими скулами, все повторял:
– Я стар для вас. Слышите, Маша? Прощайте.
И тут же актриса с пшеничной косой вдруг так закричала, что зал даже вздрогнул:
– Вы низкий, вы неблагородный! Как вы… Как вам… Вы знали, что я вас любила! Люблю! И как же вы можете… Как вам не стыдно!
Пошел занавес. Зрители зааплодировали.
– Ну, мастер, ох, мастер! – сказал кто-то маме. – Ведь он же живет! Не играет, живет!
Отец его кланялся. Мама, бледнея, смотрела в бинокль на сцену. Партнершу отца звали Юной Ахметовной. Она жила прямо под ними, на третьем. Мужья ее часто менялись, поскольку у Юны Ахметовны сын-алкоголик. Он то пропадал, то опять появлялся. Ей было семнадцать, когда он родился. Теперь ей исполнилось сорок. Сын выглядит старше, чем мать. Глаза ее – два золотых полумесяца, улыбка прелестна, фигура божественна. Таких, как она, любят мучить мужчины. И за красоту, и за легкий характер.
Крикливая стайка отцовских поклонниц струилась к гримерке рекой из букетов. Но мама раздвинула их и вошла. Алешу втащила, как ватную куклу. Отец, отлепляя бородку, был весел и, видно, смущен своим шумным успехом.
– Ну, как тебе в целом? – спросил он у мамы.
– Сыграл хорошо. Вжился в роль. Даже слишком.
Отец покраснел и нахмурился:
– Хватит! А я ведь как чувствовал… Сразу припомнишь!
– Так я не забывчива. Ты это знаешь!
– А то мне не знать! Паранойя твоя…
– Моя паранойя? А я здесь при чем?
Отец заиграл желваками и сразу сменил неприятную тему:
– Там вроде уже отмечать собираются…
Ему не терпелось от них отвязаться.
– Иди отмечай! Доберешься к утру? Мороз обещают. Смотри не замерзни. И Юну Ахметовну не заморозь.
– Ты дура, Анюта. Хоть Юну не трогай.
– Да мне наплевать! Даже лучше – соседка! Такси брать не нужно. Сел в лифт и приехал!
– Ну, все. Я пошел.
И раскрыл дверь гримерки. Его обступили влюбленные женщины. Букеты в скрипучих тугих упаковках, сцепляясь шипами и лентами, посыпались прямо ему на лицо. Он так и стоял – весь в цветах, он искрился.
Иногда Алеше казалось, что он разгадал их семейную тайну. Над ними, конечно, висело проклятие. Они очень сильно любили друг друга, но только больной и нелепой любовью, поэтому грызли себя и других, как белки орехи. Сгрызали до крови. Взять маму. Она ни на секунду не прощала бабушке, что та развалила чужую семью. А бабушка не отвечала на это, жила своей жизнью и только шипела, когда пропускала синюшное мясо сквозь мясорубку:
– Еще не хватало! Меня ей учить! С больной головы на здоровую! Нет уж!
И быстрой рукою месила кровавое.
Отец же и мама друг за друга боялись. Вот это и было больнее всего. Особенно они боялись, когда кто-то из них заболевал. Им, может быть, было не так уж и важно – ругаться, мириться, молчать по неделям. Им было неважно, в каком они качестве. Но зная, что качество всей их семьи, скорей всего, среднее, а может, и низкое, они и боялись за эту семью, как люди боятся за дом обветшавший и сад, где полно сорняков да вредителей.
В конце зимы у отца случился инфаркт. Его вылечили, но мама как будто слегка обезумела. Теперь она не только прятала от него все спиртное, не только бросала трубку, услышав голос режиссера Ефимова, звонящего из ресторана с просьбой к отцу приехать – «уже собрались», – теперь она встречала его после спектаклей: ходила к театру со старым бульдогом по имени Яншин, который останавливал внимание размером своих очень жирных, обвисших, от возраста вытертых щек – ярко-красных у глаз и розово-рыжих на шее, хотя самой шеи за жирными складками практически не было видно. Мама поджидала отца в фойе, где со стен на нее смотрели актеры с актрисами, и Яншин – по странной и необъяснимой причине – рычал на портрет одного старика с обвислыми, очень большими щеками.
Отец, лишенный возможности улизнуть, смиренно тащился домой вместе с мамой, а дождик, дрожащий и вкрадчивый дождик на них моросил, словно бы в удивленье. Отец обнимал маму крепко за плечи – и так, под одним полосатым зонтом, высокие, стройные и моложавые, как будто они никогда не ругались, а так вот и жили в счастливом единстве, они торопились к себе, а собака едва поспевала за быстрым их шагом.
В конце июня родители вместе уехали на гастроли. Мама, которая понимала, что, как только отец окажется на свободе, так жди возвращенья отчаянной жизни, а стало быть, и повторенья инфаркта, поехала с ним. Алешу же в сопровождении бабушки отправили в дачный поселок Немчиновка.
Приехали. Сад весь зарос лопухами, и над ними, нагретыми влажным теплом, вились подслеповатые бабочки. Дом после долгой зимы отсырел, на стенах была кое-где плесень. На одной половине дома жили бабушка, Алеша и бабушкина двоюродная сестра Амалия из Питера. На другой половине – подруга их юности Сонька. Две эти с младенчества близкие женщины слегка походили на спелые яблоки, упавшие с ветки, размокшие, терпкие. Они очень быстро потели на солнце, краснели от зноя, и лямки их платьев всегда оставляли следы на плечах.
Алешина бабушка от них отличалась. Она не старела, как Сонька с Амалией, но все продолжала любить и боролась за эту любовь горячо, как могла.
Проснувшись всех раньше, она надевала старый черный купальник, резиновую шапочку на рыжеватую от хны, миловидную голову и очень легко, мягким женственным шагом шла к пруду купаться. Кроме нее, в нагретой до пара и сизой воде бултыхались лишь утки, а в самое пекло – сожженные солнцем сельские дети. Сельчан, впрочем, не было, были соседи, живущие в старом селе Ромашове. Село – или, как говорили, поселок – было недалеко, через реку Чагинку. Там были и куры, и гуси, и козы. И жизнь вся кипела вокруг огородов и прочих нелегких хозяйственных нужд. Там рано вставали и рано ложились, и пахло там свежим горячим навозом, а в низких, весьма неказистых домах на всех подоконниках были горшки с растеньем алоэ и красной глоксинией. Дачники на другом берегу Чагинки держались замкнуто, с поселковыми не мешались, имели на своей территории магазинчик, сторожку, где жил пьяный сторож, и лес. Ходили в панамках, а то так и в шляпах, и праздность их била в глаза – сидели в садах и чаи распивали.
Наплававшись в полыньях чистой блестящей воды среди толстых круглых листов кувшинок, бабушка принималась готовить завтрак. К завтраку выходила из маленькой комнаты Амалия в голубом капроновом халате, прожженном тут и там утюгом, и следом – картавая сплетница Сонька.
– Сегодня заказ, – сообщала им Сонька. – Сказали: собраться в березовой роще. Чтобы из поселка никто не пронюхал.
Раз в неделю дачникам полагался продовольственный заказ. Он оформлялся заранее, заранее был и оплачен. Никто из поселка не должен был знать, что в этой невинной березовой роще, прикрытые сверху своими панамками, бездельницы каждый четверг получают наборы прекрасных продуктов. И дешево – кооперативная льгота. И сразу все прячут в пакеты и сумки. Расходятся по одной, напевая.
Вспомнивши, что сегодня четверг, бабушка и Амалия переглядывались. Это их всегда забавляло.
По пятницам бабушку навещал Саша. Выходные он проводил на даче, не ездил в больницу к несчастной жене, и бабушка привычно продевала свою еще сильную женскую руку под локоть чужому неверному мужу, кормила его на террасе отдельно, водила гулять на Чагинку. Чагинка была очень тихой, глубокой, на редкость ко всем дружелюбной рекой.
В субботу вставали попозже и долго, старательно ели нехитрый свой завтрак. К столу подавали клубнику, творог, Амалия делала кашу из тыквы, а бабушка сырники или оладьи. Когда в доме появлялся мужчина, Амалия с Сонькой вдруг преображались. Подводили глаза и припудривали постаревшие лица. Присутствие Саши, его мягкий, низкий, с приятной хрипотцой голос из сада, и то, как он долго стоял в летнем душе, – вода все лилась и лилась, а он пел, – люди часто поют, когда моются, – на них наводили тревожную томность. Они изумлялись, однако, на Зою – любовь в этом возрасте, прямо при внуке! Ну ладно бы просто приехал! Ну, можно. Попили бы чаю, сходили бы к мельнице (достопримечательность и под охраной!). Но чтобы бежать к ней наверх ночевать? А чувства ребенка их не беспокоят! Бог знает, что там происходит с ребенком, когда он лежит в угловой узкой комнате, не спит, и дыхание летнего сада доводит его до головокруженья?
Алеша же с детства привык ко всему: скандалам, изменам, к словам, как на сцене, внезапным слезам и внезапному смеху – короче: всему, что зовется любовью.
Он вдруг начал быстро и резко меняться. Подмышки его заросли волосами, а круглые щеки немного запали. Он начал стесняться смотреть на людей. Как будто внутри его кто-то согнулся от собственных мыслей, и все стало мутным, все словно двоилось, как это бывает, когда заболеешь. Но Сонька, картавая сплетница, сразу учуяла запах Алешиных мыслей. Они были скверными, стыдными, дикими.
И Сонька сказала Амалии с Зоей:
– Алеша созрел.
– Он тебе не клубника! – отрезала бабушка и помертвела.
– А вот вы увидите! Сами увидите. Теперь глаз да глаз. И цыгане придут.
В Немчиновке летом стояли цыгане. Они приезжали сюда каждый год. В начале июля, когда застывала природа от зноя, и даже Чагинка и та подсыхала местами от жара, врывалось в Немчиновку черное племя, все в золоте, жилах, со звоном и грохотом.
Они приезжали в тяжелых повозках. С повозок свисали их пестрые тряпки. Мужчины вели под уздцы лошадей. А дети с глазами как угли сосали отвисшие женские груди. Их девушки были похожи на птиц – такие же громкие, в красном и желтом, – с босыми ногами, покрытыми пылью.
Дачникам приходилось словно проснуться – увы, завершалось их мирное время, когда, скажем, сядешь на пеструю грядку и рвешь себе спелую ягоду, рвешь, потом ее в таз, сахарком посыпаешь и варишь варенье – на целую зиму. А сваришь варенье – ложись отдыхай. В четверг – за заказом в прохладную рощу, а утром на станцию за молоком. Калитки открыты, и двери открыты, и пахнут янтарной смолою стволы.
А тут словно сглазили тихое место. Весь берег зеленый покрылся шатрами, костры потянулись к верхушкам деревьев, и голые дети усыпали воду своими глазами, плечами, локтями, и мокрые их завитки зачернили согретые солнышком волны Чагинки. Пришлось защищаться – калитки закрыли, домашних животных попрятали в комнаты, младенцев теснее прижали к себе: ведь не вырвут из рук-то? Из рук-то не вырвут. Дремучее древнее время вернулось, теперь – кто кого? Вы, черные, в жилах и саже – нас, белых, в панамках, носочках, с ключами от дома?
В Немчиновке, в темных аллеях ее, в садах ее розовых все зазвенело, цыгане ходили по дачам с оркестром – три скрипки и бубны. Три парня с большими зубами, кудрявых, и три гибких девки, босых, черноглазых. У каждой по розе в руке.
В четверг и до них дошло дело – Алеша, Амалия, Сонька и бабушка стояли на стертых ступеньках, смотрели.
– Давай погадаю, хорошие! – крикнула одна черноглазая и розу до крови в губе закусила зубами. – Давай выходи! Просто так погадаю. Захочешь, плати, не захочешь – не надо!
Бабушкино лицо отразило борьбу – Алеша увидел, как брови ее страдальчески изогнулись, глаза заблестели. И, сделав шаг, она оказалась на нижней ступеньке террасы.
– Не бойся, красивая! Дай погадаю! Душа у тебя разрывается, вижу! Иди, я всю правду скажу!
И бабушка, как заколдованная, отворила калитку, впустила к ним всех шестерых. Парни весело и страшно оскалились, озираясь. Девка, что заприметила бабушку, смело схватила ее за безвольную руку и уткнулась в ее ладонь, две других прошагали к Амалии с Сонькой.
– Не надо, спасибо! Я в это не верю! – шепнула Амалия и покраснела.
– Да что мне гадать-то теперь? Отжила! – хихикала Сонька. – Вот раньше бы надо!
Однако стояли покорно, как овцы.
– Ай, что за беда! Ай, беда так беда! – причитала первая девка, явно желая, чтоб все ее слышали. – Ай, сохнешь, хорошая! Он-то гуляет!
– Что значит гуляет? – белыми губами спросила бабушка.
– Женат он, женат! – забурлила цыганка. – Жену разлюбил, вся больная насквозь!
Бабушка оглянулась на близких.
– Он выгоды ищет, – бойко прорицала цыганка. – Ты думаешь, что ты одна у него? Жену похоронит, молодку найдет! Ой, суку-молодку! Уже приглядел!
– Неправда…
– Какая неправда, красивая? Уж им, кобелям-то, законы не писаны! Сейчас он тебя вроде как привечает, ты спать мягко стелешь, покушать готовишь, чего он ни скажет, ты в рот ему смотришь! А как похоронит жену, так и деру!
– И что же мне делать? – совсем растерявшись, почти всхлипнула бабушка.
– Что делать? Пустая ладонь-то! – сокрушалась цыганка. – Не знаю, что делать! Ладонь-то пустая!
И бабушка, c мелко дрожащим лицом, легко, будто девочка, взмыла наверх – и вскоре вернулась с соломенной сумкой.
– Давай – не считай! – взбодрилась цыганка и, выдернув из кошелька две бумажки, опять посмотрела в ладонь. – Ай! Вижу, что делать! Ай! Дай помогу! Есть верное средство, но только присушим уж так, что его не отсушишь обратно!
– Согласна…
– А раз ты согласна, пойдем с тобой в дом. На людях нельзя, у них глаз завидущий!
– Ты, Зоя, куда? – прошептала Амалия.
Но бабушка лишь отмахнулась. Цыганка, простучав грязными пятками, уже была в комнате.
– Алеша! За ними ступай! Проследи! Алеша, ступай! – шипели, как змеи, Амалия с Сонькой.
– Бедовая ты, ай, бедовая, вижу! – заговорила девка постарше, ухватив хихикающую Соньку. – Таких мужиков загубила, что страсть!
У Соньки победно блеснули зрачки.
– А любит тебя, очень любит один, живет в другом городе, очень страдает!
Амалия все повторяла, что с детства нисколько не верит гаданьям, но вскоре и ей набрехали такого, что вся она вдруг запылала, как роза, и даже схватилась рукою за сердце. Бабушка вышла из комнаты полуживая, и три босоногие девки в размашистых юбках, их подобравши, сделали парням знак уходить – один пропиликал на скрипке какую-то песенку, очень знакомую, и шестеро смуглых лихих колдунов, звеня в летнем воздухе связкой монистов, шурша по траве разбитными ногами, пошли себе дальше, белозубо оскалясь, лелея нечистые цели.
За обедом женщины развеселились, хватили слегка прошлогодней наливочки, чтоб не так было стыдно перед Алешей, пересчитали в кошельках деньги, хватились серебряных вилок и ложек и вскоре легли отдыхать. Алеша страдальчески наблюдал разрумянившиеся во сне щеки старой девушки Амалии, плотные наплывы на ее щиколотках, собравшиеся над тесными матерчатыми туфлями, вспомнил статного Сашу, женатого на сумасшедшей Лизе, – и вдруг раздраженье на всех этих взрослых и вроде неглупых людей, на всю их нескладную жизнь, такую неловкую и несчастливую, – как будто толкнуло его прямо в грудь. Ему захотелось заплакать от злости. И, главное, никуда не сбежишь! Ну, может быть, только взглянуть на цыган. Вдохнуть в себя этой цыганской свободы. Хотя это, может быть, тоже брехня: какая свобода? откуда ей взяться?
До места у Чагинки, где стоял непрошеный табор, от их дачи петляла тенистая, в пятнах от солнца дорога. Как это часто случается в особенно жаркие дни, дорога была пуста, дачники все попрятались, и, кроме девушки с распущенными по плечам светлыми, почти белыми, волосами, Алеше никто на пути не попался. Девушка вела рядом с собою велосипед с проколотой шиной. Они поравнялись. Алеша испуганно спрятал глаза, прошел, не взглянул, но потом обернулся: фигурка у нее была тоненькая, невесомая, обтянутая ярко-пестрым платьицем, босоножки на маленьких каблучках, загорелые руки и ноги. Те мысли, что он гнал от себя, набросились сразу, подобные пчелам, покинувшим ульи. Он словно бы даже услышал их звук больной, очумевший, безжалостный, влажный. Девушка прислонила велосипед к дереву и тоже на него посмотрела – неловкий подросток стоит неподвижно и щурится. Она улыбнулась ему – снисходительно. От вмиг обварившего тело стыда Алеша шагнул, оступился, застыл. Она улыбнулась еще раз – сочувственно. Алеша запомнил две эти улыбки, запомнил ее совсем светлые брови, но глаз не запомнил. Она их отчего-то прикрыла ресницами. Он быстро продолжил свой путь. И вновь обернулся, ее уже не было. От этого он испугался так сильно, что даже вспотел. Она не могла столь внезапно исчезнуть: ведь это же он убежал от нее, она-то осталась под этим вот деревом! Он бросился следом за странной блондинкой, но той нигде не было. Не птица же ведь, улететь не могла! Хотя что-то было в ней птичье, воздушное.
Его охватила горячая злоба: в пятнадцать себя уже так не ведут. К тому же девица и нехороша, и старше намного, и ноги кривые. Он попытался вспомнить, как выглядели ее ноги, чуть прикрытые сверху тесным ей пестрым платьем. Да нет, не кривые, а просто худые. И туфельки на каблучках. Невесомая! Но волосы были густыми и пышными. Лица ее он не успел разглядеть. Ресницы запомнил. Ресницы и волосы. Другой бы, наверное, и познакомился, он выглядит на восемнадцать, не меньше. Помог бы ей с велосипедом. Другой бы! Другой бы давно уже и целовался, и лето бы не проводил со старьем, а жил бы один на московской квартире, водил бы приятелей в гости, девчонок… А он вот не может. И все Вероника!
Душа его произнесла имя – и тут же заныла и закровоточила.
До нынешнего лета Вероника была его единственной любовью. Они росли в одном дворе и ходили в одну школу. Сидели всегда только вместе. От этого он и учился на тройки. Но близость ее плотно сбитого тела и скрип то ли туфель ее, то ли ног в белом эластике, запах ее темно-красных кудрей, ее смех – не только мешали учиться, но были важнее всего на земле. Нередко случалось – соприкоснувшись коленями, они так и застывали с горящими лицами. Сентябрь был теплым, она приходила в простой белой блузочке. Стоило ему скосить глаза ей на грудь, как он всегда находил темнеющую виноградину: сосок ее проступал через ткань.
Представить себе, что Вероника – с ее сияющими щеками и кудрями такой густоты, что она краснела c досады, пока удавалось хоть как-то зашпилить их или сплести, – представить себе, что с конца ноября ее, большеротой, веселой и громкой, уже нет ни дома, ни во дворе, а она где-то в клинике для инвалидов, представить такое Алеша не мог. Ему все казалось, что это ошибка, что нужно проснуться, умыться, одеться, влететь пулей в школу, а в школе – она. И все как всегда. И пушок на висках, и темный румянец, и шрамик над бровью.
Она заболела в конце ноября и после гриппа не смогла подняться с постели. Теперь она только мычит, ее возят в кресле. До самого Нового года в школе никто ничего толком не знал. Алеша надеялся, ждал, тосковал, но утром в первый день после каникул бабушка сказала ему, что вчера Веронику перевезли в специальную клинику. Она видела из окна, как подъехала машина, девочку перенесли туда на носилках, укрытую одеялом до самых глаз, и мать ее влезла за ней, куда влезли следом и два санитара, а папа ее, знаменитый артист, которого все узнавали на улице, сел рядом с шофером.
Через несколько дней он повстречал ее мать, она прошла мимо, и лицо у нее было восковым, неподвижным, а отец Вероники, игравший в одном театре с его отцом, и вовсе ушел из дома, отчего бабушка мстительно и несправедливо заметила маме, что он все равно бы ушел, это только ускорило. Но мама вдруг так закричала и чуть не убила (буквально, как муху!) Алешину бабушку, что та сразу смолкла и больше к больной этой теме ни разу и вскользь никогда не вернулась.
Однажды во сне, – а весна наступила, и все, что сгнивало в холодных сугробах, открылось глазам, но и запах гниенья стал частью цветущей прекрасной природы, – однажды во сне они встретились снова. Вероника сидела у окна, и выпавший из солнца застенчивый луч золотил ее косу, и нежно, с особенно чуткой любовью и радостью он освещал ее ухо и делал его столь прозрачным, как будто оно было вылито из хрусталя. Алеша при этом стыдился чего-то и медлил, почти не смотрел на нее. Зато он шутил с Иониди, гречанкой, которую звали нелепо: Матреной. Матрена, гречанка, раскатисто, сытно, как принято в Греции, громко смеялась. И вдруг Вероника сказала: «пора». Тогда он увидел и косу, и ухо, и кончик манжета с пятном на запястье – след краски, которой покрасили двери, – и даже улыбку. Немного смущенную, но очень светлую. Как будто она прожила свою жизнь, и знает об этом, и все принимает.
И вдруг ему сделалось легче. Вероника, неподвижно лежащая на уродливой, как обломки древней цивилизации, кровати, любила его. И он ее тоже: любил.
Для этого даже не нужно быть рядом. Коленями можно не соприкасаться. Та нежность, и горечь, и страх за нее, и та благодарность к ней даже за этот случившийся вдруг ослепительный сон, в котором вернулись и косы, и губы, и руки ее, и ее чистый голос, и этот покой, какой он ощутил, как только проснулся, – все было любовью.
Нигде не найдя следов странной блондинки, Алеша домой не пошел, а прямо направился к табору. Граница между дачами, почти подступавшими к берегу, на котором живописно темнели пестрые шатры, и этой крикливой цыганскою жизнью была очень строго очерчена рядом высоких и шумных дубов. Грибное, всегда с сильным запахом белых, которые там с молчаливой гордыней росли в ожидании смерти, поскольку все знали, что белые эти растут только там, и, еле дождавшись осенней прохлады, спешили скорее туда, чтобы тут же присвоить себе эти плотные, с глянцем, с налипшей на них золотистой травой, еще не успевшие ни надышаться, ни накрасоваться грибы, – это место Алеша и выбрал сейчас и, усевшись повыше на дереве, принялся жадно рассматривать табор. Его испугал низкий, хриплый, настоянный на отвращении вой. И выл, и рыдал, и давился при этом какой-то подросток, а может быть, женщина. Между тем никто, кроме Алеши, не обращал на этот вой никакого внимания.
Две всклокоченные седые старухи – одна при этом курила трубку – черными обугленными палками помешивали варево в котлах. Два старика сидели под деревом, ворчали, и ноги их были оголены почти до колен. Цыганка, постарше, чем те, что сегодня гадали Амалии, бабушке, Соньке, с тазом, полным горячей воды, подошла к старикам, и они погрузили в таз босые черные ноги, а цыганка достала из отвисшего кармана кофты мешочек: чего-то насыпала в воду. И лица у старых цыган подобрели. Несколько парней и девушек, обогнув дерево с Алешей и не заметив его, как будто бы это и не человек, а гусеница или хрупкий кузнечик, подошли к старухам, варившим еду, и тут же одна из них отбросила палку и села на землю. Девушки принялись вынимать из-под юбок украшения, ручные часы и скомканные бумажные деньги. Старуха пересчитывала деньги, заворачивала их в тряпку, а украшения быстро подкидывала несколько раз на плоской ладони, определяя их вес, пробовала на зуб и тоже заворачивала в тряпку, но отдельно от денег. И вдруг поднялась во весь рост. Не говоря ни слова и только оскалившись, словно волчица, она изо всей силы схватила за волосы одну из девушек, и та вскрикнула – ясно и звонко. Алеша расслышал беседу их сверху, хотя и не понял ни слова.
– Саро джином![1]1
Все знаю (цыг.).
[Закрыть] – сказала старуха.
– Дава тукэ мро лав![2]2
Даю тебе мое слово (цыг.).
[Закрыть] – прохрипела молоденькая. – Дава тукэ мро лав!
– Мэ ада шуньдэм[3]3
Я это слышала (цыг.).
[Закрыть] – отвечала старуха и, подняв с земли обугленную палку, поднесла ее к огню.
– Тырдев![4]4
Подожди! (цыг.)
[Закрыть]
– Хохав Эса![5]5
Обманываешь (цыг.).
[Закрыть] – старуха сунула палку в огонь. – Со кираса?[6]6
Что будем делать? (цыг.)
[Закрыть]
– Тырдев, – повторила обманщица, достав из-под юбки блестящий предмет и вся изогнувшись при этом.
Старуха выпустила ее волосы.
– Дэ мангэ подыкхав![7]7
Дай мне посмотреть! (цыг.)
[Закрыть]
Она осмотрела предмет, снизу напомнивший Алеше портсигар, и завернула его в отдельную тряпку.
– Тэ скарин мэн дэвэл![8]8
Чтобы тебя Бог покарал! (цыг.)
[Закрыть] – проворчала старуха.
И, снова взяв палку, вернулась к костру. Рыданья и вой стали тише, но тут же сменились на визг. Цыганка, принесшая горячей воды старикам, прислушалась и, хмыкнув, вошла в шатер. Визг сразу затих. С минуту была тишина и кузнечики. Потом вдруг раздался младенческий крик. Цыганка опять появилась, довольная, держа на руках что-то красное, мокрое, размером не больше, чем с белку, и сразу пошла к старикам. Те вытащили из таза свои распаренные, теперь лиловые, а не черные, ноги и внимательно осмотрели новорожденного, не дотрагиваясь, однако, до его тельца в крови. И важно кивнули седыми кудрями. Тогда цыганка понесла ребенка старухам, помешивающим варево в котлах, и та, что курила трубку, вытерев влажные свои руки подолом, а трубку пристроив в углу серых губ, взяла его на руки. Весь заволокнувшись и дымом костра, и дымом старушечьей трубки, младенец испуганно заклокотал.
Если бы рядом с Алешей был кто-то еще, то он бы, конечно, сгорел от стыда. Но он был один под прикрытием дерева, и то, что он видел, его возбуждало сильнее, чем книга, чем фильм, и намного сильнее, чем девушки. Чужая цыганская жизнь была терпкой, саднящей, ничуть не похожей на все, что он знал. Вишневое небо горело над табором, и люди в вишневом закатном огне казались ему существами особыми. Когда они соприкасались с такими, как Сонька с Амалией, им было проще надеть на себя эти глупые маски и, скрывшись под маской, украсть, обмануть. Они понимали, что несовместимы с другими людьми, и плевали на это.
Из шатра, пошатываясь от только что перенесенного страдания, вышла молодая цыганка, по виду не больше пятнадцати лет, совсем еще девочка, с большим животом. Подобравши в густых пятнах крови цветастые юбки, спустилась к реке, села прямо на траву, сняла с себя все, кроме ленты в кудрях, потом вошла в воду, почти ослепляя Алешу своей наготой. Он заметил ложбинку на смуглой спине. Ложбинка раздвоила тонкое тело, развела ее круглые бедра по разные стороны, и получилось красиво настолько, что дух захватило.
На террасе мирно горела настольная лампа, и осы кружились над темным вареньем. В бабушкиных глазах затрепетала растерянность, когда она взглянула на медленно подходящего к дому Алешу.









































