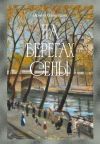Текст книги "На берегах Невы. На берегах Сены"

Автор книги: Ирина Одоевцева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Ох, даже и подумать страшно, сколько мой альбом будет стоить, когда вы все, с позволения сказать, перемрете. Я его завещаю своему внуку.
Альбом этот, если он сохранился, действительно представляет собой большую ценность. Кого в нем только нет. И Сологуб, и Блок, и Гумилев, и Кузмин, и Ремизов, и Замятин. Возможно, что благодаря ему создастся целая легенда о прекрасной Розе. И будущие литературоведы будут гадать, кто же была эта восхитительная красавица, воспетая столькими поэтами и прозаиками.
…На что нам былая свобода?
На что нам Берлин и Париж,
Когда ты направо от входа
Насупротив кассы сидишь?.. —
патетически спрашивал ее поэт Зоргенфрей.
Роза принимала восторги и мадригалы как должное. Все же «стишок» Георгия Иванова тронул ее до слез:
Печален мир. Все суета и проза,
Лишь женщины нас тешат да цветы,
Но двух чудес соединенье ты.
Ты – женщина. Ты – Роза.
Узнав, что Мандельштам, ее новый клиент, уже успевший набрать у нее в кредит и сахар, и варенье, – «поэт стоящий», она протянула и ему свой альбом. И должно быть, чтобы возбудить в нем благодарность и вдохновение, напоминала ему кокетливо:
– Вы мне, господин Мандельштам, одиннадцать тысяч уже должны. Мне грустно, а я вас не тороплю. Напишите хорошенький стишок, пожалуйста.
Мандельштам, решительно обмакнув перо в чернильницу, не задумываясь написал:
Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,
Помни, что двадцать одну мог тебе задолжать я.
И подписался с несвойственным ему дерзко-улетающим росчерком.
Роза, надев очки, с улыбкой нагнулась над альбомом, разбирая «хорошенький стишок», но вдруг побагровела, и грудь ее стала биться, как волны о берег, о прилавок, заставляя звенеть банки и подпрыгивать свертки. Она дрожащей рукой вырвала «гнусную страницу» и, скомкав, бросила ее в лицо Мандельштама с криком:
– Отдайте мне мои деньги! Сейчас же, слышите, отдайте!
С того дня она и начала преследовать его.
Одиннадцать тысяч в те времена была довольно ничтожная сумма. Ее легко можно было выплатить хотя бы по частям. Тогда Роза не только оставила бы Мандельштама в покое, но и – по всей вероятности – возобновила ему кредит. Я сказала ему об этом. Он посмотрел на меня с таким видом, будто я предлагаю ему что-то чудовищное.
– Чтобы я отдавал долги? Нет, вы это серьезно? Вы, значит, ничего, ровно ничего не понимаете, – с возмущением и обидой повторил он. – Чтобы я платил долги?
Да, я действительно «ничего не понимала» или, точнее, многого не понимала в нем. Не понимала я, например, его страха перед милиционерами и матросами – особенно перед матросами в кожаных куртках, – какого-то мистического, исступленного страха. Он, заявивший в стихах:
Мне не надо пропуска ночного,
Я милиционеров не боюсь —
смертельно боялся милиционеров. Впрочем, в печати для цензурности «милиционеры» были переделаны в «часовых» – часовых я не боюсь – и не вполне удачно переделаны. Ведь часовые обыкновенно охраняют какой-нибудь дворец или учреждение и ровно никому не внушают страха. Не то что милиционеры. Но у Мандельштама не было никаких оснований бояться и милиционеров. Бумаги у него были в порядке, ни в каких «заговорах» он никогда участия не принимал и даже в разговорах избегал осуждать «правительство». И все же, увидев шагавших куда-то матросов или стоящего на углу милиционера, Мандельштам весь съеживался, стараясь спрятаться за меня или даже юркнуть в подворотню, пока не скроется проходящий отряд матросов.
– Ух, на этот раз пронесло! – неизменно говорил он и, вздохнув облегченно, плотно запахивал полы своего легкого пальто, заменявшего ему киевскую профессорскую шубу.
– Что пронесло? – подпытывалась я.
– Мало ли что. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Все равно не поймете.
Да, понять было трудно. Как могла в нем, наряду с такой невероятной трусостью, уживаться такая же невероятная смелость? Ведь нам всем было известно, что он не побоялся выхватить из рук чекиста Блюмкина пачку «ордеров на расстрел» и разорвать их. Кто бы, кроме Мандельштама, мог решиться на такое геройство или безумие? Как же так? Труслив, как кролик, и в то же время смел, как барс.
– А очень просто, – любезно разрешил мое недоумение Лозинский. – Осип Эмильевич помесь кролика с барсом. Кролико-барс или барсо-кролик. Удивляться тут вовсе нечему.
Но я все же удивлялась многому в Мандельштаме, например, его нежеланию хоть на какой-нибудь час остаться одному. Одиночества он не переносил.
– Мне необходимо жить подальше от самого себя, как говорит Андре Жид, – повторял он часто. – Мне необходимо находиться среди людей, чтобы их эманации давили на меня и не давали мне разорваться от тоски. Я, как муха под колпаком, из которого выкачали воздух, могу лопнуть, разлететься на тысячу кусков. Не верите? Смеетесь? А ведь это не смешно, а страшно. – И он продолжал: – Это действительно страшно. Я сижу один в комнате, и мне кажется, что кто-то входит. Кто-то стоит за спиной. И я боюсь обернуться. Я всегда сажусь так, чтобы видеть дверь. Но и это плохо помогает.
Я уже не смеюсь. Я понимаю, что он не шутит.
– Чего же вы боитесь?
Он разводит руками:
– Если бы я знал, чего боюсь. Боюсь – и все тут. Боюсь всего и ничего. Это совсем особый, беспричинный страх. То, что французы называют angoisse[28]28
Беспричинный страх (фр.).
[Закрыть]. На людях он исчезает. И когда пишу стихи – тоже.
Не знаю, из-за этого ли страха или по какой другой причине, но Мандельштам с утра до вечера носился по Петербургу. Гумилев шутя говорил, что Мандельштаму вместе с «чудесным песенным даром» дан и чудесный дар раздробляться, что его в одну и ту же минуту можно встретить на Невском, на Васильевском острове и в Доме литераторов. И даже уверял, что напишет стихи – о вездесущем Златозубе.
Мандельштама действительно можно было видеть всюду в любое время дня. Встретив знакомого, он сейчас же присоединялся к нему и шел с ним по всем его делам или в гости. Он понимал, что его посещение не может не быть приятным, что ему всегда и везде будут рады. А там, наверно, угостят чем-нибудь вкусным. Иногда он все же бросал своего попутчика, хотя он уже и сговорился следовать за ним повсюду до самого вечера, и перебегал от него к какому-нибудь более близкому приятелю, наскоро объяснив:
– Вот идет Георгий Иванов, а он мне как раз нужен. До зарезу. Ну прощайте…
Но случалось, что Мандельштам исчезал на несколько дней. И тогда все знали, что он пишет стихи. То, что он мог заболеть, никому и в голову не приходило. Впрочем, как это ни странно, в те голодные и холодные годы никто из нас не болел. Я даже не помню, чтобы у кого-нибудь был грипп.
Обыкновенно Мандельштам вставал довольно поздно, щелкая зубами, основательно умывался и тщательно повязывал галстук в крапинку – спешил до ночи покинуть свою семиугольную комнату.
В писательском коридоре отапливались печками-«буржуйками». Дрова, правда, выдавались в изобилии. Они занимали один из углов комнаты Мандельштама, громоздясь чуть ли не до потолка.
Мандельштам, никогда не сидевший у себя, кроме дней писания стихов, все же не отказывался от дровяного пайка, и разбросанные всюду поленья придавали его и без того странному обиталищу еще более фантастический вид. Обыкновенно Мандельштам и не пытался топить свою «буржуйку».
– Это не моего ума дело, – говорил он. «Дело» это действительно требовало особых знаний и навыка. Дрова были сырые и отказывались гореть. Их надо было поливать драгоценным керосином и раздувать. Они шипели, тухли и поднимали чад. На «борьбу с огнем» Мандельштам решался только в дни, когда к нему «слетало вдохновение». Сочинять стихи в ледяной комнате было немыслимо. Ноги коченели, и руки отказывались писать. Мандельштам с решимостью отчаяния набивал «буржуйку» поленьями, скомканными страницами «Правды» и, плеснув в «буржуйку» стакан – всегда последний стакан керосина, став на колени, начинал дуть в нее изо всех сил. Но результата не получалось. Газеты, ярко вспыхнув и едва не спалив волосы и баки Мандельштама, тут же превращались в пепел. Обуглившиеся мокрые поленья так чадили, что из его глаз текли слезы. Провозившись до изнеможения с «буржуйкой», Мандельштам выскакивал в коридор и начинал стучать во все двери.
– Помогите, помогите! Я не умею затопить печку. Я не кочегар, не истопник. Помогите!
Но помощь почти никогда не приходила. У обитателей писательского коридора не было охоты возиться еще и с чужой печкой. Все они тоже не были «кочегарами и истопниками» и с большим трудом справлялись с «самоотоплением».
Михаил Леонидович Лозинский на минуту отрывался от своих переводов и приотворял дверь.
– Ну зачем вы опять шумите, Осип Эмильевич? К чему это петушье восклицанье, пока огонь в Акрополе горит – или, вернее, не хочет гореть? Ведь вы мешаете другим работать, – мягко урезонивал он Мандельштама, но тот не унимался.
– У меня дым валит из печки! Чад – ад! Я могу угореть. Я могу умереть!
Лозинский благосклонно кивал:
– Не смею спорить. Конечно:
Мы все сойдем под вечны своды,
И чей-нибудь уж близок час.
Надеюсь все же, что не наш с вами. А потому позвольте мне вернуться к Еврипиду, – и он, улыбнувшись на прощание, бесшумно закрывал свою дверь. А Мандельштам бежал в ту часть Дома искусств, где царило тепло центрального отопления, – в бывшие хоромы Елисеевых.
Но здесь было нелегко найти уединенный и тихий уголок. В Доме искусств, или, как его называли сокращенно, в Диске, всегда было шумно и многолюдно. Сюда заходили все жившие поблизости, здесь назначались встречи и любовные свидания, здесь студисты устраивали после лекций игры, в приступе молодого буйного веселья носясь с визгом и хохотом по залам.
Но я в этот день пришла в Диск не для встреч или игр. Лозинский накануне сообщил мне, что в Диск привезли из какого-то особняка много французских и английских книг и их пока что свалили в предбаннике.
– Пойдите поищите, – посоветовал он мне. – Может быть, найдется что-нибудь интересное для вас.
В предбаннике, разрисованном в помпейском стиле, стояла статуя Родена «Поцелуй», в свое время сосланная сюда тогдашней целомудренной владелицей елисеевских хором за «непристойность» и так и забытая здесь новыми хозяевами.
В этом предбаннике Гумилев провел свои последние дни. Он переселился сюда в начале лета 1921 года с приехавшей к нему женой.
Но теперь еще зима, и Гумилев по-прежнему живет один на Преображенской, 5, а жена его, Аня, скучает и томится в Бежецке и напрасно умоляет мужа взять ее к себе.
– И чего ей недостает? – недоумевает Гумилев. – Живет у моей матери вместе с нашей дочкой Леночкой, как у Христа за пазухой. Мой Левушка такой умный, забавный мальчик. И я каждый месяц езжу их навещать. Другая бы на ее месте… А она все жалуется.
Мне кажется, хотя я и не говорю этого ему, что и другая на ее месте жаловалась бы – слишком уж девическая мечта о небесном счастье брака с поэтом не соответствует действительности.
Я прохожу через ярко освещенную столовую Диска. Здесь не те правила, что в Доме литераторов, и никого, даже обитателей Диска, не кормят даром. За длиннейшим столом Добужинский и молодой художник Милашевский, приобретший громкую известность своими гусарскими чикчирами-рейтузами, лакомятся коронным блюдом дисковой кухни – заячьими котлетами. Так для меня и осталось тайной, почему эти котлеты назывались «заячьими». Ни вкусом, ни видом они зайца не напоминали.
Милашевский оживленно рассказывает:
– Чудесно вчера вечер провел. Надрался до чертиков. Ух, как надрались! Божественно!
Добужинский, стараясь казаться заинтересованным, улыбается:
– У вас, наверно, vin gai, а не vin triste[29]29
Веселое опьянение… грустное опьянение (фр.).
[Закрыть], – говорит он.
Милашевский багровеет от смущения:
– Помилуйте! Мы без этого…
Я останавливаюсь на пороге предбанника. Тихо. Пусто. Никого нет. Уже сумерки. У окна матово белеют книги, сваленные на полу. Их еще не успели разобрать. Я пришла посмотреть, не найдется ли среди них «Une saison en enfer»[30]30
«Одно лето в аду» (фр.).
[Закрыть] Рембо.
И вдруг я слышу легкое жужжание. Что это? Неужели книги жужжат? Разговаривают между собой. Я оглядываюсь. Нет, я ошиблась. Я тут не одна. В темном углу, у самой статуи Родена перед ночным столиком, неизвестно зачем сюда поставленным, сидит Мандельштам. Я вглядываюсь в него. Как он бледен. Или это кажется от сумерек? Голова его запрокинута назад, лицо неподвижно. Я никогда не видела лунатиков, но, должно быть, у лунатика, когда он скользит по карнизам крыши, такое лицо и такой напряженный взгляд.
Он держит карандаш в вытянутой руке, широко взмахивая им, будто дирижирует невидимым оркестром – вверх, вниз, направо, налево. Еще и еще. Внезапно его поднятая рука повисает в воздухе. Он наклоняет голову и застывает. И я снова слышу тихое ритмичное жужжание. Я не шевелюсь. Я сознаю, что здесь сейчас происходит чудо, что я не имею права присутствовать при нем.
Так вот как это происходит. А я и не знала. Не догадывалась. Я не раз видела, как Гумилев, наморщив лоб и скосив глаза, то писал, то зачеркивал какое-нибудь слово и, вслух подбирая рифмы, сочинял стихи. Будто решал арифметическую задачу. Ничего таинственного, похожего на чудо, в этом не было. И я не испытывала волнения, охватившего меня сейчас. Волнения и смутного страха, как перед чем-то сверхъестественным.
Сумерки все более сгущаются. Теперь бледное лицо Мандельштама превратилось в белое пятно и стало похожим на луну. Он уже не лунатик, а луна. И теперь уже я, как лунатик, не могу оторвать глаз от его лица. Мне начинает казаться, что от его лица исходит свет, что оно окружено сияющим ореолом.
Тихо. Даже жужжание прекратилось. Так тихо, что я слышу взволнованный стук своего сердца.
Я не знаю, как мне уйти отсюда. Только бы он никогда не узнал, что я была тут, что я видела, что я подглядела, хотя и невольно. Я стою в нерешительности. Надо открыть дверь. Но если она скрипнет, я пропала.
И вдруг в этой напряженной магической тишине раздается окрик:
– Что же вы? Зажгите же электричество! Ведь совсем темно.
Это так неожиданно, что я, как разбуженный лунатик, испуганно прислоняюсь к стене, чтобы не упасть.
– Что вы там делаете? Да зажгите же наконец!
Я щелкаю выключателем и растерянно мигаю. Значит, он видел меня, знал, что я тут. Что же теперь будет? А он собирает со стола скомканные листки и сует их в карман пиджака. Совсем спокойно.
– У меня в комнате опять чад. Пришлось сюда спасаться. С самого утра. – Он встает, отодвигает стул и потягивается. – Который теперь час? Неужели уже четыре? – Голос будничный, глухой, усталый. И весь он совсем не похож на того, от лица которого шло сияние. – Хотите послушать новые стихи?
Конечно! И как еще хочу. Но он не дает мне времени ответить и уже запевает:
Я слово позабыл, что я хотел сказать,
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных – с прозрачностью играть.
В беспамятстве ночная песнь поется…
Я слушаю затаив дыхание. Да, такая «песнь» не только поется, но и слушается в беспамятстве. А он продолжает в упоении, все громче, все вдохновеннее:
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья
Я так боюсь рыданья аонид…
И вдруг, не закончив строфы, резко обрывает:
– А кто такие аониды?
Я еще во власти музыки его стихов и не сразу соображаю, что это он спрашивает меня. Уже настойчиво и нетерпеливо:
– Кто такие аониды? Знаете?
Я качаю головой:
– Не знаю. Никогда не слыхала. Вот данаиды…
Но он прерывает меня.
– К черту данаид! Помните у Пушкина: «Рыдание безумных аонид»? Мне аониды нужны. Но кто они? Как с ними быть? Выбросить их, что ли?
Я уже пришла в себя. Я даже решаюсь предложить:
– А нельзя ли заменить аонид данаидами? Ведь ритмически подходит, и данаиды, вероятно, тоже рыдали, обезумев от усталости, наполняя бездонные бочки.
Но Мандельштам возмущенно машет на меня рукой:
– Нет. Невозможно. Данаиды звучит плоско… нищий, низкий звук! Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающее «ао». Разве вы не слышите – аониды? Но кто они, эти проклятые аониды?
Он задумывается на минуту.
– А может быть, они вообще не существовали? Их просто-напросто гениально выдумал Пушкин? И почему я обязан верить вашей мифологии, а не Пушкину?
С этим я вполне согласна. Лучше верить Пушкину. И он, успокоившись, снова начинает, закинув голову:
Я слово позабыл, что я хотел сказать…
И я снова стою перед ним, очарованная, заколдованная. Я снова чувствую смутный страх, как перед чем-то сверхъестественным.
Только он один умеет так читать свои стихи. Только в его чтении они становятся высшим воплощением поэзии – «Богом в святых мечтах земли».
И теперь, через столько лет, когда вспоминаю его чтение, мне всегда приходят на память его же строки о бедуине, поющем ночью в пустыне…
…И если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает, остается
Пространство, звезды и певец.
Да, когда Мандельштам пел свои стихи, все действительно исчезало. Ничего не оставалось, кроме звезд и певца. Кроме Мандельштама и его стихов.
Теперь, оглядываясь назад, мне трудно поверить, что мои встречи с Мандельштамом продолжались только несколько месяцев. Мне кажется, что они длились годы и годы – столько у меня (и самых разнообразных) воспоминаний о нем.
Конечно, я знаю, что время в ранней молодости длится гораздо дольше. Или, вернее, летит с головокружительной быстротой и вместе с тем почти как бы не двигается. Дни тогда были огромные, глубокие, поместительные. Ежедневно происходило невероятное количество внешних и внутренних событий. И ощущение времени было совсем особенное. Как в романах Достоевского – у него тоже события одного дня вряд ли уместились бы в месяц реальной жизни.
Но этим все же трудно объяснить не только количество моих воспоминаний о Мандельштаме, но и их живость и яркость. Они как будто и сейчас еще не хотят укладываться на дно памяти и становиться далеким прошлым. Будто я вчера рассталась с ним. Дело тут, я думаю, не во мне, а в нем, в Мандельштаме. В его необычайности, в его неповторимости. Каждая встреча с ним – а встречались мы почти ежедневно – чем-нибудь поражала и навсегда запоминалась.
Входя в Дом литераторов или в Диск, я всегда чувствовала, что он здесь, прежде чем видела его. И на публичной лекции среди множества слушателей безошибочно находила его, как будто над ним реял
Какой-то особенный свет,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нет.
Но у этого пламени было имя – благодать поэзии. Никогда, ни тогда, ни потом, я не встречала поэта, которого пламя благодати и поэзии так пронизывало бы, который сам как на костре горел, не сгорая в этом пламени. Мне кажется, что это пламя и сейчас освещает воспоминания о нем. И я, снова переживая их, не знаю, которое из них выбрать, все, что касается Мандельштама, мне одинаково дорого.
Вот, взятое почти наугад, наудачу, одно из воспоминаний.
Зимний вечер. Мы, то есть Мандельштам, Георгий Иванов и я, пьем чай у Гумилева. Без всякой торжественности, из помятого жестяного чайника – чай с изюмом из бумажного свертка. Это не прием. Я, возвращаясь с Гумилевым после лекций в Диске, зашла на минутку отогреться у печки. Георгий Иванов и Мандельштам столкнулись с нами на углу Преображенской и присоединились. И вот мы сидим вчетвером перед топящейся печкой.
– Ничего нет приятнее «нежданной радости» случайной встречи, – говорит Гумилев.
Я с ним согласна. Впрочем, для меня все встречи, случайные и неслучайные, «нежданная радость». Я как-то всегда получаю от них больше, чем жду.
– Есть у кого-нибудь папироса? – задает привычный вопрос Мандельштам. И папироса, конечно, находится. Гумилев подносит спичку Мандельштаму.
– Скорей, скорей закуривай. А то вся сера выйдет.
Мандельштам быстро закуривает, затягивается и заливается отчаянным задыхающимся клекотом. Он машет рукой, смеясь и кашляя. Слезы текут из его глаз.
– Удалось! Опять удалось, – торжествует Гумилев. – В который раз. Без промаха.
Спички серные. Продавая их, мальчишки кричат звонко на всю улицу:
Спички шведские,
Головки советские,
Пять минут вонь,
Потом огонь!
Закуривать от них надо не спеша, крайне осторожно, дав сгореть сере. Все это знают. И Мандельштам, конечно, тоже. Но по рассеянности и «природной жадности», по выражению Георгия Иванова, всегда сразу торопливо закуривает. К общему веселью.
– А я вам сейчас прочту свои новые стихи, – говорит Георгий Иванов.
Это меня удивляет. Я уже успела заметить, что он не любит читать свои стихи. И, написав их, не носится с ними, не в пример Гумилеву и Мандельштаму, готовым читать свои новые стихи хоть десять раз подряд.
– Баллада о дуэли, – громко, важным, несвойственным ему тоном начинает Георгий Иванов.
И сразу становится ясно, что стихи шуточные. На них Георгий Иванов «великий маг и волшебник», по определению Лозинского.
Все события нашей жизни сейчас же воспеваются в стихах, как воспевались и события прежних лет. Существовала и особая разновидность их – «античная глупость». Никогда, впрочем, к недоумению Гумилева, восхищавшегося ею, не смешившая меня. Приведу три примера из нее:
Сын Леонида был скуп. Говорил он, гостей принимая:
– Скифам любезно вино, мне же любезны друзья.
Соль этого двустишья заключалась в том, что Лозинский, к которому оно относилось, славился гостеприимством. Или:
– Ливия, где ты была? – Я лежала в объятьях Морфея. – Женщина, ты солгала. В них я покоился сам.
И:
Пепли плечо и молчи,
Вот твой удел, Златозуб! —
отмечающее привычку Мандельштама засыпать пеплом папиросы свое левое плечо, когда он сбрасывает пепел за спину. Предложение молчать подчеркивало его несмолкаемую разговорчивость.
– Баллада о дуэли, – повторяет Георгий Иванов и кидает насмешливый взгляд в мою сторону. Я краснею от смущения и удовольствия. «Баллада» значит подражание мне, – и это мне очень лестно.
Георгий Иванов с напыщенной серьезностью читает о том, как в дуэли сошлись Гумилев и юный грузин Мандельштам.
…Зачем Гумилев головою поник,
Что мог Мандельштам совершить?
Он в спальню красавицы тайно проник
И вымолвил слово «любить».
Взрыв смеха прерывает Иванова. Это Мандельштам, напрасно старавшийся сдержаться, не выдерживает:
– Ох, Жорж, Жорж, не могу! Ох, умру! «Вымолвил слово “любить”!»
Только на прошлой неделе Мандельштам написал свои прославившиеся стихи: «Сестры тяжесть и нежность». В первом варианте вместо «Легче камень поднять, чем имя твое повторить» было: «Чем вымолвить слово “любить”».
И Мандельштам уверял, что это очень хорошо как пример «русской латыни», и долго не соглашался переделать эту строчку, заменить ее другой: «Чем имя твое повторить», придуманной Гумилевым.
Мы выходим на тихую, пустую улицу. Ветер улегся. Все небо в звездах, и большие снежные сугробы сияют в полутьме. Мандельштам молча идет рядом со мной и, закинув голову, глядит на звезды не отрываясь. Я начинаю скандировать:
Я ненавижу бред
Однообразных звезд.
И, оборвав, перескакиваю на другое стихотворение, меняя ритм шагов:
Что, если над модной лавкой,
Сияющая всегда,
Мне в сердце длинной булавкой
Опустится вдруг звезда?
Мандельштам всегда с нескрываемым удовольствием слушает цитаты из своих стихов. Но сейчас он не обращает внимания и продолжает молчать. О чем он думает? И вдруг он говорит приглушенным грустным голосом, как будто обращаясь не ко мне, а к звездам:
– А ведь они не любят меня. Не любят.
От неожиданности я останавливаюсь.
– Да что вы, Осип Эмильевич? Никого другого так не любят, как вас!
Он тоже останавливается. Теперь он смотрит прямо мне в лицо широко открытыми глазами, и мне кажется, что в них отражаются звезды.
– Нет. Не спорьте. Не любят. Вечно издеваются. Вот и сегодня эта баллада!
– Но ведь это лестно, – убеждаю я.
– Про Гумилева никто не посмеет.
– Как не посмеет? Разве не про него «откушенный нос»? Это же нос Гумилева. Ваш зуб, а его нос.
Мандельштам качает головой.
– И все-таки больше всего смеются надо мной. Я и Златозуб и «юный грузин». Неужели я уж такой шут гороховый, что надо мной нельзя не издеваться? Скажите, только правду, я вам тоже кажусь очень смешным?
– Нет, совсем нет. Напротив, – с полной искренностью почти кричу я: – Я восхищаюсь вами, Осип Эмильевич!
Он недоумевающе разводит руками.
– Неужели? Ну спасибо вам, если это правда. Спасибо. Не ожидал от вас. – Он берет меня под руку. – Но знаете, – продолжает он доверчиво, – они действительно не любят меня. Прежде любили, а теперь нет. В особенности Гумилев. И Жорж тоже разлюбил меня. А как мы с ним прежде дружили. Просто не разлучались. Я приходил с утра. Он всегда вставал поздно. Вместе у него пили чай и отправлялись вместе на целый день. Всюду – в «Аполлон», и в гости, и на вернисажи, и в «Бродячую собаку». Если поздно возвращались, я у него ночевал на диване. Ни с кем в Петербурге мне так хорошо не было, как с ним. Он замечательный. Я его совсем не за его стихи ценил, нет. За него самого. А теперь внешне все как будто почти по-прежнему, но настоящей дружбы уже и в помине нет. Они все очень изменились. Я пытаюсь найти объяснение.
– Может быть, не только они, но и вы изменились за это время? Я сама совсем другая, чем два года тому назад.
Но он не слушает меня. Какое ему дело до того, какая я была прежде?
Он вдруг неожиданно начинает смеяться.
– У Жоржа была прислуга. Она меня терпеть не могла. Меня почему-то все прислуги не выносят, как собаки почтальонов. Жорж как-то повесил у себя над диваном портрет Пушкина. А прислуга возмутилась: «Эх, мало вам, что ваш Осип тут с утра торчит. Еще, чтобы любоваться, его богомерзкую морду на стенку повесили». И так и не поверила, что это не моя богомерзкая морда. Все же хоть и дурой-бабой, а лестно быть принятым за Пушкина.
– Конечно, лестно.
– А вот в Киеве, – продолжает он, оживляясь, – там меня действительно любили. И еще как! Нигде мне так приятно не жилось, как в Киеве. Сначала приняли сдержанно и даже холодно. Киевляне народ гордый. Перед петербуржцами не низкопоклонничают. Пригласили меня в какой-то поэтический кружок. Я пошел. Квартира барственная. Даже чересчур. И ужин соответствующий. Все чинно и чопорно. И я стараюсь держаться важно и надменно. Смотрю поверх их голов и делаю вид, что не замечаю соседей за столом. Будто здесь пустые стулья. И отвечаю нарочно невпопад. Перешли в гостиную пить кофе. Хозяин просит меня почитать стихи. А у меня от смущения и застенчивости – я ведь очень застенчив – все из головы вылетело. Дыра в мозгу. И чтобы не потерять лицо, я заявляю: «Я сегодня не расположен читать».
И вдруг один молодой человек робко спрашивает меня: «Тогда, может быть, позволите нам за вас?» И начал читать наизусть «Дано мне тело» и потом «Есть целомудренные чары». А за ним другой уже запевает без передышки «Сегодня дурной день». И так по очереди они весь «Камень» наизусть отхватили, ничего не пропустив, ни разу не споткнувшись. Я просто своим ушам не верил. Сижу обалдев, красный, еле сдерживаю слезы. Когда кончили, стали меня обнимать и признаваться в любви. С этого вечера и началась у нас теснейшая дружба. Как они обо мне все заботились! Мы ежедневно встречались в кафе на Николаевской улице, и каждый приносил мне подарок. Про банку варенья вы уже знаете. Да, там мне жилось отлично. Там я в первый раз почувствовал себя знаменитым. Со мной все носились, как здесь с Гумилевым. И никто не смел со мной спорить. Тамошний мэтр Бенедикт Лившиц совсем завял при мне. Должно быть, люто мне завидовал, но вида не подавал.
И Мандельштам неожиданно заканчивает:
– А может быть, вы и правы. Я там изменился. Хлебнул славы и поклонения. Отвык от насмешек. Я в Киеве княжил, а тут Гумилев верховодит. И не совсем, сознайтесь, по праву. Вот мне иногда и обидно.
Мы дошли до моего дома.
– Спокойной ночи, Осип Эмильевич.
Мандельштам торопливо прощается:
– Спокойной ночи. Побегу, а то они без меня все морковные лепешки съедят.
И он действительно пускается почти бегом не по тротуару, а по середине улицы, увязая в рыхлом снегу.
Я вхожу в подъезд, ощупью добираюсь до лестницы и в темноте, держась за перила, медленно поднимаюсь. Как я устала. Как мне грустно. Мне жаль Мандельштама. До боли. До слез. «Бедный, бедный! Я не сумела утешить его. Вздор! – уговариваю я себя. – Он не нуждается в моем утешении. И что я могла ему сказать?» Но сердце продолжает ныть. Нет, никакого предчувствия его страшного конца у меня, конечно, не было ни тогда, ни потом.
Не только у меня, но и у него самого не было. Скорее напротив. Ему казалось, что он всех должен пережить, что другие умрут раньше его. Так, он писал о Георгии Иванове:
…Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно красный рот
И на глаза спадающая челка.
А о себе:
Неужели же я настоящий,
И действительно смерть придет?
Я как-то, еще в самом начале знакомства, спросила его:
– Осип Эмильевич, неужели вы правда не верите, что умрете?
И он совершенно серьезно ответил:
– Не то что не верю. Просто я не уверен в том, что умру. Я сомневаюсь в своей смерти. Не могу себе представить. Фантазии не хватает.
Нет, это не было предчувствие. Но жалость к Мандельштаму осталась навсегда.
Через несколько дней я решилась сказать Гумилеву:
– Николай Степанович, знаете, мне кажется, Мандельштаму обидно, что его называют Златозуб и постоянно высмеивают.
Но Гумилев сразу осадил меня:
– Экая правозаступница нашлась! С каких это пор цыплята петухов защищают? И ничего вы не понимаете. Мандельштаму, по-вашему, обидно, что над ним смеются? Но если бы о нем не писали шуточных стихов, не давали бы ему смешных прозвищ, ему было бы, поверьте, еще обиднее. Ему ведь необходимо, чтобы им все всегда занимались.
Я не стала спорить, и Гумилев добавил примирительно:
– Его не только любят и ценят, но даже часто переоценивают. И как не смеяться над тем, что смешно? Ведь Мандельштам – ходячий анекдот. И сам старается подчеркнуть свою анекдотичность. При этом он по-женски чувствителен и чуток. Он прекрасно раскусил вас. И разыгрывает перед вашей жалостливой душой униженного и оскорбленного. Что же, жалейте его, жалейте! Зла от этого не будет ни ему, ни вам…
И вот еще одно воспоминание. Трагикомическое воспоминание. Мандельштам был чрезвычайно добр. Он был готов не только поделиться последним, но и отдать последнее, если его об этом попросят. Но он был по-детски эгоистичен и по-детски же не делал разницы между моим и твоим.
Это была очень голодная зима. Хотя я и научилась голодать за революционные годы, все же так я еще не голодала. Но делала я это весело, легко и для окружающих малозаметно. Я жила в большой, прекрасно обставленной квартире – в Петербурге квартирного кризиса тогда не было и никого не «уплотняли» еще. Я была всегда очень хорошо одета. О том, как я голодаю, знал один только Гумилев. Но он, по моей просьбе, никому не открывал моей тайны. А голодала я до головокружения, «вдохновенно». Мне действительно часто казалось, что голод вызывает вдохновение и помогает писать стихи, что это от голода
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!