Текст книги "Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения"
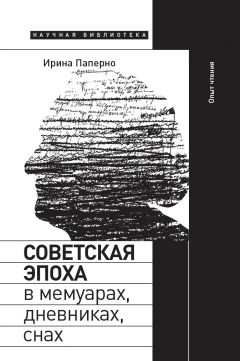
Автор книги: Ирина Паперно
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Оговорка. В постмодернистском ключе, или Без «претензии на могучее документирование исторических фактов»
С концом ХХ века в русскую словесность вошел постмодернизм, введя в обиход отказ от автобиографической искренности, недоверие к стабильности авторского «я» и солидности исторического факта и острую боязнь быть традиционным или банальным. И тем не менее и такие авторы выступают в автобиографическом или мемуарном модусе. Как же они поступают?
Литературовед и критик Марк Липовецкий, обсуждая в 2007 году постмодернистскую автобиографическую прозу, появившуюся во второй половине 1990‐х годов, описал ситуацию с помощью понятия «новой искренности», которое ввел Дмитрий Александрович Пригов. «Новая искренность» исходит из представления, что все «кажущееся личным и интимным» стало «стереотипным». Современные авторы пытаются преодолеть это «противоположным жестом»: «Да, это мертвые клише, но для меня они обладают личным экзистенциальным смыслом, проживая их, я создаю свой собственный контекст, связывая чужие и чуждые знаки с маркерами только моего опыта». В связи с этим Липовецкий пишет о «„Я“ в кавычках»169169
Липовецкий М. Паралогии: трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920‐х – 2000‐х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 575 (гл. 14 «„Я“ в кавычках»).
[Закрыть].
Добавим, что такие тексты выражают свое отступничество от прежнего за счет изящества стиля, фрагментарности, игры с жанровыми клише и всепроникающей самоиронии. Трудно себе представить, чтобы такие воспоминания могли быть оглашены как свидетельства на «суде истории». Они были высоко оценены литературными критиками. Приведем несколько разнородных примеров.
Среди таких публикаций – «Записи и выписки» литературоведа Михаила Гаспарова (описанные выше): выписки из записной книжки, заметки, литературные цитаты, сны (расположенные в алфавитном порядке от А до Я), а также разрозненные воспоминания, эссе и автобиографические очерки170170
После предварительной публикации в журнале «Новое литературное обозрение» книга была награждена в 1999 году премией Андрея Белого в номинации «Проза». Отдельное издание: Новое литературное обозрение, 2000.
[Закрыть]. Рассуждая об особой форме этого «мозаичного» тома в критической статье, Андрей Зорин заметил:
В контексте записей и выписок текст любой длины и жанровой природы сам становится записью или выпиской – моментальной фиксацией душевного состояния автора, сделанного им наблюдения, мысли, вызвавшей у него интерес.
В этой книге Михаила Гаспарова критик видит радикальный постмодернизм, «круче всех». Однако и такая литература удержала и «рефлексию о себе самой и своем материале», и «свидетельство об опыте ее создателя»171171
Зорин А. От А до Я и обратно (о «Записях и выписках» Михаила Гаспарова) // Неприкосновенный запас. 2000. № 3. Среди новаторских автобиографических текстов последних лет Андрей Зорин упоминает также «Альбом для марок» Андрея Сергеева и мемуарные виньетки Александра Жолковского.
[Закрыть].
Литературовед Александр Константинович Жолковский (он родился в 1938 г. и живет в Лос-Анджелесе) создал жанр «мемуарных виньеток»: 172172
Жолковский A. K. Мемуарные виньетки и другие non-fictions. СПб.: Журнал «Звезда», 2000.
[Закрыть]
[Виньетки] – это воспоминания, построенные на каком-то малом, необязательном материале <…> с претензией на изящество и некоторое обобщение <…> в них нет претензии на могучее документирование исторических фактов или хотя бы адекватное отражение моей жизни или профессиональной деятельности <…>. В них отделано каждое слово173173
Жолковский А. Автор – персонаж, и из самых уязвимых. www.e-slovo.ru/255/12pol1.html.
[Закрыть].
Переводчик и поэт Андрей Яковлевич Сергеев (1933–1998) культивировал форму фрагмента и случайность композиции. Он описал свою автобиографическую книгу «Альбом для марок» (впервые опубликованную в 1995 году) как «коллекцию людей, вещей, слов и отношений», но определил жанр как «роман», то есть заявил о фикциональности. При этом книга включает и рассказы о детстве и юности, и портреты знаменитых современников, и подлинные документы (свидетельство о рождении, свидетельство о браке), то есть маркирует документальную и историческую достоверность174174
Сергеев А. Omnibus. Альбом для марок. M.: Новое литературное обозрение, 1997. Впервые: Дружба народов. 1995. № 7–8. «Альбом для марок» удостоен Букеровской премии 1996 года – как роман.
[Закрыть].
Другие авторы используют подлинные семейные фотографии. Такова книга художника Григория Давидовича Брускина (род. 1945) «Прошедшее время несовершенного вида» (2001), которая состоит из семейных фотографий с короткими, тщательно отделанными надписями175175
Брускин Г. Прошедшее время несовершенного вида. М.: Новое литературное обозрение, 2001. (За этим последовали еще несколько томов в подобной форме.)
[Закрыть].
Постмодернистские авторы создают картину жизни опознаваемо советскую, пользуясь идиомами, ситуациями и эмблемами советской жизни. И такие авторы отмечают пределы свой жизни историческими вехами. Андрей Сергеев пишет:
Эти исторические обстоятельства хорошо знакомы читателю, так что не надо называть даты рождения, знаком и бытовой опыт дефицита пищевых продуктов. Представившись читателю таким образом, Сергеев, с одной стороны, укореняет себя в советской истории (как поступают и его эстетически неискушенные современники – деревенская женщина Евгения Киселева и актер Родион Нахапетов), а с другой – пытается преодолеть клише противоположным жестом. Так, придерживаясь того, что Пригов назвал «новой искренностью», он утверждает уникальность своего опыта на малом, случайном материале.
Думаю, что сложнее обстоит дело с книгой самого Дмитрия Пригова (1940–2007) «Живите в Москве», с парадоксальным подзаголовком «Рукопись на правах романа» (2000)177177
Пригов Д. Живите в Москве: рукопись на правах романа. М.: Новое литературное обозрение, 2000. Страницы указаны в тексте.
[Закрыть]. Как значится в аннотации, «новое произведение Д. А. Пригова написано в популярном нынче жанре мемуаров, где Москва предстает как мировой центр катастрофических, почти космогонических событий». (Заметим, что заглавие звучит как пародийная отсылка к воспоминаниям Льва Копелева и Раисы Орловой «Мы жили в Москве».) В этой книге проигрываются – в пародийном ключе – опознаваемые топосы мемуаров о советском опыте: «наша коммунальная квартира» – из тех, где очереди в ванную и туалет «растягивались порой на километры и часы» (71), а крыс и тараканов была «тьма несметная, тмутараканья» (73); «умер Сталин», с обязательными слезами (97–105); «отношения власти <…> с известными поэтами», или «перипетии тогдашней жизни великих Пастернака и Ахматовой» («первый обитал в Москве, обмениваясь постоянными телефонными звонками с Кремлем <…> Ахматова же, проживавшая в своем родном Ленинграде, постоянно была запрашиваема. То есть вызывалась в Москву» [255]).
При этом и Пригов расставляет знаки «только моего опыта» (фраза Липовецкого). Описание смерти Сталина ставится в кавычки с помощью конкретной детали: в этот день, как и всегда, нужно было вынести помойное ведро, и эта процедура прервала поминальные слезы юного героя: «Рутина домашнего быта невольно способствовала моей частной переживательности <…>» (105). Пародируя другой топос современных мемуаров, Пригов прерывает описание детства сожалением о том, что он не был знаком со знаменитыми людьми своей эпохи, которых, «как обнаружилось впоследствии», знали многие его друзья: «Господи! Господи! О чем это я?! Ведь в то время жили почти бок о бок со мной в Москве и Ленинграде великие люди: Пастернак, Ахматова, Шостакович, Крученых, Татлин! <…> А ведь жили еще и Заболоцкий, Друскин, Ландау, Капица <…> Рихтер, Нейгауз!» Автобиографический герой Пригова не знал их – но автор отметился противоположным жестом по этим вехам интеллигентского пантеона (90–91).
Как же понимать такие двойственные жесты и знаки: можно ли считать брюквенное «я» Андрея Сергеева вписанным в советскую историю? Принадлежит ли фантасмагорическая квартира Пригова к коммунальному сообществу мемуаристов – свидетелей советской эпохи? Думаю, что в начале 2000‐х годов, когда такие подчеркнуто литературные, постмодернистские тексты заявили о себе, привлекая внимание критиков, этот вопрос ставился и оставался открытым.
Заключение
Итак, на рубеже ХХ века в публичной сфере оказался довольно значительный и пестрый по составу корпус мемуарно-автобиографических публикаций. Начавшись в контексте перестройки и гласности, с их политическим курсом на раскрытие советского прошлого, усилия отдельных людей предать гласности жизненный опыт советского времени приобрели характер широкого культурного течения. Рассматривая эти тексты – при всем их разнообразии – как культурное явление «долгих девяностых годов» (период с конца 1980‐х до начала 2000‐х), я старалась выделить общие структуры и общие смыслы. Думаю, что не будет преувеличением сказать, что в 1990‐е годы разные люди (авторы и публикаторы) и институции (журнальные и книжные серии, архивные хранилища) строили совместный корпус личных свидетельств советского опыта, за которым стоит чувство общности и сообщества. Их объединяет чувство исторической и политической значимости жизни человека, описанной – в зависимости от темперамента, социального положения и художественного мастерства – в воспоминаниях, автобиографическом романе, виньетке, записной книжке или дневнике, который и при жизни не хочется хранить в столе. При всем их различии эти тексты, усилиями авторов или издателей, представляют жизнь и судьбу советского человека как сформированные историей и государством, и при этом катастрофический опыт сталинского террора и/или войны, пережитый непосредственно, на собственном опыте, или опосредовано, на чужом, играет решающую роль (даже для тех, кто не предъявляет претензий к советской власти).
Среди написанного, особенно в конце 1990‐х и начале 2000‐х годов, есть и тексты, движимые желанием порвать со знакомыми ходами интеллигентского сознания и жанровыми клише, переосмыслить в пределах собственной автобиографии позицию интеллигента в постсоветскую, постмодернистскую эпоху. Думаю, что такие авторы писали в сознании своей исключительности на фоне других, доминировавших тогда в публичном пространстве авторов, исполненных пафосом своей исторической роли (а значит, и в зависимости от них).
Нет сомнения, что все эти авторы заняты выяснением сложных отношений с прошлым. Однако для советских людей в 1990‐е годы писать о своей жизни (или читать о жизни другого) – это не только овладение страшным советским прошлым, но и заполнение вакуума постсоветского настоящего. Более того, реконструируя прошлое, некоторые мемуаристы начали и новый утопический проект – заселение будущего. С концом советской эпохи, совпавшим с концом века, время как бы пришло к концу и будущее – будь то обещанное коммунистическое будущее или желанное продолжение культурных традиций досоветского прошлого – закрылось.
В этой ситуации советские люди спешили зафиксировать в дневниках и мемуарах следы своей жизни и своего «я», предавая гласности скрытое и интимное, и воссоздать сообщество – от семьи и дружеского круга до воображаемого сообщества «русской интеллигенции» и, шире, «современников».
Написанные или изданные в основном интеллигентами (некоторые из которых старались предать публичности высказывание рядового человека), многие из этих документов проявляют ходы мышления и модусы переживания, порожденные общим культурным опытом: здесь и обостренное историческое сознание, и склонность к апокалиптическому мышлению, и привычка жить на виду друг у друга и быть объектом слежки, и склонность к самообнажению, и профессиональные навыки восприятия жизни как текста.
Не исключаю, что имеются и автобиографические документы, которые остались мною незамеченными, и что среди них могут быть и совсем другие.
Есть, конечно, и современники, которые промолчали. Что означает их молчание? Может быть, они не разделяли идею Истории с большой буквы? Или больше всего ценили то, для чего в русском языке и слова нет, – privacy (то есть право на конфиденциальность частной жизни)? Или они слишком много знали?
В мыслях о промолчавших позволю себе закончить виньеткой.
В мемуарах (опубликованных в 2006 году) Михаил Викторович Ардов (он вырос в литературной среде) передает эпизод из поздних 1960‐х годов, участниками которого были столпы неконформистской интеллигенции того времени (об этих людях речь еще пойдет в нашей книге).
В Москву приехал Михаил Мейлах178178
Историк литературы Михаил Борисович Мейлах (род. 1945) опубликовал целый ряд мемуарных эссе.
[Закрыть]. Помнится, мы с ним зашли к Николаю Ивановичу Харджиеву. Там мы застали Герштейн. Хозяин сидел за своим письменным столом, а Эмма Григорьевна на стуле перед ним. В какой-то момент гостья произнесла:– Вы просто обязаны написать мемуары…
И тут Харджиев, дотоле сидевший в довольно статичной позе, весьма проворно сложил два кукиша и моментально поднес их к самому лицу собеседницы…
Ни Мейлах, ни я не силах забыть эту «немую сцену» до сего дня179179
Ардов М. Все к лучшему… Воспоминания. Проза. М.: Б. С. Г. Пресс, 2006. С. 248.
[Закрыть].
Историк литературы и искусства Николай Иванович Харджиев (1903–1996) мог бы немало вспомнить и раскрыть, но он остался верен своему намерению промолчать. Однако его молодые друзья не забыли этой сцены, и один из них придал ее гласности. Есть глубокая ирония в том факте, что эта немая сцена и отказной жест оказалась частью мемуарного корпуса. На этой иронической ноте я и закончу обзор опубликованных мемуарных свидетельств.
***
Обзор опубликованных в девяностые годы мемуарно-автобиографических произведений будет дополнен медленным чтением отдельных текстов. В следующих двух частях книги предложен опыт чтения двух текстов, выбранных из многих. Первый, «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской, принадлежит перу профессионального литератора, редактора и литературоведа. Второй, история жизни Евгении Киселевой, написан едва грамотным автором. К обоим этим текстам я подхожу как к автобиографическим документам, содержащим элементы этнографического описания. Несмотря на явную разницу в литературном качестве, я подхожу к обоим текстам с теми же вопросами. Какую роль играет самый акт письма в жизни автора? Каким образом был создан текст? Что он говорит нам о том, как интимные связи, семья и дом создавались, поддерживались и распадались в конкретных исторических и социальных обстоятельствах? Как история и государство входили в жизнь людей и как они участвовали в создании текстов об их жизни? Надеюсь, что параллельное чтение жизнеописаний двух авторов из разных концов социального и литературного спектра выявит и сходства, и различия в обширном корпусе документов советского опыта, созданных под знаком «интимность и история».
ЧАСТЬ 2. ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ, «ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ»
В годы террора Чуковской казалось невозможным вести дневник, и вместо своей жизни она обратилась к чужой. Начиная с 1938 года Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996) документировала день за днем свои встречи и разговоры с Анной Андреевной Ахматовой (1889–1966). Для поклонников Ахматова – «пророчица Кассандра», «Муза плача» и хранитель великой русской традиции – представляла собой образец, по которому они ориентировались в понимании собственной судьбы. С этой точки зрения записки об Ахматовой представляют собой исторический документ особого значения. Готовя записки к публикации в 1960–1990‐е годы, Чуковская снабдила их обширными комментариями об упоминаемых фактах, людях и книгах, «За сценой». Записки велись в течение многих лет (в 1938–1942 и 1952–1965 годах), и еще тридцать лет прошло в подготовке их к печати в качестве литературно-исторического памятника.
В предисловии к первой публикации записок в 1966 году (на Западе) Чуковская объясняет личный, психологический смысл ведения дневника несобственной жизни:
С каждым днем, с каждым месяцем мои обрывочные записи становились все в меньшей степени воспроизведением моей собственной жизни, превращаясь в эпизоды из жизни Анны Ахматовой. <…> В том душевном состоянии, в котором я находилась в те годы, – оглушенном, омертвелом, – я сама все меньше казалась себе взаправду живою, а моя недожизнь – заслуживающей описания. <…> К 1940 году записей о себе я уже не делала практически никогда, об Анне Андреевне писала все чаще и чаще… Судьба Ахматовой – нечто большее, чем даже ее собственная личность, – лепила тогда у меня на глазах из этой знаменитой и заброшенной, сильной и беспомощной женщины изваяние скорби, сиротства, гордыни, мужества (1: 13–14)180180
Здесь и далее цитирую по: Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. М.: Согласие, 1997, с указанием тома и страницы в тексте.
[Закрыть].
Как нечто надличностное Ахматова, во всей своей парадоксальности, казалась выше и прочнее живого человека. Вписывая свою жизнь в жизнь Ахматовой, Чуковская как бы получила путевку в новую жизнь, обеспечивая долю бессмертия и самой себе.
Многие годы Чуковская служила конфидентом Ахматовой, а также помощником в ее поэтическом труде и бытовой жизни. Профессиональный редактор, она работала с черновиками Ахматовой, расставляя запятые и предлагая стилистические улучшения. Чуткий слушатель, она выслушивала жалобы на жизнь, воспоминания о прошлом, размышления об истории и литературе и многое другое. Один исследователь описал эту ситуацию как отношения между психоаналитиком и анализируемым, в которых аналитик выполняет роль редактора, соучаствуя в создании повествования о жизни (слово «редактор» использовалось в психоаналитической литературе)181181
Эта идея принадлежит Галине Рыльковой: Rylkova G. The Archaeology of Anxiety: The Russian Silver Age and Its Legacy. Pittsburg: University of Pittsburgh Press, 2007. P. 91–92. Рылькова основывается на словах психолога Джерома Брунера, который описал психоаналитический процесс как отношения анализируемого с «редактором», который участвует в конструировании текста (Bruner G. Acts of Meaning. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990. P. 113).
[Закрыть]. Чуковская заучивала наизусть по мере их создания непригодные для печати, политически опасные стихи Ахматовой, выступая таким образом в виде живого архива. Записки документируют, как возникли «Реквием» Ахматовой и ее лирическая история ХХ века, «Поэма без героя», создаваясь на протяжении многих лет как незаписываемый текст, в буквальном смысле «воплощенный» читателем182182
Так описала процесс создания «Реквиема» Бет Холмгрен: Holmgren B. Women’s Works in Stalin’s Time // Lidiia Chukovskaia and Nadezhda Mandelshtam. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1993. P. 87.
[Закрыть]. Записки Чуковской воссоздают образ Ахматовой как культурной фигуры, но кроме мифопоэтической и биографической ценности этот документ имеет и другой смысл: как этнографическое свидетельство. Чуковская осознанно работала в роли антрополога, фиксируя материальную обстановку, разговоры, ритуалы, мифы и прочее. (Она прилагала особые усилия к тому, чтобы восстановить разговоры слово в слово, сохранив навсегда речь Ахматовой.) Записки Чуковской открывают доступ и к жизни двух людей, связанных узами дружбы и интимности, и к культуре сообщества, в котором Ахматова выполняла важную символическую роль, а сама Чуковская была участником-наблюдателем. Именно в этом этнографическом качестве, а также и как своеобразный автобиографический документ (дневник на двоих) этот замечательный текст будет рассмотрен в этой книге.
Люди, чья жизнь документирована в этих записках, остро осознают свою принадлежность к группе «русская интеллигенция» (точнее, литературная интеллигенция), обладающей общим набором ценностей: отчуждение от государственной власти, неуважение к установленным жизненным нормам, валоризация бедности, самоотвержения и страдания, уважение к слову, вера в литературу как источник морального авторитета, а также всепоглощающее чувство исторической значимости собственной жизни. В советском обществе, в ситуациях, когда государство стремилось кооптировать интеллигенцию, принадлежность к этой группе означала и сложные отношения с властью – двойную поруку отчуждения и привилегии.
В записках превалирует тема террора. Начатый в самые страшные времена, этот документ исполнен стремления к выживанию – не только физическому выживанию, но и фиксации посредством документа, который сохранит день за днем следы жизни, поставленной под угрозу, даже в том случае, если и автор и герой погибнут. Парадоксальным образом писание также повышало степень опасности – и для Чуковской и для Ахматовой (которая могла и не знать о записках): наличие этого документа делало арест и обыск особо опасными. (Дневники нередко конфисковывали при аресте и использовали как свидетельство антисоветских настроений.) В предисловии 1966 года Чуковская рассуждала о своих сомнениях: «Записывать наши разговоры? Не значит ли это рисковать ее жизнью? Не писать о ней ничего? Это тоже было бы преступно» (1: 12). Амбивалентность присутствует в самом акте писания.
Записки начинаются 10 ноября 1938 года: «Вчера я была у Анны Андреевны по делу»* (1: 17). Сноска, обозначенная звездочкой, поясняет суть «дела»: ходили слухи, что когда в 1935 году сын Ахматовой, Лев Николаевич Гумилев, и ее муж, Николай Николаевич Пунин, были арестованы, Ахматова написала письмо Сталину и обоих выпустили. Чуковская, чей муж, Матвей Петрович Бронштейн, был арестован в августе 1937 года, хотела узнать, что именно Ахматова написала тогда Сталину (к этому времени Лев был вновь под арестом)183183
Эти слухи совместили два эпизода. В 1935 году письмо Ахматовой к Сталину помогло освободить ее сына и Николая Пунина. В 1938‐м, когда был арестован Лев Гумилев, такое письмо не имело эффекта.
[Закрыть]. В первой записи Чуковская шаг за шагом описывает, как она вошла к Ахматовой: через двор, вверх по черной лестнице, сквозь ободранную переднюю, вслед за открывшей дверь женщиной с мыльной пеной на руках, через кухню, где на веревках мокрое белье («из Достоевского, может быть»), через коридорчик, после кухни, в дверь налево – к ней184184
Другое прочтение этого эпизода имеется в: Holmgren В. Women’s Works. Р. 73.
[Закрыть].
Общий вид комнаты – запустение, развал. У печки кресло без ноги, ободранное, с торчащими пружинами. Пол не метен. Красивая мебель – резной стул, зеркало в гладкой бронзовой раме, лубки на стенах – не красят, наоборот, еще более подчеркивают убожество (1: 17).
Ахматова пояснила: «19 сентября я ушла от Николая Николаевича. Мы шестнадцать лет прожили вместе. Но я даже не заметила на этом фоне» (1: 17). «Этот фон» – это террор. Двадцать седьмого сентября сын Ахматовой был приговорен к десяти годам лагерей и отправлен на строительство Беломорско-Балтийского канала (позже его вернули для новых допросов). Запись о следующей встрече, 22 февраля 1939 года, приводит замечание Ахматовой: «Я не могу видеть этих глаз. Вы заметили? Они как бы отдельно существуют, отдельно от лиц» (1: 22). Обеим ясно, что речь идет о глазах женщин, стоящих в очередях перед тюрьмой или прокуратурой, чтобы узнать о близких, находящихся под арестом. Ахматова затем заговорила о соседях по коммунальной квартире, Смирновых: «Мальчика своего моя соседка не любит. Бьет его. Когда она берет веревку и принимается за него, я ухожу в ванную. Попробовала я один раз с ней говорить – она оттолкнула меня» (1: 22).
Неделю спустя, 3 марта, Чуковская и Ахматова встретились в Москве. «Что у вас? – спросила Анна Андреевна, вскочив с дивана и приблизив к моему лицу расширенные глаза» (1: 22). Обе они приехали в Москву хлопотать об арестованных. Как обычно в своих записках, Чуковская подробно описывает обстановку:
Это в крошечной комнате Харджиева, где-то у черта на куличиках, я ехала туда часа два. <…> У Николая Ивановича холодно. Анна Андреевна сидит на диване, накинув пальто на плечи. Пьем из каких-то кружек чай, а потом из них же вино. Николай Иванович небритый, желтый, прислушивается к шагам за стеной – к шагам соседей (1: 22).
Николай Иванович Харджиев принадлежал к тому же кругу людей. У всех троих – общее ощущение отчуждения и опасности и общий круг чтения. Чуковская затем описывает их разговор о Герцене и его знаменитых мемуарах. Ахматова замечает, что она не любит тех глав «Былого и дум», где Герцен откровенничал о своей семейной жизни. Чуковская пытается спорить: Герцен ощущал «единство революции, морали, эстетики» (1: 22).
Эти виньетки из начала записок Чуковской проявляют несколько организующих принципов: преобладание террора как контекста, который искажает все формы жизни, создавая при этом особую интимность (мгновенное понимание между своими и интенсивный страх чужих); жизнеформирующее влияние жилищных условий (навязанной близости людей друг к другу); бедность и запустение, наделенные символической и моральной значимостью; и всеприсутствие литературы и истории.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































