Читать книгу "Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения"
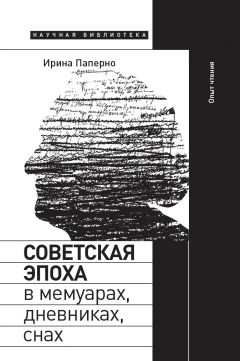
Автор книги: Ирина Паперно
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Другой выдающийся исследователь литературы, Лидия Гинзбург, не допустила-таки ни семейные тайны, ни просто биографические факты на страницы своих тщательно отделанных афористичных «записей» и мемуарных эссе, призванных фиксировать протекание человеческого опыта, но идея связи между интимностью и историей пронизывает всю ее документальную прозу (изданную в нескольких разных собраниях). Метод Гинзбург – исторический анализ бытовых и психологических ситуаций (таких как любовь эпохи военного коммунизма или летний отдых эпохи террора)8080
Об особом жанре «записи», созданном Гинзбург, и особом понимании авторского «я» писала Эмили Ван Баскирк. Ван Баскирк Э. Проза Лидии Гинзбург. Реальность в поисках литературы / Пер. с англ. С. Силаковой. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
[Закрыть].
Искусствовед Михаил Юрьевич Герман (1933–2018), сын писателя Юрия Германа, рано оставленный отцом, не только раскрыл многие подробности своей трудной частной жизни в мемуарах «Сложное прошедшее (Passé composé)», но и обобщил в исторических терминах проблемы интимности в советских условиях. Вспоминая о своем студенческом опыте 1950‐х годов, он сделал следующий вывод:
Коммунальные квартиры, бездомность и бесприютность придавали течению серьезных и несерьезных романов нечистую поспешность. Отсюда немало настоящих трагедий, не говоря уже о все том же страхе. <…> [И]нтимная жизнь была тогда более всего «политическим фактом»8181
Герман М. Сложное прошедшее (Passé composé). СПб.: Искусство–СПб., 2000. С. 203.
[Закрыть].
Поясняя понятие «политического факта», Герман пишет о скудности информации о сексуальности, отсутствии половой (и иной) гигиены и абортах, а также о публичных осуждениях внебрачных связей в среде студентов со стороны комсомольских организаций и администрации высших учебных заведений. (С высоты своей исторической позиции Михаил Герман писал с симпатией о «многими отвергнутом, но больном и мудром „Дневнике“ Нагибина»8282
Герман М. Сложное прошедшее. С. 526.
[Закрыть].)
Человек другого поколения и склада, Мария Ивановна Арбатова (род. 1957), с начала 1990‐х годов активный деятель феминистского движения, с намеренной нескромностью пишет в мемуарном романе об изнасиловании, браке, разводе и о трудном процессе воспитания детей в советском обществе. Она описывает свой метод как «эдакий стриптиз» и мотивирует его своим местом в советской истории:
Я пишу этот текст с шокирующей некоторых искренностью и подробностью, потому что отношусь к первому поколению, родившемуся без Сталина. И это поколение пока сделало довольно мало попыток рассказать о себе честным языком. Надеюсь, что книга не столько обо мне, сколько о времени; эдакий стриптиз на фоне второй половины двадцатого века, который, слава богу, уже кончился8383
Арбатова М. Прощание с XX веком. Т. 2. С. 9.
[Закрыть].
Стриптиз на фоне конца века – это не столько о себе, «сколько о времени».
Замечательное определение этой ситуации дала Мариэтта Чудакова. Публикуя в 2000 году свой дневник, она заметила в постскриптуме:
Обобщения: интимность и история
Сделаем некоторые обобщения. Советские мемуаристы рассказывают о своей интимной жизни как о факте истории. Нет сомнения, что так поступали и их предшественники в XIX веке (вспомним Герцена и его «Рассказ о семейной драме»)8585
Об этом см.: Паперно И. Интимность и история: семейная драма Герцена в сознании русской интеллигенции (1850–1990‐е годы) // Новое литературное обозрение. 2011. № 112.
[Закрыть]. Более того, самообнажение, конечно, практикуется и в мемуарах современных западных авторов. И тем не менее можно говорить об особом историческом смысле этих откровений: это именно самораскрытие на фоне конца советской эпохи.
В личных документах постсоветского периода советская история предстает как сила, деформировавшая структуру семьи и дома, а следовательно (как мы знаем из психоанализа и романов), и самоощущение человека – его «я». В ряде дневников и воспоминаний «я» выступает как продукт террора или войны, или террора и войны, но такое самоощущение сохраняется и после конца сталинской эпохи. Советский строй предстает как создающий особые условия жизни, в которых происходит деформация интимного пространства, и не только в тюремных камерах и фронтовых окопах, но и в коммунальных квартирах, и деформация тела – не только пыткой или голодом, но и советскими гигиеническими практиками.
Заметим, что едва ли не в каждом тексте мемуаров и дневников можно найти яркие описания быта коммуналки, несущие более или менее осознанный эмблематический смысл. В самом деле, роковой квартирный вопрос и коммунальная квартира – инструмент социального контроля посредством насильственной совместности и вынужденной интимности – давно уже стали центральной метафорой советского общества. (Многочисленные дневники и мемуары, романы и кинофильмы, художественные инсталляции и научные исследования кодифицировали символический смысл и социальный статус этого культурного института8686
Коммунальная квартира как социальный институт и ее символические смыслы описаны во многих исследованиях. См., например: Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge: Harvard University Press, 1994. Русский перевод: Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2002; Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира // Социологический журнал. 1998. № 1–2. С. 224–244; Утехин И. Очерки коммунального быта. М.: ОГИ, 2004. См. также виртуальный музей коммунального быта в сети: Communal Living in Russia: A Virtual Museum of Soviet Everyday Life. http://kommunalka/colgate.edu. Заметим, что хотя большинство мемуаристов пишут о жизни в коммуналке с ужасом, имеются и такие, которые представляют коммунальную жизнь в позитивном свете, например: Арбат, 30, Квартира 58 // Источник. 1993. С. 5–6. (Эти воспоминания писателя и журналиста Олега Любченко опубликованы в разделе «Народные мемуары» журнала «Источник», официального органа Архива Президента Российской Федерации (Приложение к журналу «Родина»).)
[Закрыть].)
Советское государство предстает в частных документах своих граждан как создатель особого режима интимной жизни, основанного на двойственности и амбивалентности, которые стимулировались такими факторами, как необходимость делить жилое пространство с чужими людьми или скрывать (даже от членов семьи) свое происхождение и этническую принадлежность. Государство предстает как сила, деформировавшая традиционные структуры интимной жизни, а с ними и самое «я».
В этой перспективе самораскрытие приобретает особое – историческое и политическое – значение, а советские дневники и мемуары выступают под знаком «интимность и история».
Мемуары создают сообщество
Мемуары конца советской эпохи служат не только построению своего «я», но и созданию сообщества: семьи, дружеского круга, соратников по интеллигенции, современников. Как это делается?
Для начала опишем простой ход. Новый текст вписывает себя в существующее пространство (или сообщество) текстов и отмечает связи с другими текстами. Возьмем мемуары ранее неизвестного автора, Инны Ароновны Шихеевой-Гайстер (1925–2009), по профессии инженера и учителя. Первоначальная функция этого документа, созданного в интимной обстановке и в устной форме (воспоминания наговорены на пленку, в 1988–1990 годы, а затем записаны с магнитофона мужем мемуаристки), – семейная (для внуков). Впервые опубликованный в 1998 году, этот текст вышел в свет под названием «Семейная хроника времен культа личности. 1925–1953». Заглавие отсылает к известным мемуарам Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», с подзаголовком «Хроника времен культа личности». Эпиграф заимствован из «Поэмы без героя» Анны Ахматовой: «Ты спроси у моих современниц – каторжанок, стопятниц, пленниц, и тебе порасскажем мы…» («Стопятницы», то есть члены семьи врагов народа, высланные на сто пятый километр, – слово, понятное именно современницам; оно фигурирует и в мемуарах Надежды Мандельштам, и в «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской.) Так литературный прием, интертекстуальность, призван на службу построения сообщества современников: текст протягивает руку тексту, а мемуарист – мемуаристу.
В самом этом тексте имеются сигналы связи со знаменательными людьми из интеллигентского сообщества. Шихеева-Гайстер происходит из семьи видного советского деятеля, инженера, почти целиком уничтоженной в годы террора; в годы, которые она описывает (1925–1953), она не знала никого из литературной среды. В эпилоге, озаглавленном «КГБ продолжает свою работу», действие происходит в 1977 году. Шихееву вызывают в КГБ. Что делать? «Я стала просто всех обзванивать. Дозвонилась до Светки Ивановой. И говорю: „– Светка, меня вызывают!“ Она говорит, чтобы подождала секундочку, и пошла к Коме за советом»8787
Шихеева-Гайстер И. Семейная хроника. С. 265.
[Закрыть]. Кома – интимное прозвище видного ученого Вячеслава Всеволодовича Иванова, сына писателя Всеволода Иванова; его жена, «Светка», как называет ее автор, – дочь и падчерица диссидентов Раисы Орловой и Льва Копелева (они являются авторами целого ряда мемуаров). После смерти Сталина все они, прежде отделенные друг от друга принадлежностью к разным группам общества и разным идеологическим позициям, вошли в сообщество оппозиционной интеллигенции, связанной опытом террора. В конце советской эпохи их связь укрепилась за счет мемуаров, в которых они вспоминают об общем историческом опыте, указывая при этом, кто кого в настоящее время знает, кто с кем «на ты».
Семейные мемуары: общими усилиями
Мемуарные жанры часто создают образ семьи, а в советских условиях помогают воссоздать разрушенные семьи (как в случае Шихеевой-Гайстер), разбросанные семьи, а также расширенные семьи. Такие мемуары нередко создаются совместными усилиями.
В 1988 году опубликовал свои мемуары (написанные в 1973–1975 годах) один из участников дела еврейских врачей, патологоанатом Яков Львович Рапопорт (1898–1996). Его главным побуждением, как и для многих мемуаристов, было стремление сделать интимное достоянием историка. Он пишет о своем желании показать «интимные механизмы» дела врачей, которые не будут доступны историкам, даже если архивы откроются для «объективного изучения»8888
Рапопорт Я. Л. На рубеже двух веков: Дело врачей 1953 года. М.: Книга, 1988; в кавычках приводятся фразы Рапопорта (с. 207). Эти мемуары впервые появились в журнале «Дружба народов» в 1990 году. Имеются и другие издания.
[Закрыть]. С этой целью Рапопорт подробно описал, как складывались личные отношения внутри круга привилегированных врачей, ставших объектом преследования, процедуру допроса и свои эмоции. Так, он в клинических подробностях описал шок ареста, первый страх, отвлечения, которых он искал и нашел в камере, слезы облегчения и горечи при известии об освобождении, странное чувство сожаления при покидании тюрьмы и то, как после освобождения он быстро вытеснил эти эмоции из памяти. Описал он и вторичную травму, пережитую в те дни, когда двадцать лет спустя начал писать свои воспоминания8989
Там же. С. 214.
[Закрыть]. В 1988 же году дочь мемуариста Наталия Яковлевна Рапопорт, бывшая ребенком в 1953 году, написала и опубликовала свои воспоминания – свою часть семейной истории. Дочь описала, что происходило в квартире после того, как отца увели (она упала на пол, потеряв сознание), и за несколько минут до того, как он вернулся (радостно завыла собака). Два текста дополняют друг друга, создавая картину интимной жизни одной семьи в роковой момент истории.
Издатель мемуаров дочери доктора Рапопорта попросил Евгения Евтушенко (1932–2017) написать предисловие. Евтушенко описал, что испытывал он в тот день, когда в январе 1953 года в газетах появилось известие об аресте врачей: «Помню, как я трясся в тот страшный день в трамвае, и люди подавленно молчали с раскрытыми газетами в руках»9090
Рапопорт Н. Я. Память – это тоже медицина / Предисл. Е. Евтушенко // Юность. 1988. № 4. Расширенный вариант опубликован в виде книги: Она же. То ли быль, то ли небыль. СПб.: Пушкинский фонд, 1998.
[Закрыть]. Известный поэт (прославившийся в 1960‐е годы своим свободомыслием) раскрыл публике, что тогда он считал еврейских врачей виновными. В 1988 году Евтушенко с помощью этого предисловия присоединился к Рапопортам, вписал себя в эту картину прошлого. Совместными усилиями трех авторов создан документ, свидетельствующий и о разобщенности 1953 года, и о новом сообществе 1988 года.
Необычный пример документа о семье, созданного сообща, – это «Дневники Натана Эйдельмана», на которых стоит имя автора: «Юлия Эйдельман»9191
Эйдельман Ю. Дневники Натана Эйдельмана. М.: Материк, 2003.
[Закрыть]. Это издание совмещает в себе дневниковые записи известного писателя-историка Натана Яковлевича Эйдельмана (1930–1989) с текстом, написанным его вдовой Юлией Моисеевной Эйдельман (урожденной Мадора, род. 1930), которая подготовила дневник к публикации. Набранные курсивом, вставки вдовы не только поясняют краткие или неразборчивые записи, но и вносят дополнительную информацию, вписывая ее собственную жизнь в дневник покойного мужа. Одна часть этого издания предлагает параллельный текст – дневник (за май – декабрь 1979 года) и Эйдельмана, и Мадоры, в то время – не жены, а любовницы автора, женатого на другой.
Как его редактор и соавтор, Мадора считает, что в дневнике Эйдельмана «отсутствуют интимные переживания»9292
Эйдельман Ю. Дневники Натана Эйдельмана. С. 10.
[Закрыть]. Многие из таких интимных деталей, которые она воссоздает на основе своего дневника, относятся к их непростым отношениям: в течение многих лет (с 1971 до 1984 год) у Эйдельмана было две параллельные семьи, одна – с законной женой и дочерью, другая – с Мадорой (вначале женой его близкого друга). Сложная система сокрытия и обмана, с одной стороны, и молчаливого принятия – с другой, позволяла ему жить на два дома и иметь два частично пересекающихся круга друзей. Но в своем дневнике, который читала законная жена, Эйдельман фиксировал только одну часть своей двойной жизни, отсюда и необходимость в посмертном соавторстве Мадоры9393
Издатель дневника, Юлия Эйдельман-Мадора, объясняет механизм двойной жизни Эйдельмана, снабжая читателя ключом к зашифрованным упоминаниям тайных сексуальных свиданий (81–83).
[Закрыть].
Дневник самого Эйдельмана, в котором эти интимные подробности потаенной жизни отсутствуют, документирует интенсивное общение в кружке семерых школьных товарищей, друживших со времен военного детства, и не менее интенсивную совместность в дружеском кругу писателей и ученых, противостоявших официальной сфере, который сложился в 1960‐е годы. И в семье (в обеих семьях), и с друзьями главный предмет застольных разговоров – это исследования Эйдельмана в области «потаенной истории» России XIX века (декабристы, Пушкин, Герцен), история оппозиции к власти. Дневник выявляет то, что оставалось имплицитным в его захватывающих книгах и страстных публичных выступлениях: Эйдельман видел себя как трагическую фигуру исторического значения, «архетипический пример художника, живущего в симбиозе с властью», проецируя на собственный опыт исторические драмы – отношения Пушкина с Николаем Первым или Булгакова со Сталиным9494
Здесь я использую замечания и формулировки из статьи: Hamburg G. M. Writing History and the End of the Soviet Era: The Secret Lives of Natan Eidel’ man // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2006. № 7: 1. Р. 91–92. Гамбург обсуждает также семейную ситуацию Эйдельмана (р. 86–87), его привычку к секретности и скрытности (р. 72, 87, 109) и отношение к своему еврейству (р. 94–102).
[Закрыть]. Дневник Эйдельмана, дополненный и исправленный Мадорой, имеет и другой смысл: картина мучительной двойной семейной жизни, документированная на его страницах, выступает как эмблема двойственности, свойственной всей жизни этого советского историка: здесь и столкновение между критическим отношением к режиму и потребностью в профессиональной самореализации, и конфликт между стремлением к культурной ассимиляции и сильным еврейским самосознанием, и многое другое.
Для самого Эйдельмана дневник был только собранием материалов для того, что он считал своей «главной книгой», а именно мемуаров, которые он намеревался написать. Как многие его современники, он мечтал о своем варианте «Былого и дум». Эйдельман (как сообщает его вдова) планировал начать свои воспоминания в настоящем и затем двигаться назад, ко дню своего рождения – 18 апреля 1930 года. В этот день состоялся роковой разговор Сталина с Михаилом Булгаковым – эмблема двусмысленного пакта интеллигенции с властью. «Главная книга» – «Былое и думы» Натана Эйдельмана – осталась ненаписанной; двойной дневник, созданный второй женой (в котором приведены и разговоры Эйдельмана о его будущей книге), закрепил следы этого неосуществленного замысла9595
Эйдельман Ю. Дневники Натана Эйдельмана. С. 62. План «главной книги» обсуждает Hamburg. Writing History. Р. 91–92.
[Закрыть].
Картина жизни, выступающая из этого семейного дневника, подтверждается в книге воспоминаний, опубликованной одним из членов интимного кружка Эйдельмана (он описан в обоих дневниках), Юлия Зусмановича Крелина (1929–2006), врача по профессии. В мемуарах «Извивы памяти: врачебное свидетельство» Крелин снабдил читателей подробными описаниями того интенсивного застольного общения, которое составляло главную форму интимной жизни в этом кругу: веселое выпивание, небрежные манеры и, главное, разговоры, в которых темы исторических исследований Эйдельмана сливались с обсуждением текущих политических событий и дружескими сплетнями. Как врач, Крелин предоставил и подробное клиническое описание смерти своего знаменитого друга9696
Крелин Ю. Извивы памяти: врачебное свидетельство. М.: Захаров, 2003. С. 226–258. Врач по профессии, Крелин, который лечил многих литераторов, организовал мемуары как эпизоды из истории болезни своих знаменитых пациентов (едва ли надо добавить, что раскрытие таких обстоятельств обычно не практикуется врачами).
[Закрыть]. Эта картина жизни в своеобразном семейном и дружеском кругу, созданная коллективными усилиями, остается открытой – другие участники могут добавить и свои свидетельства об общей жизни.
Присоединяясь к сообществу жертв
Жертвы и критики режима преобладают в мемуарном пространстве в 1990‐е годы. Публикуя и свои мемуары, те, кто в годы советской власти находился по другую сторону, стараются присоединиться к их сообществу.
Книга «„Солдат Берии“: воспоминания лагерного охранника» представляет жизнь охранника в рамках той же риторики, говорящей о несвободе, лишениях и принуждении, которой пользуются мемуары заключенных; в своих мемуарах солдат-охранник – это тоже жертва лагерей9797
Дмитриев П. «Солдат Берии»: воспоминания лагерного охранника / Ред. И. Ю. Куберский. Л.: Час пик, 1991 (воспоминания Дмитриева были написаны в 1985 году и опубликованы профессиональным писателем Куберским).
[Закрыть].
Особое место занимают «Памятные записки рабочего», как книга значится во многих каталогах; полное название: «Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника». Эти «памятные записки» (той же формулой пользуется Давид Самойлов) принадлежат перу Лазаря Моисеевича Кагановича (1893–1991), который выступает в них не только от лица простого рабочего (каким он был в юности), но и как жертва советского режима (при Хрущеве). Один из главных деятелей террора, подписавший тысячи смертных приговоров, Каганович таким образом стремится присоединиться к сообществу жертв; как и другие, он испытывает непреодолимое желание рассказать свою историю. Начиная с шестидесятых годов, когда в ходе хрущевской кампании разоблачения культа личности Сталина он был исключен из Коммунистической партии и полностью отстранен от дел, Каганович работал над мемуарами. Он писал едва ли не беспрерывно и умер (в 1991 году) в буквальном смысле слова с пером в руках – за письменным столом. И рукопись, и ее печатный, сокращенный вариант прерываются на полуслове, в главе «Мысли о перестройке», написанной в дневниковой форме. Сам автор адресовался к интимному кругу читателей-соседей: «Я нашел аудиторию в лице благородных жителей нашего большого дома». (Дом, в котором жил Каганович, был заселен деятелями партии и правительства на пенсии.) Краткий вариант (составленный на основе четырнадцати тысяч страниц рукописного текста) был подготовлен к печати его дочерью, Майей Лазаревной Каганович (1923–2001), которая пишет в предисловии о трудностях жизни отца после репрессий 1957 года. Это тоже семейные мемуары, созданные коллективными усилиями9898
Каганович Л. М. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника. М.: Вагриус, 2003.
[Закрыть].
Другие соратники Сталина не оставили мемуаров, но жизнь Лаврентия Берии и Георгия Маленкова, а также Никиты Хрущева (который и сам написал воспоминания) описана в мемуарах их детей9999
Берия С. Л. Мой отец – Лаврентий Берия. М.: Современник, 1994, серия «Осмысление века»: дети об отцах; Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. М.: НТЦ Техноэкос, 1992; Хрущев С. Н. Пенсионер союзного значения. М.: Новости, 1991.
[Закрыть]. Изображая отцов в интимном семейном быту, дети представляют их именно как жертв правительственных репрессий, разделяющих эту долю со всей семьей. Сын Лаврентия Берии, Серго Лаврентьевич Берия (1924–2000), утверждает, что после ареста еврейских врачей в марте 1953 года его отец был намечен как следующая жертва Сталина. И Сергей Лаврентьевич Берия, и Андрей Георгиевич Маленков (род. 1937) приводят красочные детали о преследовании их семей со стороны Хрущева. В свою очередь, сын Хрущева, Сергей Никитич Хрущев (1935–2020), красочно описывает преследование отца со стороны КГБ, когда после смещения в 1964 году Хрущев втайне работал над мемуарами: они создавались в устной форме, затем записывались с магнитофона членами семьи и в конце концов были переданы (преодолевая препятствия и опасности) на Запад для публикации в тамиздате наряду с документами диссидентского движения.
Используя ту же ролевую структуру и ту же риторику, что и мемуары жертв режима и диссидентов, эта «детская литература» подготовила образы своих отцов для включения в мемуарное сообщество современников100100
Об этой «детской литературе» (ее фраза) писала: Зубкова Е. Историки и очевидцы: Два взгляда на послевоенную историю // Свободная мысль. 1995. № 6. С. 106–117.
[Закрыть].
Вокруг тела Сталина: слезы
Вспоминая о ключевых моментах своего исторического опыта, пережитых одновременно с другими, мемуаристы также вносят вклад в построение сообщества.
Одним из главных таких моментов является смерть Сталина. Едва ли найдется мемуарный текст, который не описывал бы переживания 5 марта 1953 года, и едва ли найдется текст, в котором не упоминались бы слезы, пролитые над телом вождя.
В мемуарах Хрущев изображает себя плачущим у тела скончавшегося Сталина, на его даче, горюя (как он объясняет) о Сталине, о его детях и обо всей стране101101
Хрущев Н. С. Время, люди, власть: Воспоминания. Т. 2. М.: Московские новости, 1999. С. 131.
[Закрыть]. Дочь Сталина Аллилуева в мемуарах (написанные в 1963 году, они были опубликованы за границей, а с конца 1980‐х годов неоднократно переиздавались в России) приводит список членов правительства, которых она там якобы видела плачущими, среди них и Хрущев102102
Аллилуева С. Двадцать писем к другу. С. 16
[Закрыть]. В мемуарах Константин Михайлович Симонов (1915–1979), который благодаря высокому статусу в руководстве Союза советских писателей был допущен к Сталину, приводит дневниковую запись, которую он сделал в день, когда стоял в почетном карауле у тела Сталина в Колонном зале Дома Союзов. Со своего поста он наблюдал реакции других, «испытал внутренний тон душевного потрясения каждой пары проходивших мимо меня людей в ту секунду, когда они видели Сталина в гробу»103103
Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И. В. Сталине. М.: Правда, 1990. С. 234. Воспоминания Симонова были впервые опубликованы в журнале «Знамя» (1988. № 3, 4, 5) и неоднократно переиздавались.
[Закрыть]. Симонов зафиксировал свои наблюдения и над Светланой Сталиной (как она «долго смотрела на отца, на его лицо <…> повернулась, отошла <…>»)104104
Там же. Воспоминания Симонова написаны в виде дневника с датированными записями, сделанными в марте 1979 года; в такой записи он цитирует свой дневник марта 1953 года.
[Закрыть]. Сам он также был предметом наблюдения. Так, в мемуарах другого писателя, Вениамина Александровича Каверина (1902–1989), который, хотя и не стоял в карауле, также находился в Колонном зале, имеется свидетельство о том, что «Симонов утопал в слезах». О себе в мемуарах, написанных в 1970‐е годы и впервые опубликованных в 1989‐м, Каверин уверял, что смотрел на тело Сталина без слез105105
Каверин В. Эпилог. М.: Моск. рабочий, 1989. С. 323, 321. Имеется и более позднее издание.
[Закрыть].
Писатель Григорий Яковлевич Бакланов (1923–2009) плакал без свидетелей, в своей комнатке. В мемуарах он сообщает об этом факте и, с позиции 1990‐х годов, находит это необъяснимым. Тогда, потеряв работу после ареста еврейских врачей (русская фамилия Бакланов – псевдоним), он уже не имел никаких иллюзий, но и он проливал обильные слезы106106
Бакланов Г. Я. Жизнь, подаренная дважды. М.: Вагриус, 1999. С. 117.
[Закрыть]. Евгения Семеновна Гинзбург (1906–1977) плакала в бараке, хотя она и тогда уже винила лично Сталина в гибели своей семьи, преданных делу коммунистов107107
Гинзбург Е. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности. М.: Сов. писатель, 1990. С. 543. (Впервые опубликованная в Милане и Нью-Йорке в 1967 году, после 1988‐го книга неоднократно переиздавалась в России.)
[Закрыть]. В тюрьме плакал и Лев Зиновьевич Копелев (1912–1997), как он сообщает в мемуарах, написанных вместе с женой, Раисой Давидовной Орловой (1918–1989); плакала и она (тогда она верила в «заговор врачей-убийц»), и в своих мемуарах они стараются объяснить тогдашние слезы с теперешней точки зрения108108
Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. М.: Книга, 1990. С. 6 (впервые – Ann Arbor, Michigan, 1988). См. также: Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. М.: Слово, 1993. С. 205. Курсив в оригинале. (Впервые – Ann Arbor, Michigan, 1983.)
[Закрыть].
Ученый-этнограф Нина Ивановна Гаген-Торн (1900–1986), которая находилась в ссылке (после лагеря), сообщает, что среди общих слез и рыданий она одна не плакала109109
Гаген-Торн Н. И. Memoria / Сост., предисл., послесл. и примеч. Г. Ю. Гаген-Торн. М.: Возвращение, 1994. С. 370.
[Закрыть]. Этим – негативным – жестом и она подключает себя к сообществу современников.
Многие мемуаристы сообщали о том, где и как они плакали 5 марта 1953 года; немногие сообщали о том, что не плакали среди плачущих людей. Все они стараются связать то, что они чувствовали «тогда», с тем, что они думают «теперь». Много лет спустя, когда на закате советской власти эти мемуары (написанные в разное время, в основном в течение 1960–1980‐х годов) появились в печати, слезы далекого прошлого оказались открытыми для всеобщего обозрения.
Несогласие
Несогласие является не менее мощным способом создания сообщества, чем согласие. Советские мемуаристы связаны между собой целой сетью несогласий.
Настоящая борьба разгорелась вокруг образа Осипа Мандельштама. В 1988 году публикация воспоминаний его вдовы, Надежды Яковлевны Мандельштам (1899–1980), ранее известных в самиздате, воспринималась как «возвращение памяти»110110
Из предисловия Михаила Поливанова к первой публикации воспоминаний Н. Я. Мандельштам в России: Юность. 1988. № 8. С. 34.
[Закрыть]. Когда в 1999 году появилось другое, комментированное, издание, в печати имелись уже и «антивоспоминания» Эммы Герштейн111111
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Вторая книга / Предисл. Н. Панченко. Примеч. А. Морозова. Подгот. текста Ю. Фрейдина. М.: Согласие, 1999; Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб.: Инапресс, 1998 (2‐е изд. – М.: Захаров, 2002). Николай Панченко в предисловии к изданию воспоминаний Н. Я. Мандельштам 1999 года назвал мемуары Герштейн (которые после 1988 года появлялись в печати в отрывках) «антивоспоминания» (с. iii). Напомним, что воспоминания Н. Я. Мандельштам после их появления в самиздате вызвали критические отзывы со стороны некоторых современников, в частности, в связи с изображением во «Второй книге» Анны Ахматовой и Николая Харджиева. В самиздате же циркулировало открытое письмо Вениамина Каверина к Н. Я. Мандельштам от 23 марта 1973 года. В 1972–1976 годах Лидия Чуковская работала над целой книгой поправок к Н. Я. Мандельштам (одновременно она работала над своими «Записками об Анне Ахматовой»). Эта незаконченная книга была опубликована под названием «Дом поэта» в: Чуковская Л. Сочинения. М.: Арт-флекс, 2001.
[Закрыть]. Эмма Григорьевна Герштейн (1903–2002), «тогда» – член дружеского круга Мандельштамов, опубликовала свои мемуары с явной интенцией выразить несогласие по многим интимным вопросам с картиной жизни в среде, окружавшей двух «великих русских поэтов двадцатого века», Осипа Мандельштама и Анну Ахматову (по меткому выражению одного рецензента, «две знаменитые семьи»), нарисованной вдовой Мандельштама112112
Из рецензии Михаила Золотоносова. Новая русская книга. 1999. № 1. С. 58.
[Закрыть]. Нападая на авторитарный стиль памяти, да и на авторитет, который приобрели книги Н. Я. Мандельштам в среде интеллигенции, Герштейн сообщила читателю немало нескромных подробностей – и о невоздержанности Мандельштама во время допроса в 1934 году, и о неконвенциональной сексуальной жизни в семье113113
Столкновение между двумя мемуаристами было проанализировано Галиной Рыльковой (Galina Rylkova) в рецензии на книгу Герштейн: Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. № 1 (1). Р. 224–230 (я использую комментарии и фразеологию Рыльковой).
[Закрыть]. Как заметил один критик, опубликовав мемуары в возрасте девяноста пяти лет, она воспользовалась завидным положением «последнего свидетеля»114114
Башкирова Г. Благодатная пустыня последнего свидетеля // Независимая газета. 1999. № 12. Июнь. (Секция «Кулиса».)
[Закрыть]. Последнее слово, однако, осталось не за ней: в страстных дебатах, последовавших за этими «антивоспоминаниями», версия Герштейн нашла и соратников и противников.
Несогласие среди современников достигает особой интенсивности, когда речь идет об отношении к Сталину и сталинскому террору. Так, в своих воспоминаниях о лагере, опубликованных в 1994 году, Нина Гаген-Торн критикует Евгению Гинзбург за исключительное внимание к лагерникам-коммунистам115115
Гаген-Торн Н. И. Memoria. С. 241.
[Закрыть]. Несколько мемуаристов осудили Константина Симонова, подвергая сомнению искренность его раскаянья в преданности Сталину. Среди них – Бакланов, главный редактор журнала «Знамя», в котором были впервые опубликованы мемуары Симонова: «Как несвободна была его мысль! Даже когда он писал в стол, как пишут завещания»116116
Бакланов Г. Жизнь, подаренная дважды. С. 123. Критические замечания об исповеди Симонова высказали и другие авторы: Карабчиевский Ю. До былой слепоты не унизимся // Новый мир. 1989. № 1. С. 256–261, 257; Баткин Л. Сон разума. О социально-культурных масштабах личности Сталина // Знание – сила. 1989. № 4. С. 72–73; Иванова Н. Константин Симонов глазами человека моего поколения // Знамя. 1999. № 7. С. 204.
[Закрыть]. Сын Константина Симонова, Алексей Кириллович Симонов (в начале карьеры Симонов поменял имя с Кирилла на Константина)117117
Алексей Симонов – один из нескольких мемуаристов, которому пришлось объяснять читателю историю своего рождения и имени, в частности, почему он Кириллович, когда его отец – Константин Симонов. Родители поженились незадолго до его рождения и разошлись, когда ему был год, позже Симонов, по документам Кирилл, поменял имя на Константин, так как плохо выговаривал звуки «р» и «л» (Симонов А. Частная коллекция. С. 18).
[Закрыть], который стал активным общественным деятелем в годы перестройки, замечает, что для него нелегко писать о политическом облике отца, однако он пишет и о том, что ему больно читать негативные реакции на мемуары отца, среди них – резкие высказывания о раскаянии сталиниста Симонова в дневнике Нагибина118118
Там же. С. 51–57.
[Закрыть]. О Симонове пишет и сын другого писателя, Юрия Германа, Михаил Герман (его отец, как и отец Алексея Симонова, покинул сына в раннем детстве). Одобряя выпады Нагибина против Симонова, сам он от суждения отказывается: «Не мне и не моему поколению судить Симонова, но вся его деятельность была настолько точным индикатором взаимодействия власти и литературы, что поневоле о ней приходится вспоминать». (На следующей странице он упоминает, что и его отец получил Сталинскую премию119119
Герман М. Сложное прошедшее. С. 138.
[Закрыть].)
В мемуарах «Просто жизнь», опубликованных поздно, в 2006 году, историк и архивист Сарра Владимировна Житомирская (1916–2002) возражает против мемуарных свидетельств своих современников по нескольким пунктам120120
Житомирская С. В. Просто жизнь. М.: РОССПЭН, 2006; страницы указаны в тексте.
[Закрыть]. Мемуары Житомирской рисуют широкую историческую картину: детство в еврейской семье на Юге во время Гражданской войны, отрочество в коммунальной квартире на Арбате в 1930‐е годы, учение на истфаке в МГУ, эвакуация во время войны и более чем тридцать лет трудной работы в качестве архивиста (и одно время директора) отдела рукописей Библиотеки имени Ленина. (Эти мемуары включают драматическую историю конфронтации Житомирской в 1970‐е годы с администрацией Библиотеки по вопросу о доступе к архивным документам.) Мемуары заканчиваются в замечательный день – 21 августа 1991 года: провал путча. Бóльшая часть книги – это хроника деятельности советского учреждения, «История гибели отдела рукописей». В этом отношении свидетельства Житомирской отчасти направлены против мемуаров ее коллеги, видного советского деятеля библиотечного хозяйства Наталии Ивановны Тюлиной (1922–2003), опубликованных в 1999 году под говорящим названием «Воспоминания библиотекаря со счастливой судьбой»121121
Тюлина Н. И. Дома и на чужбине: Записки библиотекаря со счастливой судьбой. М.: Либерея, 1999; 2‐е изд. М.: Пашков дом, 2006. (Это одни из немногих мемуаров советского опыта, заявляющих о «счастливой судьбе» автора.)
[Закрыть]. Как пишет Житомирская:
Невозможно понять, что все, о чем она вспоминает, происходило в той самой библиотеке, где в спецхран отправлялись целые пласты литературы, где читателя последовательно и сознательно оставляли в неведении или создавали у него искаженное представление об исторических событиях, науке и культуре. В главной библиотеке Союза, вносившей важный вклад в дело культуры, но в то же время, именно вследствие своей центральной роли, служившей проводником всего того, что проделывала с ней власть. Все мы, работавшие там, в той или иной степени к этому причастны, и признаться в этом больно, но необходимо (220–221).
Заметим, что мемуары Житомирской, в свою очередь, вызвали отклики коллег122122
Ответ на книгу воспоминаний Житомирской, в частности на ее рассуждения «об ответственности и культурно-исторической роли институтов памяти – библиотек, архивов, музеев», а также на критические высказывания о сотрудниках Ленинки – опубликовала коллега-библиотекарь: Стельмах В. В связи и по поводу. НЛО. 2006. № 81.
[Закрыть].
Вспоминая о годах сталинского террора, в главе «Истфак и террор» Житомирская (тогда студентка исторического отделения МГУ) говорит о коллективной ответственности «народа» и «интеллигенции»:
Но если советский человек утверждает, что не знал о терроре 30‐х годов, – не верьте ему! Знали все, и вина за террор, за миллионы погибших людей лежит на нас всех <…> как вел себя народ? Что делала интеллигенция, его духовный авангард? И мы не только не покаялись до сих пор, но даже не ощущаем потребности в покаянии (110).
Бескомпромиссные суждения Житомирской о причастности советских людей к большим и малым преступлениям власти, от убийства миллионов людей, погибших в терроре, до искажения представлений об истории за счет ограничения доступа к книгам и архивным документам, относятся ко всем ее согражданам-современникам, но она особо говорит о сообществе мемуаристов: «в сознательных или даже неосознанных попытках отстраниться от своей причастности к системе <…> я вижу главный порок описания советской эпохи в мемуарах моих современников» (115). Бескомпромиссностью отличаются и суждения автора об интимной жизни советского человека. Так, описывая свои отношения, как профессиональные, так и личные, с собратом-историком Натаном Эйдельманом, она пишет о том, как она была поражена, когда узнала, что у него была параллельная семья (367–368).
Истфак МГУ описан и в опубликованном в 2005 году дневнике-мемуаре другого историка, Бориса Григорьевича Тартаковского (1911–2002), который был студентом в те же годы, что и Житомирская (он упомянут в ее мемуарах). Как и Житомирская, Тартаковский перечисляет имена студентов и преподавателей, которые «исчезли» в 1937 году. Между двумя мемуаристами есть и существенная разница. Если Житомирская твердо заявляет: «если советский человек утверждает, что не знал о терроре 30‐х годов, – не верьте ему», то Тартаковский думает иначе – разделяет «тогда» и «теперь»:
Я думаю теперь, что тогда мы, во всяком случае я, находил в официальном партийном объяснении всего происходившего некую точку опоры, позволявшую не утерять <…> веру123123
Тартаковский Б. Г. Все это было… Воспоминания об исчезающем поколении. M.: АИРО–XX, 2005); ссылки на страницы приводятся в тексте. В печати появились и военные дневники этого автора: Тартаковский Б. Г. Из дневников военных лет. М.: АИРО–XX, 2005.
[Закрыть].
Заметим, что он начинает с «мы», но затем переходит к «я». И он пишет об «„ответственности“ нашего поколения», о «необходимости „покаяния“, о чем сейчас так много пишется и в прессе, и в мемуарах <…>» (192). Однако он настаивает на том, что невозможно «сейчас» представить себя тем, кем он был «тогда» (166). (Этим утверждением он показал понимание законов мемуарного жанра, построенного именно на напряжении между «тогда» и «сейчас», и это немудрено: младший брат автора, Андрей Григорьевич Тартаковский, был экспертом по мемуарному жанру124124
Исследования А. Г. Тартаковского о мемуарном жанре приведены выше.
[Закрыть].) Независимо от того, читали ли Житомирская и Тартаковский воспоминания друг друга еще до публикации (из самих мемуаров это не ясно), в открытом пространстве опубликованных мемуаров они находятся в диалоге друг с другом – и выражают несогласие.
Две книги мемуаров и роман рассказывают одну и ту же историю
Когда мемуары современников, знавших друг друга, оказываются в открытом пространстве, и притом в течение десяти-пятнадцати лет, они нередко рассказывают об одних и тех же людях и ситуациях (и не только о знаменитых людях и выдающихся событиях). Такие совместные усилия, независимо от того, входит ли это в интенции авторов, создают особого типа сюжеты, которые читатель может реконструировать из разных источников. В условиях террора, когда мемуаристы рассказывают о скрытом и болезненном и обнажают интимное, такие свидетельства обладают особым эмоциональным потенциалом. Ниже я реконструирую одну такую историю.
Мемуары исследователя мифа и фольклора Елеазара Моисеевича Мелетинского (1918–2005), написанные в 1971–1975 годы и опубликованные в 1998‐м (в составе сборника его научных трудов), посвящены опыту войны и тюрьмы. Автор явно избегает говорить о своей интимной жизни. Вот что он сообщает об обстоятельствах своего второго ареста в 1949 году в Петрозаводске (где он тогда преподавал):









































