Текст книги "Золотые опилки"
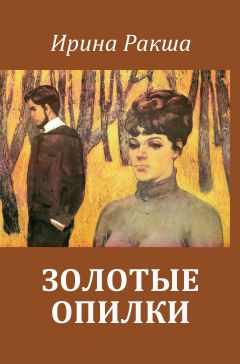
Автор книги: Ирина Ракша
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Ода Его Величеству
(рассказ)
В наше время оды как-то не пишут. Поздравляют всё больше простенько: по телефону, порой телеграммой или через Интернет. И не как прежде – в стихах и с музыкой, – а в прозе. В суровой прозе.
В советское время, например, писатель Виктор Астафьев всё-таки сочинил хвалебную песнь огороду. Он так и назвал её: «Ода русскому огороду». Написано талантливо (впрочем, как и всё у него). Но обычно оды, как возвышенный комплимент, писали поэты. Кому-то, чему-то. От Горация до Петрарки, от Ломоносова до Пушкина, от Баратынского до Гумилёва… и так далее.
Но вот далее дело с одами как раз заглохло. В ХХ веке после суровых, кровавых войн и революций этот изысканный жанр как-то увял. И пока, уже в новом веке, что-то не расцвёл, не возродился. А мне давно хотелось воспеть один бытовой предмет, который уже много лет всё служит и служит мне, да и всему человечеству.
И называется он обычно и прозаично: таз. Но это был не просто таз, это Его Величество Таз. Ни клейма, ни печати у него не было. И неизвестно – когда, в каком месте и кем он рождён.
О, как долго этот эмалированный белый таз сопровождал меня в жизни!.. Сперва он, конечно, сопровождал мою бабушку, затем маму, потом уж меня. И слыл твёрдым, послушным и щедрым, ибо был широк, глубок и распахнут. Постоянно, конечно, блестящий – поскольку дочиста вымытый, – он казался свежим, как новорождённый. А главное, был всегда очень нужен, порой просто необходим. И притом в самых важных и разных случаях: «Я без него как без рук», – говорила бабушка и доставала его из ларя в кухне. И мама так говорила. И потом я.
Во-первых, в этом тазу, конечно, стирали и полоскали бельё. Представляете, сколько всякого белья благодаря ему за целый век стало чистым?.. И если это бельё сложить, то стопка достанет, наверное, до неба.
Во-вторых, в нём купали детей. И бабушкиных, и маминых, и моих (три поколения в нём перемылись, перекупались!). И их румяные голые попки сидели в горячей воде на белом дне тазика.
И в общие бани этот таз носили с собой: «для ребёнка». В одной руке сумка с чистым бельём, мочалкой и мылом, в другой – таз. А в помывочном зале, где в душном, мокром пару стоял гулкий шум водопада да стук казённых цинковых шаек о двух ручках, всюду, как в преисподней, блестели тела обнажённых женщин с треугольником тёмных волос под животом. Старых и молодых. Сидящих на горячих каменных лавках, обданных кипятком, или толпящихся у кранов с горячей водой. (У нас и в бане не обходилось без очередей.) А в мыльной пене нашего таза до блеска мылись и полоскались наши волосы – тёмные или седые, длинные или короткие.
Я помню две бани моего детства. В Останкино и на Таганке, вернее, на Андроньевке. Когда жила у бабушки – бани андроньевские были на высокой горе у Андроникова монастыря. Туда мы с бабушкой после серьёзных, продуманных сборов (взрослые брали с собой исподнее чистое бельё, и для меня – рубашонку, чулочки) ходили не спеша, даже торжественно, и пешком, пересекая Садовое кольцо. Бабушка никогда не спешила, а мама вечно торопилась куда-то.
С горы, от стен монастырского храма, будто с высоты птичьего полёта, нам широко открывалась картина – как некогда благи́м рублёвским монахам-строителям… Внизу темнела любимая наша Яуза, речка-невеличка с задумчивым её течением. Мост через Яузу к Курскому. И дальше уже в Заречье, в Сыромятниках виделись, словно разбросанные игрушки, низкие, будто прижатые тучами, убогие крыши домов и сараев. Глухие заборы и чёрные стаи ворон. А мы, старый и малый, стояли у святых белокаменных стен, перекрестясь, смотрели на вознесённые золотые кресты куполов, которые словно соединяли небо и землю. И мне хотелось раскинуть мои детские руки, сгрести, подтянуть снизу вверх эту серую даль с вороньим граем – сюда, под золотой свет святых куполов.
А когда я жила у мамы в Останкино, ездили мыться в бани за пять остановок в село Алексеевское, к заводу «Калибр». Баня вплотную примыкала к нему, считалась заводской, и рабочие после смен, в отличие от городских, мылись бесплатно. Дни – мужские и женские – чередовались. Расписание кассирша писала чернилами от руки и вывешивала бумажку снаружи на дверь предбанника.
В зале голые, беззащитные люди тёрли друг другу спины, окатывались из шаек горячей водой. А в то же время за стеной, в оружейном цеху, исхудалые, измученные войной женщины и подростки в ватниках изготовляли, таскали, грузили снаряды для фронта – разных тяжёлых калибров. Громыхая, плыла без остановки по цеху чёрная лента конвейера. Словно в отчаянье, надрывно стучали, крутились станки. Горько пахло машинным маслом, металлом, смертью. И острые носатые снаряды сотнями копились в цехах у вагонеток и во дворе – у платформ и товарняков. Ожидали отправки на фронт. Невозвратно. Жизнь и смерть дышали рядом.
И в эти вот ближние бани мы с мамой ездили из нашего Останкино на гремящем трамвае. За пять остановок. С белым семейным тазом и сумкой, набитой сменным чистым бельём, и свёртком с мочалкой и мылом. Кондукторша в перчатках без пальцев (их отрезáли, чтобы удобнее было считать мелочь за проезд) обычно кричала охрипшим голосом на весь вагон: «Следующая остановка – завод „Калибр“. Бани!»
А однажды в шумном помывочном зале я, тогда первоклассница, испытала шок. Настоящее потрясение!.. Уже вымытая мамой «до скрипа», я сидела по-турецки – худые коленки в воде – в нашем белом просторном тазу и смотрела на маму, стоящую поодаль с шайкой среди голых женщин, у кранов. И неожиданно… вдруг – о ужас! – даже дыханье внезапно остановилось… Я узнала в лицо саму Раису Петровну, свою любимую молодую учительницу. Но она была… не она. Потому что совершенно без одежды… Ну совсем, совсем го-ла-я. Руки, ноги и груди. И ещё… С тёмным, как у всех, треугольником под животом…
Она стояла с шайкой рядом с мамой, и они беседовали. Да-да… О чём-то мирно, спокойно беседовали. Словно бы так всё и надо. Но она-то, она была моя учительница!.. А тут какая-то чуждая, белотелая, о двух руках и ногах, стояла голая… перед всеми… И этот треугольник под животом!.. Ах, только бы не повернулась ко мне! Я замерла, я умерла, вобрала голову в плечи. Мои щёки, лицо заливал жгучий горячий стыд. А сердце словно остановилось и не хотело биться… Только бы меня не увидала!.. Только бы не увидела. Не узнала. Вот такую – голую, сидящую, как младенец, в воде, в этом белом домашнем тазу…
Мне хотелось ослепнуть. Испариться, исчезнуть, словно невидимка… Но тут мама спасла дело. Она как ни в чём не бывало подошла с полной шайкой воды. «А знаешь, кого я сейчас встретила?.. Твою учительницу». И грохнув шайку на камень лавки, невольно загородила меня… и тем самым спасла.
А ведь только сегодня утром в классе стройная, пышноволосая Раи са Петровна вызывала меня, послушную ученицу, к доске. А заканчивая урок, громко диктовала классу домашнее задание на вторник. И вдруг… Вдруг – такое! Невыносимое. Немыслимое, до слёз.
Ах, Раиса Петровна!.. Моя дорогая… Как там в школьной песне поётся? – «Учительница первая моя!» Вы научили меня русскому алфавиту. Научили бережно, ровно писать эти буквы в тетрадке, макая стальное перо-лягушку в чернильницу-непроливайку. Затем научили из этих букв составлять слова. Потом связывать слова в предложения. А предложения – в ясные мысли. И я стала писать. И вот пишу. Всю жизнь пишу. Даже книги. И Вам пишу. И о Вас…
Где Вы, моя бесценная?.. Живы ли?.. А если нет, где Ваша могила? И я поклонюсь ей и с благодарностью припаду. Пусть родная наша земля Вам будет пухом.
И Господь простит все грехи. А у Него мёртвых нет. Значит, встретимся.
Но однажды что-то сказав во-первых про мой эмалированный Его Величество Таз, и даже уже во-вторых, думаю, что надо сказать и в-третьих.
А в-третьих, он участвовал во всех главных семейных делах. Во всём помогал. По праздникам – и малым, и большим, многолюдным (Рождество, Новый год или свадьба) – в этом белом тазу готовили винегрет. Весело резали в него, мелко и крупно, разноцветные варёные овощи. Потом щедро, от души, поливали эту красоту подсолнечным маслом и долго-долго размешивали.
Но… с наступлением праздника тазик почему-то прятали в кухне, в тёмный дощатый ларь, а в комнате царствовала другая посуда. Фарфор. Сервировка. Салатники и блюда. Впрочем, таз привык к этой участи…
А ещё в нём порою месили тесто для выпечки. Самое разное: пшеничное и ржаное, серое и белое, – но всегда мягкое, упругое, как резина, и липнущее к рукам. Тесто бывало и тоще-скудное на воде, и богатое на масле. Может быть, сладкое или постное, солёное или дрожжевое, с ванилью и без. В зависимости от времени, что тикает за окном. От эпохи, что неумолимо стоит на дворе.
А ещё – в послевоенные нищие годы этот таз был использован изобретательной бабушкой для шитья. И в этом был фирменный её секрет. Именно с помощью тазика зимой и летом она как могла наряжала, одевала свою любимую внучку. Кроила мне юбочки, сарафаны и платья. Тканей в продаже не было, и не имелось денег на ткань, но была умная голова и белый таз. И ещё разные спорки старой одежды (от слова «пороть», распарывать). От дедовых курток и брюк, старых халатов и пёстрых юбок. Конечно, со спорками было много возни. Их стирали в горчице, сушили и гладили. Зато потом… А потом в умелых руках получался шедевр.
Обычно вечером с обеденного стола бабушка убирала скатерть, расстилала приготовленный кусок ткани из подола изношенного халата или спинки клетчатой рубахи деда. И колдовство начиналось. Сверху на эту ткань торжественно укладывался наш таз, перевёрнутый вверх дном. И вокруг большими ножницами по краю таза резалась выкройка. Лишь весело щёлкал, постукивал металл о металл. «Чик-чик…Чик-чик!» – и вскоре был готов идеальный круг.
Потом это мягкое «солнышко» складывалось пополам. Затем ещё пополам… и ещё. Потом уголок вверху аккуратненько отрезался, и получалось «горлышко». Я, замерев, с восторгом смотрела на это чудодейство со стороны. Но тут бабушка, подняв на лоб очки, подзывала меня к себе на примерку:
– А ну-ка, детка, повернись… Встань передо мной…
Подскочив, я радостно выкрикивала:
– Как лист перед травой!
И «горлышко», скользнув по голове, падало мне на плечи, а солнышко опускалось ниже.
– Ну, вот тебе и обновка ко дню рождения. Теперь дело за малым: притачать весёлые крылышки и подшить на машинке. Но крылышки из другой ткани, – и бабушка кивает на соседний диван. – У меня там остались цветные куски-лоскутки. Из них вот и выберем… – Взяв за плечики, она поворачивает меня перед собой. С удовольствием оглядывает свою любимую маленькую модель. Порой даже советуется: – Или может, пониже опустим? До кокетки? А здесь пришьём вставку вон из того банта? Этот цвет – терракота. Запомни. Бант репсовый. Ему сносу не будет. И по цвету хорошая комбинация. Я носила его ещё в гимназии, на бальном бархатном платье. Сзади, на талии.
На диване распахнут старинный лаковый чемоданчик. Из него вынута и раскидана вокруг пёстрая масса всяких обрезков, ленточек, шнурков, кружев, бантиков и бантов. И всё это нежно пахнет духами и стариной. Да при таком богатстве разве можно ребёнку быть нищей, плохо одетой?
– А вон та чёрная атласная лента… – кивает бабушка на диван, – была у меня на груди чёрного, по фигуре, длинного платья. Называлось оно «амазонка». Я в нём скакала на лошади по полям и лугам. В шляпе с белым шарфом…. Он на ветру за спиной развевался. Очень красиво! – И добавляла: – Только в дамском седле сидеть неудобно. Я так и не привыкла. Куда лучше было обычное. – За очками её глаза улыбаются. – А может, мы сочиним тебе всё же юбку-солнышко? Как в прошлом году?..
И я тотчас подпрыгиваю:
– Солнышко!.. Солнышко!..
И вот уже на столе под светом жёлтого абажура стоит чудо техники – чёрная швейная машинка «Зингер» с лакированным вензелем на боку. И бабушка, склонясь, двигает ткань ладонями и строчит, строчит на ней мою обновку. Подбирает даже нитки по цвету. И я, счастливая, тут как тут. Я рядом, я нужна. И даже помогаю: вставляю нитку в ушко иголки. Вот бабушка уже подшивает подол и «кокетку». И стук безотказной немецкой машинки, её стальной пульки-шпульки словно автоматная очередь прошивает тишину комнаты. Вырывается в коридор и наружу, в открытую форточку…
А наш белый таз, достойно отработав своё, гордо стоит у стены и ждёт, когда хозяйка отнесёт его в кухню, на место. И запрёт на замок в дощатый высокий ларь, который заменяет ей кухонный стол. И перевернув, положит его поверх иных, очень старых, но нужных вещей – таких, как узкий ребристый рубель из дуба для катанья-глажки постельного льняного белья; как квадратные жестяные противни для пирогов; как круглые фигурные формы для выпечки куличей к Пасхе; как оцинкованная стиральная доска; как деревянное корытце из липы для рубки хрустких капустных кочанов для посола на зиму, и где ещё спрятаны разные вёдра и вёдрышки…
Но наш трудовой белый Таз будет всё-таки сверху, чтоб под рукой. Он в доме всё-таки главный. И будет всегда важней и нужней других!..
А мне бабушка подарила его на свадьбу, вместе с другой посудой. И сейчас он – ветеран труда! – уже старенький, весь в сколах и трещинах. Но всё равно повторю благодарно: «Да здравствует Его уважаемое Величество!»
И надо жить…
(из блокнотов разных лет)
Бывает в жизни всё, бывает даже смерть…
Но надо жить и надо сметь…
Э. Ростан«Сирано де Бержерак»
Во ВГИКе мы писали подобные записки просто «одной левой» на сценарном факультете – к своим курсовым и дипломным работам.
Хотя я защищала диплом уже по моей второй книге прозы «Катилось колечко» (издательство «Советская Россия»). Это был редкий случай. За несколько лет до меня во ВГИКе учились и стали писателями только Нагибин, Амлинский, Шпаликов. Прочие – сценаристы.
Нынче кончается второе тысячелетие от Рождества Христова.
К сожалению, Россия вляпалась (её вляпали) в капитализм. Грядёт новое время. Уж и не знаю, что готовит оно, что нам всем принесёт?
Но кое-что всё-таки уже принесло. Наглядно. В виде свободы слова. Хотя слишком дорогой ценой. После гибели целой страны, моей Родины. Любимой, прекрасной. Только почему такой жестокой ценой?.. Тогда зачем мне далась эта свобода?
И всё-таки…
* * *
…Даже не верится, что настал момент, когда можно отвечать на вопросы анкеты так, как хочется, а не так, «как надо». Наконец дожили!.. Доползли к концу века. А то всю жизнь на всякие там непотребно-потребные вопросы анкет мы, гомо советикус, отвечали по принципу: «Нет… нет… не была… не состояла… не участвовала».
А почему, собственно, «нет» и «нет», если «да»? И была, и участвовала, и состояла – хотя бы уже потому, что в те годы жила, и была, и всё видела?..
А всегда «нет», потому что страшно было. И мне, и каждому. За себя страшно, за семью и за детей, за карьеру, за непечатанье, например, твоей новой книги, да и вообще – за судьбу.
На крохотную нашу кухню на пятом этаже в кооперативной двушке-хрущобе на Преображенке, где потолки промерзали, весёлых гостей «на блины» набивалось к нам обычно битком. В основном «тунеядцы», конечно: режиссёры, поэты, художники. И литинститут тут, и технари. Но всё больше наши с Юрой сокурсники-вгиковцы: Б. Шустров, Л. Володарский, В. Андреев, Э. Кеосаян, Е. Васильев, троечник-сценарист Э. Топельбег (ныне американцем стал – Эдуард Тополь, видите ли, писатель уже), его беременная невеста – киновед и моя подруга Ира Калинина, которую он позже, конечно, бросил…
Любили у нас бывать и тогда ещё начинающие поэты-писатели: Ю. Казаков, В. Лихоносов, Е. Храмов, В. Костров, В. Вучетич, Ф. Розинер, О. Дмитриев, А. Заурих. Были и физики-лирики. Если сидели в кухне, то буквально плечом к плечу, а в комнате – попросторней. От сигаретного дыма было синим-синё, играла гитара, проигрыватель крутил пластинки (всё больше поляков, чехов: «Руди риц», «Филипинок», Эву Демарчик). Отчаянно танцевали твист, только что народившийся, читали стихи, весело ели блины, спорили. Я вслух с выражением читала Зощенко – «Баню», «Аристократку» из только что вышедшей книги. Все смеялись взахлёб…
Почти без оглядки упивались свободой слова, открытием ранее запрещённых Цветаевой, Есенина, Мандельштама, Аверченко, Зощенко. Но порой после особенно острого анекдота или словца про «любимую партию и правительство» мой муж Юра картинно так, под общий смех, стучал в стенку и выразительно возглашал: «Это шутка! Шутка!» или: «Мы пошутили!» Потому что все знали тогда: и у стен есть уши. В общем, повсюду царила «кухонная оттепель», лихая свобода. Но и она частенько кончалась плохо, хотя за окном расцветала уже оттепель шестидесятых.
Однако позже опять закрутили гайки. Как одеялом, всех душно накрыл брежневский застой. Уже на семинарах молодых талантов, организуемых компартией (которые любила посещать министр культуры и демократка, красивая Екатерина Алексеевна Фурцева, мы все не раз там с ней общались), наши мастера слова – например, Галич, Окуджава и прочие – пели под гитару свои «нетленки» с оглядкой, с опаской.
Помню, как Галича после очередного нашего ликующего сборища у него в номере в Комарово вызвали в Ленинград на ковёр к всесильному члену Политбюро ЦК КПСС Григорию Васильевичу Романову. Не было Галича дня два. Мы, молодые поэты-прозаики, киношники и художники, все извелись в ожидании. И если честно, перетрухали, были все словно в прострации. Лекций на семинарах почти не слышали. Наконец Галич вернулся. Весь чёрный, но как всегда гордый, прямой и красивый. А за обедом сказал: «Шабаш. Больше у меня не собираемся. Приказ получил – заткнуться, не разлагать вас – будущее советской культуры. А иначе…» И вскинул палец.
Но «иначе» тогда не случилось. (Иначе было потом.) И мы опять после каждого ужина втихаря тянулись к нему в домик по заснеженной тропке: мастеров селили отдельно, не в главном корпусе, а в деревянных коттеджах. Жадно внимали звукам его гитары, его густому голосу, а главное – дерзким мыслям: «Облака плывут в Абакан…» и пр., и пр. В сигаретном дыму, сгрудившись в тесном номере, мы снова сидели на казённых койках и стульях и жадно слушали «Физиков», «Карасей». И тогда ещё новенькое – важная песня: «Вот как просто попасть в первачи… (богачи, стукачи) / Промолчи, промолчи, промолчи…»
Но в дальнейшем преподавать на семинарах молодых талантов ещё вчера успешного драматурга Галича не приглашали.
Вот пишу эти строки, и не уходит образ Галича-эмигранта…
Вспоминаю. Прибалтика, Комарово. Семинар молодых талантов. Сосны, ночной ветер за окнами, комната мастера, дым сигарет коромыслом. И мы, глупые молодые таланты, сидим плотно по стульям и диванам, плечо к плечу, и над нами, как бы объединяя, звучит голос Галича. Сочный, густой. «Облака плывут, облака…/ В Абакан плывут, в Абакан…» И ещё его же, пронзительно яркое, с болью: «Мы похоронены где-то под Нарвой. /Так и лежим, как шагали, попарно…» Блеск же!
А там… Парижские эмигранты кучкуются, друг за друга цепляясь, имитируют прежнюю жизнь. Больше цепляться-то не за что…
Думая о наших эмигрантах-писателях, мою душу так и разбирает злая досада: «Ну, зачем же, зачем ты, дурак, уехал?.. У тебя ж всё было в руках. А главное – была Родина, была твердь под ногами, опора, будущее. Вернуться надеялся? – Но тогда ведь не возвращались, и ты, уезжая, прекрасно знал это. И теперь не стони: „Когда я вернусь?.. Ах, когда я вернусь?..“» Да никогда не вернёшься. Уже никогда. Даже если б и выжил. Поздно. Ни душой не вернёшься, ни телом…
Спросишь: а как же Аксёнов?.. А его «Москва Ква-Ква» – то вернулась?..
Да лучше бы не возвращалась. Даже если бы ты, как хитрец Евтушенко, заранее оплатил возврат своего тлена, своего загнившего праха в Россию и велел закопать в Переделкино, да ещё «поближе к гению Пастернаку», всё равно ты бы исчез. Ты просто смыт, навсегда удалён. Ты – Ква-Ква. В России особенно не терпят иуд: перебежчиков и предателей. Для нас они навечно отмечены клеймом презренья…
* * *
Помню популярный анекдот тех лет. Петька спрашивает Чапаева: «Что это вы всё пишете, Василий Иванович?» – «Оперу пишу, Петька, оперу…» – «Про меня там чего-нибудь напиши́те…» – «А как же, Петька. Обязательно напишу. Опер велел про всех писать!»
В те времена (как, впрочем, в любые) настоящих борцов, героев-мучеников, готовых ради идеи идти на закланье – например, на Красную площадь с банкой бензина и плакатами типа: «Долой власть! Долой коммунизм!», – было совсем немного. Только однажды с Новодворской вышли туда всего человек восемь. Эти «почти герои» были готовы себя поджечь. И западники (либерасты-русофобы) даже восторгались по радио «Свобода» их бесстрашием.
А для рядовых, обычных людей, а не героев, главным в те годы было просто выжить. Просто жить, работать, учиться, растить детей. Такой была и я. В противостояниях не участвовала. Ничего не подписывала, не старалась что-то свергать, против чего-то бороться. Тем более против государства. Ведь это была Россия, Родина. И на груди я честно носила значок ВЛКСМ. И даже была в школе комсоргом. А кругом все шутили: «Главное что? – Не высовываться!. Чтоб по башке не дали…»
Эту мудрость – не высовываться! – моё поколение усвоило с младых ногтей. Может, поэтому я так и не обрела ни особого честолюбия, ни протестной дерзости. Никуда не лезла, не вляпалась ни во власть, ни во льготы разные писательские, «секретарские». И даже в КПСС всерьёз вступить не успела. Хотя после смерти мужа я, горем прибитая, растерялась. А друзья, отвлекая меня, упрямо тащили в партию. (Тогда квота в райкомах была сродни поощрению. В год эту честь только двоим, например, членам Союза писателей предлагали. Так что я в кандидатах так и застряла.)
В детстве, в Останкино, я, послушная и опрятная девочка, на людях старалась быть незаметной. Вобрать голову в плечи и одеться похуже. Тогда быть по-пролетарски одетой было всегда спокойнее. Это значило быть «как все». Ты из крестьянско-пролетарской среды. Быть самой массой, толпой – как все дети-голодранцы, ребятишки нашего барачного Останкино. На задворках столицы.
Моя милая мама этому вечно и всячески сопротивлялась. И бабушка тоже. Она упрямо перешивала мне из старья, из спорков (распоротой одежды) что-нибудь покрасивее, понаряднее. Но любой обновке я радовалась лишь до порога, чтобы потрафить старшим. Знала, что во дворе мне новое платье нарочно заляпают, да ещё до слёз доведут. «Вырядилась! Недорезанная буржуйка!» Это выражение очень долго жило при советской власти. И до войны, и позже…
Да что там говорить!.. Страх – вещь противная, липкая. Тогда на опаске и боязни держалось многое. На них да ещё на слепой, но горячей, вполне искренней вере в светлое будущее, в коммунизм. И все трудовые порывы, и все горячие подвиги, все героизмы-энтузиазмы тех пятилеток были заквашены, замешаны на двух чувствах – вере и страхе.
Тогда все искренне верили и искренне же боялись. Жили с оглядкой. (А вдруг кто донос на тебя напишет?) Боялись везде и все, от старых до малых. Это сейчас, как говорит мой сосед-бизнесмен, «все развинтились и распустились, Сталина на вас нет. А ведь раньше были будто винтики. Сидели тихо, плотненько так…» – И сосед, занимающийся риелторством, молча вставляет ключ в замок своей очередной квартиры.
К сожалению, у людей моего поколения этот страх до сих пор сидит где-то под ложечкой. Например, перед соседским доносом. Кстати, заметьте: «страх» (то есть трусость, боязнь) и «страховка» (ограда, защита) произошли от одного корня. Порой нынче начнёшь громко болтать о политике – и вдруг как хлестнёт: «Стоп, голубушка, стоп!» – и сразу язык прикусишь. Сегодня молодым это совсем незнакомо. Они в лёгкой своей болтовне, в безответственном трёпе просто пределов не знают. Порой слушать противно… А нам, старшим, как-то думается: а вдруг всё вернётся?.. И потянут тебя, голубушку, «за язык» куда следует?
Видно, этот вирус страха, эта подкорковая боязнь, самоцензура у нашего поколения сохранится до смерти.
Хотя именно моему поколению «шестидесятников» повезло. Ведь мы пуганы были меньше, не как родители… Но непривычной стала внезапная эта свобода слова. Её величество СВОБОДА. Ведь в последние десятилетия века даже на горизонте не маячило таких перемен. Пока Свобода – как новая одежда, которая велика в плечах. Всё сползает куда-то: то на правое плечо, то на левое. Её надо осознать, подогнать по росту, по смыслу. А может, и дорасти до неё?..
Но вопрос главный остался: какой ценой она вдруг получена?.. Не в этом ли перекос?.. Ценой гибели целой страны?.. Моей родины?.. Значит, теперь на одной чаше весов – рынок, заманчивый бизнес, свобода слова, попросту – говорильня. А на другой чаше – Россия, моя страна, где я родилась, где жили предки, многие поколения.
Не слишком ли высока цена?
* * *
И всё же я – человек счастливый. Счастье, кстати, оно ведь не вовне, оно внутри каждого человека. В сложные тридцатые годы «придворный» поэт Николай Асеев вполне искренне писал, а мы, школьники, наизусть это учили:
Что такое счастье? Соучастье
в добрых человеческих делах,
в жарком вздохе разделённой страсти,
в жарком хлебе, собранном в полях.
В те годы вслух заикаться про какую-то «страсть со вздохами» вообще было неприлично. Но Асеев под конец жизни на всё уж рукой махнул!.. Несчастный был человек, хотя талантливый и даже обласканный властью. Как и друг его – мудрый, всё понимающий поэт Михаил Светлов, мой учитель. Я о нём написала «Про Светлова. И пара слов о Маяковском».
А о себе я могу сказать, что счастливая. Хотя бы уже потому, что в жутком 1938-м году только появилась на свет… По промыслу Божьему, не понимая ещё, зачем и в какой мир вхожу. (Поколению, раньше явившемуся в мир, думаю, повезло меньше.)
* * *
Родилась я в Москве, у студентов, спортсменов и комсомольцев, в общежитии Тимирязевки (ТСХА). У восемнадцатилетней москвички Нины Никольской – очень интеллигентной, музыкальной девушки из семьи «недорезанных буржуев», улыбчивой, с коротко стриженными под мальчика (по моде тех лет) волосами, и раскудрявого, бесшабашного, голубоокого активиста Евгения Ракши – «лапотника», приехавшего в Москву после рабфака из Киева, а родом из деревни Пединовки Черкасского уезда.
Так вот, родилась я в роддоме у Соломенной сторожки от неравного брака («мезальянс!» – как говорила бабушка, мамина мама). Родилась, в общем-то, нежданной-негаданной и потому нежеланной… От их первой нецеломудренной ночи и молодой, горячей любви.
Собственно, у меня был риск вообще не родиться. А это было бы значительно хуже. Но пронесло. За что слава и Богу, и моим мудрым московским бабушке с дедом. Они всё же заставили молодых перед лицом такой неприятности, как беременность, расписаться. На комсомольской свадьбе в общежитии красавица Ниночка удачно скрывала округлый животик.
Но главное (!) – комсомольская ячейка и деканат агрономического факультета выделили деревенскому активисту, рабфаковцу Евгению Ракше (жена-москвичка не принималась в расчёт) отдельную комнатку в общежитии на Лиственничной аллее – до получения диплома. А к ней еще и два стула, и казённую койку, и шкаф с зеркалом!..
А кузнецовский фарфор, круглый ломберный столик с зелёным сукном и старинное кресло привезли молодым с Таганки в качестве приданого мои бабушка с дедом-профессором. Они смирились в итоге с выбором дочери. А куда денешься?.. Конечно, моя бабушка Зинаида Ивановна Никольская (статная, красивая, из древнего новгородского рода, где значились и дворяне, и священники, и врачи) и мамин отчим – Аркадий Иванович Трошев, авиатор, блестящий выпускник академии Жуковского (1927 г.), а затем профессор МАИ и МАТИ, сокурсник и друг Игоря Стечкина (создателя автоматического пистолета), не были слишком рады браку их Нины с хлопцем-колхозником, «гегемоном», не умевшим даже пользоваться за столом ножом и вилкой.
Однако упаси Бог было показать или высказать это! Это было опасно!.. Ведь именно он, пролетарий и гегемон, снисходил до их дочери, «исправлял» её неудачное происхождение. И Ниночкины родители утешались уже тем, что молодые с младенцем не оказались у них на Таганке-Землянке, в их старинной (правда, уже уплотнённой подселенцами) квартирке № 14 на Ульяновской, 18 – с беккеровским пианино, стильной дубовой мебелью, зелёными портьерами и остатками столового серебра, чудом не конфискованного большевиками, в голод и в НЭП не проданного в Торгсин (так называлась организация по торговле с иностранцами).
Позднее их любимая внучка Ирочка, спасаясь от разных семейных невзгод, временами будет жить у них – и школьницей, и студенткой – в этой уютной, пахнущей пирогами квартирке, с автомобильным гудком вместо звонка. («Трошевым – два гудка». Вместо сломанного звонка дед-профессор где-то раздобыл клаксон, и казалось, что это легковое авто́ подкатило к дверям и ждёт их.).
Дед умрёт от туберкулёза в 1953-м, не дожив месяца до смерти вождя всех народов. А его любящая жена и любимая моя бабушка Зинаида Ивановна надолго переживёт его и будет всегда моей палочкой-выручалочкой. Эта истинная аристократка по духу умудрится прожить до девяноста четырёх лет, сохранив светлый ум, достоинство и благородную стать в недостойной и порой даже убогой жизни.
Итак, в 1939-м я голубоглазым бутузом уже бегала по длинным общежитским коридорам на Лиственничной аллее. (Где буду потом, уже в 58-м – правда, всего два года, – бегать уже студенткой агрофака ТСХА.) И мамины сокурсники-агрономы частенько, подхватив кудрявую малышку, затаскивали её в разные комнаты и, посадив на стол, кормили пёстрыми леденцами из коробки с надписью «Монпансье». А юная мама Нина, теперь уже Ракша, металась в панике, разыскивая дорогую пропажу по всем этажам…
Так что сама дата моего явления на свет уже спасла меня от возможной гибели. От «прямого попадания» на полях жизненных сражений. Год одновременно был и тяжкий, кровавый, даже страшный, но и полный веры в будущее, полный бодрого общенародного энтузиазма.
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей,
Человек проходит как хозяин
Необъятной родины своей!
…
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
И во время Великой Отечественной я не погибла, потому что осенью сорок первого, после бомбёжек Москвы, мы с мамой уехали в эвакуацию на Урал. И в голодные послевоенные годы выжила, потому что взрослые старались ребёнку сунуть в рот любой съедоб ный кусок. И в начале пятидесятых я, старшеклассница, по зову сердца рванула на алтайскую целину. Да и потом для студентки всё обошлось, в начале шестидесятых, когда уже мало, но всё же порой сажали «за язык», однако наступила оттепель.
Правда, в 1960-е был один опасный момент. Уже имея дочь и мужа-художника, тоже вгиковца, я с некоторым недоумением узнала, что моя бабушка, мать моего отца Евгения Ракши – Мария Васильевна Винникова, как значилось в документах, многодетная курянка, вышедшая в начале века замуж под Киев в село Пединовку за деревенского фельдшера Игоря Ракшу, является младшей сестрой «той самой» запрещённой эмигрантки Надежды Плевицкой (Винниковой), легендарной русской певицы. Она эмигрировала из СССР в 1920 году и погибла во Франции в 1940-м.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































