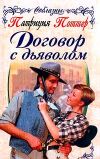Текст книги "Отцовский почерк"

Автор книги: Ирина Словцова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Глава 4. Город детства
Ни она – город, ни город – ее – не узнали. Но ее это особо не расстроило. Ведь она сюда не предаваться воспоминаниям и лирике приехала, а с конкретной целью. И для достижения этой цели у нее в блокноте были записаны фамилии и адреса, которые она выцарапала из глубин своей подростковой памяти.
Сев в такси, она назвала первый в своем поисковом маршруте адрес: улица Карла Маркса: квартира, в которой они жили до переезда в Подмосковье, находилась в доме номер 61. Она отправлялась туда, надеясь, что отец там так и живет. Ведь оставалась же ее бабушка Амалия после их отъезда в своей же квартире, почему бы и отцу не поступить так же? А если он еще и женился, то тогда эта трехкомнатная квартира как нельзя лучше подошла бы для новой семьи, так как хорошо распланирована. Катя помнила, что между спальней родителей и их с Танькой комнатой находилась гостиная. Окна родителей выходили во двор, а они с Танькой всегда сидели летом на подоконнике своей комнаты и сплевывали косточки от черешни на газон зеленой улицы, сильно шедшей под уклон. Еще она вспомнила, как однажды, в июне, вдруг резко выпал снег и засыпал все тополя тяжелым мокрым слоем. Ветки ломались под его тяжестью, и по всей улице стоял треск.
Такси остановилось как раз на углу этой улицы и маленького переулка: «Во двор не поеду, – категорически заявил водитель, – там вечно все машинами заставлено. Богатые все стали, – ворчливо сказал он, принимая от Кати деньги и отсчитывая купюры для сдачи. Она так и не поняла, чем он был недоволен, количеством машин во дворе или ее крупной купюрой.
Катя открыла дверь знакомого подъезда, еще не знавшего кодовых замков, поднялась на второй этаж, позвонила в их бывшую квартиру. Звонок раздался звонким эхом – у них был большой коридор. Она вспомнила, что двери ванной комнаты и туалета открываются в коридор, потом представила, как входит в гостиную, а через нее – в кухню. Одно время папа тер себе сырой картофель – лечил язву желудка.
Она снова позвонила, – ни души.
– Заблудилась? – вдруг окликнул ее старческий голос. Катя оглянулась: по лестнице поднималась пожилая женщина. Одной рукой, с тонкой кожей и набухшими синими венами под ней, она держалась за перила, а другой опиралась на деревянную трость. Лицо женщины Кате не было знакомо.
– Здравствуйте, вы не знаете, кто здесь живет?
– Звонишь в квартиру и не знаешь, кто там живет? – удивилась старая женщина. – А зачем тогда звонишь? Подписи собираешь на депутата?
– Я жила здесь… двадцать лет назад.
– Тюю… – протянула женщина и остановилась у двери напротив. – Ты знаешь, сколько хозяев здесь сменилось за те пять лет, что я с ними соседствую? Сейчас здесь военные живут…
«…Ишь, какая шустрая, – посмеялась Катя над своей неудачей и отправилась в маленькую гостиницу, которая находилась здесь же, в полуподвальном помещении этого же дома. – Хорошо, хоть что-то сохранилось, как прежде…»
Ей повезло удивительно: ее маленький одноместный номер выходил окнами во двор, где она провела свое детство: заснеженный стол для тенниса, невысокая ограда, разделявшая территории детского садика и жилого дома. Правда, ограда совсем не мешала им с приятелями вечером перемахнуть «в садик» и там играть в прятки, пока не выгонит сторож или родители не позовут домой… Пейзаж за окном, вызвавший воспоминания, вселял надежду, что ее поиски будут удачными и недолгими.
Ну что же, в конце концов, есть газета «Нижне-Тагильский рабочий», в которой корреспондентом начинала ее мать. И от матери она знала: если что-то хочешь узнать – иди в редакцию и по цепочке информаторов найдешь того или то, что нужно.
Оставив вещи в гостинице, Катерина отправилась в здание, которое помнила и любила в детстве: городскую библиотеку. В читальном зале попросила подшивку местной газеты и, пролистав ее, через полчаса знала все, что ей нужно: больница, в которой бывший цирковой акробат встретил ее отца, по-прежнему носит свой номер и находится в том же здании; а в городе создано немецкое общество «Возрождение», которое занимается реабилитацией российских немцев, подвергшимся репрессиям в начале Великой Отечественной войны, ставшими узниками трудовых лагерей именно здесь, на территории Свердловской области.
«Уж наверняка в этом обществе знают, где живет Август Лихт», – с надеждой думала Катя по дороге к пятиэтажному серому зданию в стиле сталинского ампира и открывая тяжелую дверь с табличкой «Возрождение».
Она оказалась в небольшом уютном помещении, где пахло кофе и чем-то знакомым ей с детства…кажется, приправами, которыми бабушка Амалия сдабривала свое «воскресное» печенье, когда они с дедушкой Артуром переехали из барака в квартиру на улице Мира. Так она и пошла по коридору – на запах. Через несколько шагов оказалась в холле: уютные кресла, журнальные столики. На одном из них – дымящийся кофейник, а рядом, на большой тарелке – …бабушкино печенье.
У нее вдруг закружилась голова, она ухватилась рукой за дверной проем.
– Вам плохо?! – кинулись к ней две пожилые женщины, до этого сосредоточенно перебиравшие большие пачки писем на большом прямоугольном столе.
Катя неожиданно для себя онемела, только хватала ртом воздух и молча плакала. Женщины посадили ее в одно из кресел, открыли форточку, стали капать валерьянку. Судя по тому, как они это делали: быстро, молча и без суеты, занятие это для них было привычным. Когда вдруг одна из них – со строгой прической из белоснежно-седых волос погладила ее по-матерински, как маленькую, по голове, Катя и вовсе разрыдалась. Седая положила катину голову себе на плечо, гладила ее вздрагивающие плечи и приговаривала:
– Поплачь, дочка, поплачь… тебе легче станет.
Другая, в очках, принесла Кате бумажные салфетки. Женщины обращались друг к другу Иза и Фрида. Через полчаса, успокоившись, Катерина смогла рассказать своим утешительницам, откуда и зачем она приехала.
– Август Лихт! боже мой, – воскликнула седая Иза, – да он тут, наверное, полгорода лечил или спасал. У нас тут собраны все газетные вырезки про всех наших, ну… ты понимаешь, – сказала она Катерине. – Кто, как и где работает или работал, какие награды получил. Про Лихта целая папка благодарностей через газету.
– Так он жив?! Где он живет? – обрадовалась Катя.
– Этого мы не знаем, деточка, – сказала ей Изольда. Он уехал из города. Но знаешь, мы сейчас собираем воспоминания российских немцев-трудармейцев о том, что было… И один из друзей твоего отца передал нам его письмо – для книги, которую мы готовим. Я тебе сейчас его принесу…
Изольда ушла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с гранками будущей книги, протянула Кате страничку из блокнота с отцовым почерком. Она задрожавшими руками взяла его. Письмо было коротким: «Получил твое письмо и отвечаю. Вспоминать неохота те унижения, которые мы пережили. Привезли нас 20 человек в управление Тагилстроя, а оттуда на самосвале – на кирпичный завод. Ночь мы коротали в конторе на столах. Утром к нам пришел охранник, стал спрашивать: «Ты кто?» Я ответил: «Врач». Он сказал: «Врачи нам тоже нужны». И так каждого: «Ты кто?» Вечером нас сводили на второй этаж (печь Гофмана) кир-пичного завода. Нары двухэтажные. Холод, зима. Люди лежали на полу.
Потом я ездил в Башкирию. Там было еще хуже. Люди голодали. Один парень украл там овес у лошади – за это ему дали 10 лет тюрьмы. У некоторых был психоз. Я помню – вверху, на нарах, был худой немец. Чтобы не слезать с нар, он пил собственную мочу! Другой, измученный голодом, работая на погрузке зерна, насыпал его себе в кальсоны. На вечерней поверке они развязались, и груз оказался на земле. Тут же охранник застрелил «вора» на месте. …Мне вчера дали первую группу инвалидности. Так что у меня положение не радостное.
Письмо сопровождал официальный комментарий: «После пребывания в строительном отряде 18–74 А.А. Лихт работал в Нижнем-Тагиле врачом-хирургом.(4. Прим.) Затем, когда был снят запрет на выезд, с супругой и детьми уехал из города… Супруга Лихта, Елена Георгиевна Николаева работала в газете «Тагильский рабочий» корреспондентом.
– Скажите, – стала торопливо спрашивать Катя, – а оригинала письма, с конвертом у вас не осталось? Я хотела бы узнать, откуда пришло письмо.
– Нет, деточка, – Изольда виновато покачала головой. – И оригинала не осталось… а того, кто это письмо получал, мы в прошлом году похоронили… Если хочешь – прочти вот это, – протянула ей увесистую папку Изольда. – Здесь собраны копии документов о том, как жили наши в Тагиллаге. Их собирали бывшие заключенные, трудармейцы, их дети и внуки. Многие ведь остались здесь, стали учителями, преподавателями в местном институте, историками, журналистами.
Катя приняла папку, снова села к столу, взяла в руки первую страницу: «Тагиллаг НКВД – был организован в 1941 г. в связи со строительством второй, "сверхлимитной" очереди Новотагильского металлургического (НТМЗ) и коксохимического заводов, объектов рудничного хозяйства и подчинялся Главному управлению лагерей промышленного строительства. …Всего за 1942–1943 годы через лагеря Тагиллага прошли 85547 узников, убыли 59822.
До войны в Нижнем Тагиле не было крупных лагерных образований, поэтому Тагиллаг пришлось создавать практически на пустом месте… Чрезвычайная скученность и невозможность разместить всех прибывающих в Тагиллаг из-за полного отсутствия жилищного фонда для лагерного строительства привели к тому, что часть людей оставалась по несколько дней в вагонах на станции Рудная без питания, медицинской помощи, дров. В сорокаградусные февральские морозы, под открытым небом, на пустых площадках люди приступали к лагерному строительству, которое развивалось крайне медленно из-за нехватки материалов.
Условия жизни и работы узников Тагильского ГУЛАГа были экстремальными. Жили в сырых, не отапливаемых бараках, где на одного человека приходилось менее одного квадратного метра. Спали в рабочей одежде на голых нарах, не умывались. Катастрофически не хватало теплой одежды, рукавиц, нижнего белья. Из-за необеспеченности вещевым довольствием, и особенно обувью, в зимние месяцы 1942 г. простои из-за разутости и раздетости составляли 10 % от всего списочного состава лагеря.
"Отсутствие обуви, – говорилось в объяснительной записке к отчету треста за 1 квартал 1942 г.,– особенно сказывалось на слабосильных, которые при выходе из барака босиком в пределах зоны лагеря подвергались особенно часто простудным заболеваниям (до воспаления легких включительно)"
На стройке преобладал тяжелый ручной труд. Наиболее трудоемкие земляные работы были механизированы только на 29 %, укладка бетона – на 50 %. Экскаваторов и других механизмов не было. К этому следует добавить 11-часовой рабочий день, установленный для заключенных основных и вспомогательных производств, сверх скудный рацион питания, и без того урезанный с началом войны. Ситуация осложнялась отсутствием в рационе овощей и картофеля, которых особенно стало не хватать с наступлением весны.
Широко практиковалась замена недостающих продуктов лагерного питания мукой и горохом. Такое преобладание безбелковой мучнистой пищи при значительном поступлении ослабленных контингентов с наступлением весны вызвало значительные заболевания цингой и пеллагрой".
В лагерях свирепствовал сыпной тиф, люди умирали от авитаминоза, цинги, дизентерии, замерзали от жуткого холода в землянках и бараках. Из-за нехватки медикаментов, недостатка больниц и лазаретов, врачей и среднего медицинского персонала узники порой были лишены самой элементарной медицинской помощи.
…Вскрылись факты преступного отношения к заключенным со стороны лагерной администрации. В шестом лаграйоне в течение двух месяцев отсутствовала питьевая вода; "з.к. вынуждены были пользоваться снеговой водой, что повлекло за собой массовые желудочно-кишечные заболевания". В седьмом лагерном районе, несмотря на эпидемию сыпного тифа, в течение полутора месяцев так и не были построены баня, дезкамера и прачечная. Отсутствие элементарной заботы об условиях труда и быта людей привело к тому, что на момент обследования 50 % заключенных оказались нетрудоспособными.
Экстремальные условия существования узников Тагиллага, скверное питание, отсутствие медицинской помощи вели к массовым заболеваниям и повышенной смертности. Только в 1943 г. в лагерях Тагиллага умерли 7090 человек, или 21 % от общего числа заключенных. Из них подавляющая часть (5257 человек) умерли из-за дистрофии и пеллагры. Доля больных и ослабленных в 1942 г. достигла 26 %, а в 1943-35 % от всего контингента.
Похоронные команды не успевали рыть могилы и делать гробы. Только из одного 8-го лаграйона каждую пятницу зимой-весной 1942 г. вывозилось до трех машин, наполненных доверху трупами. Аналогичная картина наблюдалась и в остальных лагерях. Поэтому руководству ГУЛАГа пришлось в феврале 1943 г. издать приказ по поводу захоронения умерших: «Наряду с захоронением каждого трупа в отдельности разрешить погребение в общих могилах по нескольку трупов вместе. Допускать захоронение трупов без гробов и без белья".
В 1991 г. инициативная группа в составе представителей Нижнетагильского общества "Мемориал", Музея истории молодежных движений Урала и кинематографистов из Голландии совершила поездку в Винновку. При помощи людей, работавших в лагере, было установлено и предполагаемое место массовых захоронений заключенных. Выяснилось, что тела умерших сбрасывали в старые медные шахты, принадлежавшие в годы нэпа американскому концессионеру Тису. Глубина этих шахт, по разным данным, колеблется от 17 до 50 м. Сколько было этих шахт, каково их точное расположение – выяснить не удалось…
…Осенью 1941 г. из немцев военнослужащих Красной Армии, отозванных с фронта на Урал, был сформирован строительный батальон для работы на Уралвагонзаводе (впоследствии Уральский танковый завод). В феврале 1942 г., почти одновременно с узниками Волголага, в Тагил прибыли трудмобилизованные советские немцы, распределенные в спецотряды № 18–74 и 18–75. Весной к ним добавилось еще несколько десятков немцев – офицеров Красной Армии. Привозили советских немцев в Тагил и в 1943 г.
Летом 1943 г. на Тагилстрое сложилось чрезвычайное положение. Курировавший строительство НТМЗ (нижне-тагильского металлургического завода) зам. наркома внутренних дел А.П. Завенягин в августе сообщал в Москву о бедственном положении этой категории работающих: "На месте лично убедился в исключительно тяжелом положении военнообязанных из Средней Азии, а также спецпоселенцев. Люди в большинстве разуты, раздеты, спят на голых нарах. Наступившие холодные дожди уже вызывают заболевания и простой рабочей силы. В случае необеспечения в ближайшее время указанного контингента вещдовольствием осенью будут массовые заболевания и смертность…"
…Катя до вечера просидела у гостеприимных Изольды и Фриды, читала воспоминания друзей отца, вместе с ним попавших в мясорубку трудовых лагерей для российских немцев, и постигала ту бездну отчаяния, боли, унижений, которую испытали люди ни в чем не повинные ни перед своими соотечественниками, ни перед страной, в которой их угораздило родиться. Она также начала понимать, почему отец никогда при дочерях не предавался воспоминаниям о войне и своём прошлом. Она смотрела фотографии, читала воспоминания, письма немцев-тагильчан и плакала, и плакала, и плакала…
Она не замечала, как в комнату, где она читала документы и воспоминания таких же депортированных немцев, как и ее отец, входили и выходили люди, в основном, пожилые, иногда с внуками за ручку. Кто-то молча присаживался около нее, сидел молча несколько минут, вздыхал и так же молча уходил; кто-то гладил, как маленькую, по голове, кто-то дружески гладил по плечу. Какой-то малыш положил рядом с ней яблоко, другой – печенье… К концу вечера около нее на диване высилась горка угощений. Она вдруг сквозь слезы улыбнулась, как будто согрелась участием чужих ей людей. Она почувствовала здесь столько тепла, понимания и сострадания, сколько давно не видела в родной семье… Даром, что немцы!
И вдруг ужаснулась внутренне: она говорит так про людей, которые объединены с ее отцом общей национальностью, общей судьбой, вернее, общей бедой, и снова слёзы потекли по её лицу.
Дело было не в тех жутких подробностях, которые скрывались не только от неё и Таньки родителями, но и, вообще, от советских людей: оболганные, униженные, российские немцы умирали – от пыток, издевательств, от дикого уральского холода, голода за колючей проволокой и непосильной работы. Катя родилась после войны. В школы, где она училась, приходили люди, выжившие после концлагерей и плена, участвовавшие в обороне Москвы. Ее поколение выросло на фильмах, книгах и воспоминаниях ветеранов об Отечественной войне. И ее, как врача, трудно было поразить описаниями вырванных костей и реками крови.
Она плакала от горечи за отца, от того, что только теперь поняла: всю ношу своих лишений и воспоминаний отец нес один. Он оберегал их с Танькой от того, что могло лишить их уверенности в себе, сделать злыми и обиженными на весь мир. Теперь ей становилась понятнее причина, по которой он исчез из их жизни.
Ей было стыдно, что только на четвертом десятке лет она осознала, каким на самом деле человеком был их отец и что она виновата перед ним своим запоздалым прозрением. Она также понимала, что там, дома, ей некому рассказать об этом, некому вылить эту боль! Даже ее самая близкая подруга как-то проговорилась:
– Ненавижу немцев. У меня дед, отец, дядья – все погибли: либо под Москвой, либо под Сталинградом. У нас в семье одно бабье – отсюда и вечная склока…
…Выплакавшись, Катя всё рассказала Изольде, впервые за весь этот день решившись посмотреть пожилой женщине в глаза. Та слушала ее молча, собирая после катиного чтения бумаги и документы в разные папки и папочки, иногда взглядывая на рассказчицу мудрыми ясными карими, как у бабушки Амалии, глазами; в такой же мелкой сеточке лучистых морщин вокруг них.
– Я чувствую себя такой виноватой, – покачала головой Катя в конце своего рассказа и снова взялась за промокший носовой платок.
– Напрасно, Катрин, – присела около нее на диван Изольда. – Это его решение, и его надо уважать. А потом, ты ведь полукровка, и родители вправе воспитывать тебя так, как решат это меж собой. Твоя мать – русская. Воспитанием в немецких семьях всегда занимаются матери. У вас – тоже. Вот тебя и воспитывали как русскую. У нас тут, на Урале, очень много сложилось русско-немецких семей, и в каждой решают по-своему, как воспитывать детей. Кто-то дает два языка и две культуры, а кто решает придерживаться немецких корней. Твои родители решили иначе – значит, была у них на то своя причина. Найдешь отца – и все выяснишь. А сейчас, Катрин, пойдем домой, пора.
Опухшая от слез, Катя вернулась в гостиницу. Куда– либо выходить за продуктами, сил не было. Она попила в гостиничном буфете чаю и отправилась спать.
Так, всхлипывая, она и заснула – в одноместном номере гостиницы, находившейся в цокольном этаже дома, в одной из квартир которого Катя прожила счастливо и спокойно: с папой, мамой, сестрой, большим кланом родственников и друзей, приходивших по праздникам, выходным и просто в будние дни. Они с Танькой были защищены и любимы так, как дай Бог быть так же хранимым другим детям во все времена…
Проснувшись на следующее утро, Катя решительно открыла свой блокнот и выбрала новый адрес: 3-я городская больница, где отец оперировал циркового гимнаста, о котором ей рассказала Анна. Вот куда она поедет. Трамвайная остановка находилась там же, как и двадцать лет назад. Только сами вагоны были уже современные. Выйдя на четвертой остановке, Катя оказалась на территории больничного парка. Она смутно помнила «топографию» главного здания больницы, хотя бывала здесь часто, видела отца в операционной.
Услышав от секретарши цель посещения Катерины, главный врач сам вышел в приемную. Это был импозантный, пожилой, но еще довольно крепкий мужчина:
– Дочка Лихта! Ничего себе! Ну, как папа? Как чувствует себя, чем занимается?
Она не знала ответов на эти вопросы.
– Подождите-подождите, так вы дочь или нет? – с удивлением уточнил он.
– Я дочь, но только папа с нами уже давно не живет. И я пытаюсь его найти…
Старый доктор никак не мог понять:
– После стольких лет? Как-то это не по-человечески… Клава! – позвал он секретаршу. – Отведи-ка ты барышню к Арнольду Фридриховичу. Домой отведи… – уточнил главврач для секретарши, а для Кати пояснил:
– Арнольд из дома уже год как не выходит. Думаю, он должен знать. Они ведь с Августом дружили. Надеюсь, он знает, куда ваш отец уехал.
Вдвоем с Клавой Катя спустилась в вестибюль, вышла на улицу. Молоденькая секретарша, в туфельках на тоненьких каблучках, скользивших по тропинкам мартовского снега, вела ее наискосок, через больничный двор, к невысоким корпусам трехэтажных домов. Поинтересовалась:
– А вы общались с Арнольдом Фридриховичем?
Катя смутно вспоминала кого-то крупного, громогласного, с которым постоянно спорила мама, если оказывалась дома во время его посещений… Это тот самый Арнольд, который боролся за восстановление республики Поволжья, ничего не хотел забывать и прощать… (5. Прим.)
– Да,… но это был так давно….
– Значит, вы не испугаетесь, – сделала вывод Клава и заскользила по дорожкам больничного парка еще быстрее. – Он человек бескомпромиссный, не все его выдерживают… Он, знаете, из таких, – она замялась, но фразу закончила, – из оголтелых: «ничего не забудем, ничего не простим».
Они вошли в подъезд, поднялись на второй этаж.
Девушка позвонила, в тишине они услышали тяжелые, шаркающие шаги и стук палки. Дверь открылась. На пороге стоял высокий, очень полный седой человек, опираясь на тяжелую трость. На шее висели очки, привязанные за ушки к черной тесемке.
– Входите, дамы, не церемоньтесь, – старик старался быть галантным, смягчая свой трубный голос. Мне уже позвонили, что Клава ведет ко мне дочку Лихта. Ну-с, с чего начнем? Чаю попьем или говорить будем?
Клава виновато топталась на пороге:
– Арнольд Фридрихович, вы уж тут без меня. Мне на пост.
– Знаю я твой «пост», – язвительно заметил Арнольд, – цветы-шоколад от поклонников принимать. Ладно, иди уж, дверь захлопни сама…
И обернулся к Кате:
– Вы старшая или младшая?
– Старшая.
– Ну-с, присядем.
Катя присела на краешек пыльного стула, мельком оглянулась: отсутствие минимального комфорта и присутствия женской руки. Везде – газеты, журналы; какие-то вырезки, бумаги – квартира современного Плюшкина, только без паутины. Ей стало душно и захотелось поскорее уйти. Она заторопилась:
– Арнольд Фридрихович, не хочу вас отвлекать. Так что я сразу к делу. Мне сказали в больнице, что вы, похоже, единственный, кто знает местонахождение моего отца.
– Знал… Правильнее сказать, знал. После того, как здесь умерли все его родственники: мать, отец, сестра, он перестал мне писать. А, может быть, не поэтому…
– Так у вас остались его письма? – испугалась она, что и эта надежда сейчас растает.
– Чтобы у Арнольда, да что-нибудь пропало? – с гордостью сказал он про себя, порылся в какой-то папке и достал КОНВЕРТ, – вот, это его последнее письмо.
Она задрожавшими руками взяла конверт, прочла обратный адрес: «Владимирская область, город Ковров…»
Папа всегда был аккуратистом и всегда писал свой обратный адрес, где бы ни жил: в гостинице – во время отпуска с мамой или в общежитии, когда ездил на курсы повышения квалификации в Ленинград или Москву.
– Ковров, – а где это? – удивилась Катя.
– На реке Клязьме, госпожа дочь… Он всегда говорил, что ему не хватает Волги, а вот поселился на какой-то Клязьме.
Катя пыталась рассмотреть дату на штемпеле конверта – когда, в каком году отец писал это письмо. Арнольд увидел ее тщетные попытки и милостиво разрешил:
– Не мучайтесь, загляните в текст. Ваш отец имеет обыкновение всегда ставить даты на том, что пишет.
Она резко, чуть не порвав конверт, вынула одинарный листочек, по диагонали пробежала строчки и, наконец, нашла: письмо было датировано летом прошлого года…
Громогласный старик, наблюдавший за ее эквилибристикой, говорил:
– Я всегда предупреждал Августа, что не дело это – воспитывать дочерей русскими. Они должны быть немками, продолжать наш род, наши традиции. Вот вы, Катрин, знаете хоть один рецепт из немецкой кухни?… А наши песни? А в Саратове вы были? А Волгу, на которой вырос ваш отец и переплывал ее, видели?
И вдруг его глаза увлажнились и совсем другим – доверительным – тоном Арнольд сказал:
– Он, знаешь, писал мне, что как-то ездил туда – ну, когда сняли запрет… Нашел свой дом в Саратове, на Белоглинской улице, в окно увидел часы с боем из своей комнаты. Там, конечно, уже давно люди чужие жили. Он постучал, его продержали на крыльце. Он просил хоть часы отдать – прогнали. Вот так-то, моя дорогая…
Она вежливо отказалась от чаепития с Арнольдом. Ей казалось, что теперь дорога каждая минута…
…Ей снова повезло:
– Плацкарт, боковое место наверху, – будете брать? – спросила ее пожилая женщина в железнодорожной кассе.
– Даже если с лыжниками, все равно буду, – торопливо ответила Катя, доставая деньги из кошелька.
– Какие лыжники, вы о чем? – с подозрением посмотрела через окошечко женщина.
– Буду, конечно, буду, – заторопилась Катя, подавая деньги.
В Москву она ехала с обычными взрослыми попутчиками, слушала разговоры о повышении цен, о болезнях, о несправедливости начальства, но ей не хватало детских жизнерадостных голосов… или все-таки их тренера с веселыми глазами, таившими в своей глубине печаль?
«…Да, город детства… Да, походить-побродить-повспоминать, – думала она, осторожно ворочаясь на своей «верхней боковой», – но на конверте – дата годовой давности…» У нее нет времени на ностальгию. Ей нужно найти отца. Успеть найти. Лирикой она займется потом.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?