Текст книги "Юлий Даниэль и все все все"
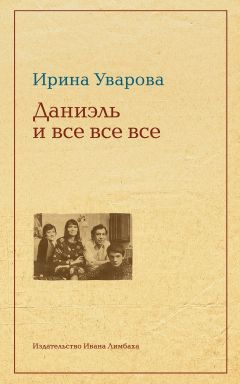
Автор книги: Ирина Уварова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
«Молодой-красивый, дай погадаю»!
Кто передал мне во дни незабываемого суда тайный сверток?
Согласно этике тех времен сказать, кто именно передал, строжайше запрещалось. Да я уж и не помню кто, прошло вон сколько лет.
Зато, что там было, еще как помню.
Было ОНО на папиросной бумаге самиздата, это ночное чтение, что сродни курению, опасному, разумеется, опасному. Невесомые призрачные страницы поляризуются на пальцах, машинопись через один интервал, пятый экземпляр, конечно, пятый, да и был ли у самиздата первый?
И – как всю жизнь всякое чтение раскрываю не от начала, а где придется – привычка школьных лет, тогда мы верили в таинственную значимость выпавшей строки. И хотя потом уж верить перестали, я и сейчас открою книгу поначалу где попало и загляну, что выпадет.
А что же выпало тогда? Стихи среди прозы:
Сердце с домом, сердце с долгом разлучается,
Сердце бедное у зависти в руках,
Только гляну, как цыганки закачаются
На высоких, сбитых набок каблуках…
О господи, за это, что ли, сейчас судят автора? С них станется, цыганский каблук обвинить в антисоветчине.
Гады.
Суд шел днем, мороз – жуткий, и мы толпою простояли перед зданием суда на Пресне, куда, конечно, нас не пускали; вход был по пригласительным билетам.
…И я еще раз разворачиваю папиросный сверток, но только и второй раз выпадает та же страница, а так не бывает.
Отвечают мне цыганки – юбки пестрые:
К вольной воле весь наш век мы держим путь,
А захочешь – мы твоими станем сестрами,
Только все, что было, – не было, забудь!
Вот оно что. Ему нужна вольная воля, не больше и не меньше. Зато ОНИ и вцепились в горло, воля для них ничем не лучше антисоветчины, а если разобраться, то и хуже.
Но что ж, я учинила гадание на кофейной гуще? Сначала, будем читать сначала, от заголовка «Искупление». Повесть. Страница первая:
«Я сидел и рассеянно обводил глазами публику. Какая все-таки у большинства женщин некрасивая походка! Работают много, что ли. Вот цыганки – те все как одна идут-плывут, только юбки вьются».
Дались ему цыганки. Кстати, какие у нас походки, неужели он прав? Мы с ним были знакомы. Совсем немного.
Когда меня мордовали в центральной прессе за некий очерк, кстати, в журнале «Театр», он позвонил. Другие тоже звонили, выражали соболезнование или осуждение, он же выразил восхищение, только не помню чем, может быть, ситуацией: «написал – получил».
А что, собственно, получил? То ли в скором времени о нем самом напишут в тех же «Известиях»!
Но – позвонил. Голос у него бархатный. Качественный был бархат.
Потом его арестовали. Сначала Синявского, потом его.
Москва впала в панику. Никто не знал за что. Может быть, начало массовых репрессий. Волнение было сильное, всех качало, едва не каждый успел представить в этой череде себя. Только так можно объяснить то обстоятельство, что эти два ареста интеллигенция приняла столь близко к сердцу.
Что ж оказалось?
Оказалось – взяли писателей. Оба известны за рубежом как Абрам Терц и Николай Аржак. Таковы псевдонимы, из блатных песен. «А еще культурные!» – возмущались дружинники возле пресненского суда. Дружинники ждали вооруженных нападений.
Их отловили в сентябре 1964 года, Андрея Синявского, литературоведа, и Юлия Даниэля, переводчика.
«Суд идет» пророчески назвал одно свое крамольное произведение Абрам Терц.
Наутро мы опять несли вахту на Пресне.
Нас притянуло туда магнитом сочувствия, жаждой сопереживания. В те дни мы оказались «людьми одного караса», как нас позже обучит говорить Курт Воннегут.
Для меня, в близкой дружбе с подсудимыми не состоявшей, чужая ситуация стала своей. Кровно своей.
Наверное, с другими было так же. Не говоря уже о закадычных друзьях, у Юлия их было множество.
Но если рассуждать о том, почему мы в конце концов оказались вместе, я упираюсь в цыганские дела. Цыганки наворожили, не иначе. И какой табор, ушедший в небо, раскинул наши карты?
А было так.
Оказавшись в мордовском лагере по приговору суда на пять лет, он, Юлий, просил всех писать ему и всем отвечал – в одном общем письме родным. Письмо читалось вслух по разным домам. Обзванивали всех, все и собирались.
Общее чтение писем Юлия стало важным ритуалом московской среды. Бдением в некотором роде. В этих сборищах эпистолярного характера было его присутствие среди московской компании, и если нужно было это всем нам, то ему совершенно необходимо. Потому интонация писем непринужденная, легкая, «прогулочная». Словно и не было в лагерной жизни подавления, мрака, а если и были, то не огорчать же этим милых друзей и милых подруг. Он и не огорчал.
Много позже он рассказывал мне, как в соседский лагерь приехал к «своему» табор на личное свидание, раскинулся, тряпки сушились на колючей проволоке, и весело им было, к великому негодованию лагерного начальства и даже растерянности. Наверное, письма Юлия, читаемые цензорами с особым тщанием, вызывали у них те же чувства.
Итак, писали ему: друзья – часто, я – редко, неудобно навязываться, мы же едва знакомы, чего я буду писать, как девушка солдату, знакомому по переписке. Еще была сложность в поиске сюжета.
Но оказавшись в Праге по сценографическому поводу, все же написала большое письмо с подтекстом. Из каждой строчки торчали уши примитивных намеков. Однако лагерная цензура дала маху.
Писано же было, что чехи доверили мне читать своего талантливого нового писателя по фамилии Выходил, его повесть «Говорит Прага». Что по сердцу мне пришелся тот писатель. Что Прага, которая говорит, хороша, но Чешский Крумлов лучше, город средневековый и таким остался, и отдали его цыганам во искупление геноцида военных лет, ведь только цыгане равнодушны к отсутствию электричества и воля им дороже клозета; и что цыганки, пышные и с тучными волосами, не похожи на наших, поджарых, от московских тротуаров, но юбки вьются и так далее.
Следовало же понять, что читана повесть Даниэля – Аржака «Говорит Москва» и что я от души надеюсь, что он выйдет на волю. А повесть хороша, но другая повесть, «Искупление», еще лучше, где песню про цыганок поют в московской компании…
В ту пору все мы были большими конспираторами. Уроки эзопова языка я брала у самого Белинкова[4]4
См. о нем на с. 144–159 наст. изд.
[Закрыть]. Впрочем, теперь понятно, что освоена была только школа начальной ступени. Ну да что сейчас об этом. Главное: он письмо получил. Все понял, о чем сумел сообщить. Так что мои личные чешские цыганки достигли цели.
А потом и по другому поводу в общем письме написал про цыган, уже его собственных.
Цыгане, писал он, моя давняя и незатухающая любовь.
«Я чуть не подпрыгивал от радости, когда меня спрашивали, не цыган ли я. Я в отрочестве был совершенный цыганенок. Да и потом, лет эдак до 25–27. А уже после полезла наружу моя иудейская подоплека. Меня всегда восхищало то великолепное пренебрежение ко всему, что мы напридумывали, – от манер до комфорта. И действительно в них „что-то птичье и египетское есть“. И дело не в том, что они красивы почти все – по нашим, по европейским меркам; нет, даже какая-нибудь смуглая, маленькая, кособокая, с отвисшими грудями – проходит не среди, а сквозь и мимо, как мы проходим мимо неинтересных и неодушевленных предметов. И отношение у них к нам тоже утилитарное: они нас замечают, когда мы нужны (как мы к предметам): лишь тогда они кружат вокруг нас свои замызганные юбки. Тем более мне приятно вспоминать, что ни одна моя встреча, ни один разговор с цыганами не был для них материально выгоден. Помню, у меня никогда и денег-то не спрашивали. Своего, что ли, узнавали?»
Вот именно узнавали! И дело было не в темной масти – мало ли черноволосых.
Был дан ему шаг легкий, неслышный, так ходят не в городе, а по горной тропе, и в каждом движении – цыганство. Иначе – свобода. Но мягко аранжированная, без манифестации и категоричности, свойственной суровым борцам за независимость. Просто чувство вольности было у него врожденным, владело им, как говорится, в размерах чрезвычайных. В той действительности, где мы выросли и сформировались, такого состояния души, как у него, просто и быть не могло.
Право, уйти бы ему с табором, оно, может быть, и лучше было б.
Да, но тогда мы бы не встретились.
Я и сейчас думаю, цыганская это была нить, что нас связала. Его московские и крумловские мои – эти уличные ворожеи, столь сведущие в таинственных делах судеб, подсуетились заочно.
Продолжение в городе Калуге, куда Юлий был сослан на год по отбытии заключения в лагерях, потом – во владимирской тюрьме.
В Калугу к нему друзья приезжали и я приезжала тоже. Я была одна в доме, когда в дверь позвонили и на пороге появилась седая горбоносая птица с прозрачным глазом гипнотизера и серебряной серьгой, назвалась сербиянкой. Я ее тотчас впустила и, разумеется, немедленно оказалась в ее власти. Выложила свой скромный капитал, объяснила, что нужно мне в Москву ехать, она честно отложила обратно в кошелек – на электричку и на метро, остального хватило на славное чародейство. Выдернули нитку из подкладки моей шубы, разорвали, а нитка оказалась целехонькой, холодная вода из стакана не выливалась, но закипала с шорохом дальнего прибоя. «Только не гадай мне», – прошу. «А чего тебе гадать, и так ясно». Это ей ясно, а не мне. Но я так просила ее прийти завтра, когда хозяин будет, и показать ему все это, особенно с морским прибоем и еще чудо с ниткой, и обещала ведь она, обещала!
И не пришла. Он ждал ее очень.
Оказалось, мы оба ценим фокусы. Еще оба терпеть не могли, когда их, фокусы, разоблачали.
Однако прежде, чем двинуться дальше, я призываю себя не порывать полностью отношения с жизненной правдой и говорю – тебя послушать, так можно подумать, что все цыганские встречи были приятны; друзья, узнав про визит сербиянки, заверяли, что ее КГБ подсылал, только Юлий не верил, и я не верю.
Ну а в поезд Андижан – Москва тоже не веришь? Припомни, не ты ли в ноябре шла с вокзала домой в халате, оставшись без куртки. И впав в глубокий сон, во сне все же видела этих двух маленьких радужных женщин, почему-то оказавшихся в купе. Было это? – Увы. И вообще обобрать меня поздней осенью было свинством. Да, но, обчистив по дороге и мою косметичку, они оставили необходимое, с их точки зрения, а именно затрапезный тюбик помады, давно его нужно было выкинуть. Тюбик этот, оставленный мне в утешение вместо куртки и прочего, записываю в цыганский актив.
Стяжательство и сорочья жадность к вещи равнялась жесту отказа. Как-то в Калуге мы с Юлием отправились на толкучку, а там цыгане торгуют своим тряпьем, но никто не покупает, вот они развели костер на снегу да и пожгли свой товар, и так весело! Только зубы сверкали. Кажется, нам, благодарным зрителям, персонально показали этот спектакль, а среди калужских торговцев одобрения такой бесхозяйственности не возникло.
Но не все пристрастия были у нас с ним одинаковы.
Он в Щепкинское училище в юности поступал, а я Мейерхольдом занималась. То, что его не приняли, а мою диссертацию десять лет не пропускали, оно, конечно, дополнительно сближало, но все же со счетов не скинешь разность систем.
Он море любил больше всего на свете, а мне лучше в лесу.
Ему бы с книжкой на диване лежать, а я брожу где попало. Он ворчал: шастаешь! Хуже кошки.
Но кошек мы как раз любили оба. Еще: Диккенса, Дэзика Самойлова и молдавское вино.
Что за вечер в степи молдаванской?
Да цыганский это вечер, что и говорить. Цыганский – и никакой иной.
Вдруг меня позвали художником по костюмам в театр «Ромэн», на спектакль «Цвет вишни», где дело происходило как раз в Молдавии, что для меня было кстати, очень кстати, объясню почему.
Нет сомнений – жизнь подкинула мне «Ромэн» не потому, что я ужалена цыганством, а потому, что Юлий был рядом, и, конечно, судьба его и присмотрела в первую очередь.
Судьба у нас уже была общая. Я работала несколько раз с режиссером Б. Ташкентским, с режиссером Э. Эгадзе мы делали «Кровавую свадьбу». И начались контакты с этим странным театром, личные и творческие.
Что и говорить, это было уже не таборное общение, то была интеллигенция, люди театра. И как всегда во всяком театре, актрисы составляли особую группу, племя в племени, пламя в пламени, театр в театре. Для меня, во всяком случае, было именно так.
То была бурная жизнь, полная страстей и профсоюзных собраний, почему-то «Ромэн» питал непонятную склонность к этому роду человеческих занятий. Треск шелков, хищное щелканье ножниц, рыданье скрипки за стеной и гортанная речь.
Не знаю, как сейчас, но в те времена, когда я переступила порог театра «Ромэн», на сцене непременно присутствовал обширный табор. Табор, как мне сказали, одевался сам, из подбора, а мне предстояло его одеть согласно собственной идее. Мне необходимо было изобрести велосипед, но – свой. О том, как я летела со своего велосипеда, придется вспомнить.
Подлинник – истинный таборный женский костюм – в своем роде совершенное создание, и повторить его на сцене казалось мне плагиатом. В том случае этнографическая добросовестность и наблюдательность любителя экзотик ретировались перед ослепительной перспективой поэтических вольностей в духе Лорки, перевод А. Гелескула:
Прикрыв горделиво веки,
Покачиваясь, как в тумане,
Из-за олив выходят
Бронза и сон – цыгане.
Что-то в этом роде. Юлий сомневался:
– Толя Гелескул – переводчик от бога. Но тебя заведет. Лорка проще. Лорка грубее.
Где там! Мне уже виделось в моем таборе оливковое свечение заката, и бронза тени, и морок ворожбы – и, главное, чтобы горделиво. Наш семейный спор про материальную часть относился к духовной сфере. Он, литератор до кончиков ногтей, не допускал вольности с авторским текстом, я вольности и до сих пор допускаю. По какой причине – сейчас рассуждать не место. Тем более что уводила меня за собой как раз литература. А также личное – мои цыганские встречи.
Я выросла на Урале, в Перми. Мне очень рано прочитали книжку Элизе Реклю про народы мира. А какие картинки! Папуасы, лапландцы и обитатели Огненной Земли. И завидев первую в моей жизни таборную группу, я вырвалась от няни Маруси и понеслась к пришельцам, объявляя всей улице: «Вот идут народы мира!» Только в раннем детстве дано нечаянно угадать истину, когда в истинах решительно ничего не понимаешь. Народ мира двигался по улице Луначарского, сметая видавшими виды подолами непролазную пермскую грязь. На женщинах были мужские пиджаки, безмолвные младенцы с темными щеками были приторочены к прямым спинам цыганок бумажными платками. Маруся сказала страшным шепотом и крестясь: «Вот если девочка плохо себя ведет, ее цыгане-то и забирают». Логики в том не было – зачем, спрашивается, цыганам девочка плохого поведения?
В отрочестве меня повезли на север Молдавии, в село Забричаны, к родственникам. Там был большой дом без окон и дверей. Говорили, что его построил для цыган какой-то деревенский меценат, чтобы зимою всякий табор мог найти укрытие. Цыгане, нестерпимо оранжевые и лазурные, с лицами византийских святых и вкрадчивой повадкой конокрадов, сновали перед домом. Я спросила двоюродного деда, почему нет окон и дверей, дед сказал: они не терпят быть в клетке. Был дед молдавским священником, во время войны он и попадья Дора скрывали евреев, потом цыган. В погребе. Цыгане в погребе сидеть не желали, Дора темпераментно материла их на дюжине языков, загоняя обратно и стращая концлагерем, но цыганам погреб представлялся не более привлекательным, чем неизвестные лагеря смерти. Впрочем, добрые отношения не испортились. Прикочевав в цыганский дом, странники шли приветствовать любимого попа, мальчишки в тугих бубенцах кудрей, кривляясь, пародировали эксцентричную попадью.
В моем первом цыганском спектакле, кроме массовки-табора, были крестьянки молдавского села, и можно было играть на контрасте. Табор – движение, крестьянки – статика; табор – ветры дорог, крестьянский костюм – дом. Я принялась строить «дома» – прямые негнущиеся плахты из тяжелых гобеленов, но ничего такого летучего, чтобы годилось для живого трепета таборных одежд, в ту пору ни на складе, ни в магазинах не было. Да и быть не могло того, что бы угомонило мой зарвавшийся замысел. Новые ткани не годились. Меня допустили к складу старых ромэновских костюмов, списанных и обреченных на сожжение, и я стояла по колено в пыльных волнах полинялых шалей, отчаянно рябых ситцев, распавшегося бисера, осыпавшихся юбок. Ткани умирали, рассыпаясь в прах, теряя цвет, а он снова вспыхивал, яростно цепляясь за шелковые нитки. Подумать только, где-то здесь и костюмы Тышлера! Мы с Юлием у него были, он показывал фотографии своего цыганского спектакля. Найти бы те костюмы Александра Григорьевича, да разве в спешке найдешь! Потом, потом. А потом ничего не было, склад исчез, и домик, где он был на Пушкинской, исчез тоже. Но прежде чем матерчатое море испарилось, мы (пошивочный цех и я) много чего успели вынести. Выстиранные и выглаженные, раскроенные заново старые шелка составили именно тот колорит, какой был нужен – выжженый солнцем, пропитаный ветром, овеянный пылью вечного странствия.
Бродягою была моя массовка, и тема пути была тут первой. Второй была тема величия. Цыгане называли себя фараонами, намекая на царственное происхождение, да и в Европе их звали фараоново племя. Бродяги, но царственные, и я отвергаю привычные сценические мониста, бусы из позолоченных ватных тампонов, чудовищная гадость, оскорбительная для актрис. Вместо того будут фараоновы пекторали, нагрудные выразительные украшения, их чеканил по образцам царских уборов Востока талантливый театральный бутафор.
Как воспримет все это коронованная мною массовка?
Массовка не задержалась с ответом.
Ловко орудуя маникюрными ножницами, наши актрисы спарывали знаки своего августейшего величия и, громко расхваливая художника (меня то есть) за гениальные находки, вытаскивали откуда-то свои невыносимые елочные бусы.
Исподволь в табор вползли изгнанные мной посадские платки, я снова их изымала, со мной соглашались искренне, ласково и душевно, но платки возвращались сами собой.
У табора были свои устойчивые привычки, по наследству перешедшие в театр из цыганского хора у «Яра», который, как известно, был особо знаменит. «Ромэн» желал видеть свой табор глазами широкой публики, купцов Островского и командировочных снабженцев.
Или не так? Это было мучительно. Это нужно было понять.
Мир, затянувший меня, был замечателен и совершенно ужасен, мир примерок, шуршаний, кротких портних с булавками во рту и шумных полуодетых красавиц. После нескольких часов примерок я влетала домой в ярости:
– Всё! К чертям! Да чтоб я когда-нибудь еще! Ноги мой больше не будет!
– А в чем дело? – спрашивал Юлий.
– Да она кричит, что ей юбка, видите ли, не к лицу, она зеленую требует, а у меня вся гамма летит, нет, к чертовой бабушке, хватит, «юбка не к лицу»! Ах ты господи…
– Значит, не к лицу.
К моей печали, в стычках моих с цыганками он держал их сторону, и ведь нравились ему мои костюмы, правда, нравились. А вот поди же ты, оказывался на их стороне.
Во дни моих терзаний на цыганские темы на неверный срок анимации спектакля они становились моими подругами, после чего мы ссорились, потом пылко мирились, иногда дружно, но коротко ревели, смеялись и пили кофе. Сев на пол, они с искренним интересом рассматривали мои эскизы, но мое представление о палитре, о гармонии или контрастах красок в их глазах не стоило ломаного гроша. Между тем они одевались со вкусом, у каждой было чувство стиля и точный глаз на колебания моды, но в театре они прочно держались традиционного понятия о цыганской одежде.
Юлий твердо стоял на том, что они в своем праве. В конце концов я должна была этому поверить, хотя душа моя еще сопротивлялась, но все-таки приходится признать: «Ты для себя лишь хочешь воли», как попрекнул старик-цыган Алеко, который, подобно мне, хотел привнести в табор свои понятия.
Цыганская юбка – это их тайна, а не моя, и мне ее не открыли, или она мне не открылась. И почему мои затеи цыганки не приняли, стало в конце концов понятно. Дело в том, что таборный цыганский костюм, способный включить в себя куртку «Аляска», косынку с видом Эйфелевой башни и плюшевый жакет из сельпо, – сам себе образ, мобильный, изменчивый, но и вечный. Что бы ни вошло в его изменчивый состав, в нем скрыто вечное движение, избранничество и обреченность быть всегда в пути. Платки, и шали, и юбки, и многослойные фартуки совершают ложную попытку завязать в узлы движение крепких бедер и трепет спины и заражаются движением сами. Радуга прячется в необъятных юбках цыганки, как пойманная с помощью той же юбки курица.
Многие годы спустя при съемках цыганского фильма «Черный жемчуг» артистка из театра «Ромэн», игравшая современную цыганку, спросила, можно ли явиться на съемку в лосинах, а я по недомыслию разрешила, разразился такой скандал, какого не было нигде и никогда. Перевели скандал кратко: НЕЛЬЗЯ! Но и без перевода ясно было, спор не на жизнь, а на смерть. Чтоб всех утихомирить, мы с виновницей происшествия предложили так и снять эпизод – пришла современная цыганка в злосчастных лосинах, а муж учиняет перед камерой все, что учинил вне момента искусства. Они замечательно ругались по-цыгански, она вдруг наклонилась, проведя рукою по полу – ты, мол, дурак, хочешь, чтобы я носила только такие юбки? Эпизод удался. Но накал страстей, предшествовавший ему в Москве, дал мне понять, что про цыганскую юбку я по-прежнему ничего не знаю. И что Юлий, не вдаваясь в подробности, был прав.
Цыганскую вольную волю понимал Юлий, а я ее не поняла.
А что они, мои артистки, его любили, тут и говорить нечего. Когда он уже был страшно болен, а я мчалась к нему в больницу, мне встретились по пути они, мои красавицы из театра «Ромэн». Узнав, что происходит, сказали: «А давайте мы ему будем готовить? И в больницу возить. Вы не думайте, мы хорошие хозяйки».
Этого никогда не забуду.
Он умер 30 декабря 1988 года.
И вот уходил ее сверстник,
Ее благодетель во тьму,
И пальцы в серебряных перстнях
Глаза закрывали ему.
Это Кедрин, любимые наши стихи о цыганке.
Стихи оказались обо мне.
Мой Юлий ушел, но не во тьму, а к свету, это я видела.
На лице его были отсветы освобождения и счастья.
Перебирая все, что сделало нас близкими неразрывно, я откладываю в сторону две старые фотографии двух молодых женщин. Обе цыганского типа. Отчасти они и похожи между собою. Это мать Юлия и моя мама – Мария, чистых еврейских кровей и Вера, крови смешанной бессарабской. Они похожи не только внешне, но еще и независимостью нрава.
Их сходство через цыганские приметы что-нибудь да значит в переплетении таинственных путей, на которых всех нас поджидают наша жизнь и наша смерть.









































