Текст книги "Юлий Даниэль и все все все"
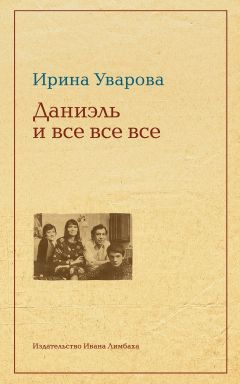
Автор книги: Ирина Уварова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
В третий раз я отправлялась к нему в совсем другое место. Уже к нему, а не к ним.
Почему-то память на этом месте сбивается, осталось впечатление вряд ли верное. И не так далеко оно было, как мне казалось, – был это Дом творчества писателей в Переделкино. Писательский дом, уж как-нибудь не богадельня в Гривне. Бахтин же пребывал в состоянии раздраженности, может быть, оно отвлекало от великого горя.
Дело было в том, что там к завтраку давали черную икру, это и приводило Михаила Михайловича в смятение, раздражало сверх меры. Реакция была неадекватна мелкому блюдцу с деликатесом. Дело, думаю, не в капризе, а в чем-то еще, что находилось за пределами блюдца. Казалось, в таком завтраке было нечто принципиально враждебное, относящееся к чему-то более неприемлемому, чем еда.
Между тем переселение из народной богадельни в привилегированный рай вряд ли случилось просто так, само по себе. Кто-то должен был хлопотать, кого-то просить… Во всяком случае, некто старался, чтобы было как лучше, – ему же в раю оказалось едва ли не хуже. Рай оказался чужим, чуждым, враждебным.
Разговор затухал, не успев разогреться, соскальзывал с темы, блуждал в других полях и вдруг направился в сторону человеческой природы.
Тут можно было «заболтать», заговорить, отвлечь в сторону – и я поведала о том, как их соседка в Саранске приняла меня за его племянницу. Наверное, дело было в неясном восточном акценте, если в лицах вообще может быть акцент. Он оживился, соседка уловила признак Азии, впрочем, у кого в России его нет. Несмотря на высокий род Бахтиных, глубоко укорененный в русскую почву, и вообще он из Орла…
– А вы?
– Нет, мои предки были в Бессарабии, куда (смутно помню рассказ старшей родни) пришел некто Бахта, татарин, от него пошли Бахталовские. Ну татарин или нет, там всех других держали за татар, но мой друг Юрий Симченко, в ту пору еще студент-этнограф, говорил – было такое малое племя в Сибири… (Да о чем только не будешь болтать, заговаривая зубы и отвлекая!)
– Вряд ли, – сказал Михаил Михайлович, – вряд ли, скорее слово это имеет отношение к духовному сословию.
Ошибка соседки отвлекла и, может быть, даже развлекла на пару минут, спасибо ей, женщине из города Саранска…
Я и представить не могла, сколько всего случится в скором времени и как нескоро его увижу.
В МосквеТут в моей жизни стало происходить нечто значительное, нечто ответственное, и я надолго – или так только казалось – потеряла из вида Михаила Михайловича. Не в оправдание, но закрутило щепкой в водовороте, и все равно – оправдания нет.
Однако вести доходили. Он переживал потерю единственной родной души очень тяжело, да иначе и быть не могло. Еще известно было, что произошел переворот в его биографии и он оказался в Москве. В своей собственной квартире у метро «Аэропорт», на улице Красноармейской. Что за ним ухаживает какая-то заботливая женщина. И что он окружен вниманием круга университетских людей во главе с В. Н. Турбиным.
Турбин был аспирантом, когда я пребывала в студентах; но мы были знакомы достаточно для того, чтобы я ему позвонила узнать про Бахтина. Он принялся рассказывать подробно и охотно. Вел семинар, не помню какой, куда и взял дочку Андропова и, кажется, дал ей тему, связанную с трудами Михаила Михайловича. Осуществлялся стратегический план, в итоге – квартира и прописка! Но и студентка не в убытке: прикоснуться к мыслям великого ученого в ранней юности – большая удача. Словом, удалось преодолеть бюрократические преграды и даже грозную власть поставить на службу Благому Делу.
Вот только оказалось – переселить Бахтина в столицу совсем не просто: множество осложнений возникало с его стороны. Он сопротивлялся. Почему-то категорически фотографа не пускал. Что-то имел против фотографов. Все это осложняло и без того муторную бюрократическую волокиту. Наверное, после смерти Елены Александровны все движения, все жесты по организации быта, да еще и непривычного, его раздражали, отвлекали от безучастности, от безразличия к жизни. Проще говоря, помогать ему по-настоящему было совсем не просто, да еще он спорил по поводу всякой суммы, необходимой при оформлении, – должно быть, не привык к тратам, а то и отвык на многолетнем иждивении больницы, богадельни, писательского Дома творчества.
Слушая Турбина, я вспоминала раздраженность Бахтина по поводу черной икры. Может быть, ему казалось, что совершалось нечто совершенно невозможное на твердо обозначенной линии судьбы. А может, принять этот последний дар все того же провидения, поселиться в своей квартире, когда Елены Александровны уже нет, оказалось невыносимым. Скорее всего, так.
…Но я долго не возникала, и как объявиться после столь затянувшегося отсутствия? Тут позвонил Юрий Селиверстов, молодой талантливый художник, сибиряк, мой знакомый. Он делал эскизы к портрету Бахтина:
– Приходи. Он звал.
Я пришла. И стала бывать. Тем более что жила близко.
А он… Он страшно изменился. Лицо не только похудело, но и высохло. Скулы заострились, восточность ушла, глаза стали круглыми и словно бы изумленными, как у птицы. И особенно почему-то рука, исхудавшая так, что стала подобна сухой птичьей лапе. Большая больная птица. Но в лапе вечная папироса, и тонкий дым поднимается к лицу.
Юра Селиверстов, только что погрузившийся в лоно православия, к моему ужасу, находил возможным поучать Бахтина, вел богословские разговоры. Бахтин молча слушал. Пытаясь неофита урезонить, я шипела: да как тебе в голову могло прийти поучать – и кого?!. А главное – чему…
В ту пору Михаил Михайлович был плотно окружен людьми одаренными, яркими, интересными. Может быть, он уставал от общения, но уж, по крайней мере, время, отпущенное на тоску в одиночестве, сокращалось. Визитеры шли, сменяя друг друга. Люди близкого с ним миропонимания, бесспорно, к Бахтину тянулись. Но так же близки оказались те, кто, по нашему мнению, был дальше некуда. В Москве говорили – почвенники намерены сделать из Бахтина свое знамя.
Много лет спустя Сергей Довлатов описывал отечественное соотношение сил, уже покинувших Россию и встретившихся на американском симпозиуме. «В первый же день они категорически размежевались». Почвенники друг к другу «испытывали взаимное отвращение, но действовали сообща. Либералы же были связаны взаимным расположением, но гуляли поодиночке. Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к великому сожалению, уже заявила».
Как же нам не хотелось, чтобы Бахтин стал знаменем – а уж тем более на «том» корабле! Забегая к Михаилу Михайловичу, я не лезла с этими темами. Но однажды, проявляя немыслимую осторожность, завела трудный разговор – как-то оно все странно. Были ведь все вместе в студенческие годы, собирались у нас дома, делали огромную – во весь коридор филфака – газету, общались как люди. И вот оказались врозь, и это уже не мы вроде, но «либералы» и «почвенники»…
Он, конечно, сразу понял, о чем речь, и главное – о чем я не говорю. Мое хождение на цыпочках по проволоке его развеселило.
– Не скажите! Среди почвенников во все времена встречались преинтересные личности. Вон Толстой – «Американец» возил на корабле ручную обезьяну…
– Ничего себе ручная! Это она судовой журнал исписала своими соображениями?
– Именно! Ну хорошо, а Урнов, Дмитрий который? Специалист по английской литературе и – профессиональный жокей, лошади его страсть.
…Как показало время, ничьим знаменем Бахтин не стал. Оставался до конца самим собой – только.
Но я сейчас не об этом.
Как-то пришла к Михаилу Михайловичу с новостью: я замуж вышла.
– Да ну! За кого же?
– За Юлия Даниэля.
– Приходите вдвоем непременно!
– Да я уговаривала идти вместе, а он стесняется, говорит: «у него» – у вас, то есть, «знания огромны – о чем ему со мной беседовать?»
– Пусть приходит. Передайте ему: все, что я знал, уже забыл.
Только Юлий, вообще-то человек не робкого десятка, откровенно трусил первый раз в жизни и идти не решался. Воспользовался приглашением и появился в доме Бахтина с опозданием.
На кладбище мы отправились вместе. Народу было много. Там, на кладбище, ко мне подошла одна из сиделок, позвала в дом, помянуть как положено. Сказала, что сами собрали скромный стол, сами напекли поминальные блины, чтоб проводить по чести человека, ставшего им близким…
…Мы вошли в дом, и я представила Юлия Турбину. Тот побледнел обморочно. Удрученная потерей любимого человека, похоронами, мартовским морозом, я не сразу поняла, в чем дело. Только потом вспомнила. А дело было в том, что во время суда над Синявским и Даниэлем в прессе появилось групповое письмо университетской профессуры. Мне говорили, что Турбина обязали написать текст, – вроде он согласился, но с условием, что его подписи не будет. Подпись, разумеется, поставили. То ли он решил, что Даниэль тут же, на поминках, устроит скандал…
За столом сидели люди, я их знала, они меня не замечали. Они пребывали в каком-то крайнем напряжении. Ожидали какой-нибудь выходки со стороны неожиданного гостя? Или вообще были шокированы появлением Даниэля в доме Бахтина.
Но что это было? Безмолвная разборка либералов и почвенников, враждебное отношение к тому, что значилось за Синявским и Даниэлем?
Напряженность за столом была страшная. Во мне прокручивался диалог с Михаилом Михайловичем: вот тебе и «американец» с обезьяной, вот тебе и странный жокей-филолог, вот тебе и занятные люди, что встречаются среди почвенников во все времена!
Впервые в жизни почувствовала, что значит пребывать в присутствии души, отделившейся от человека. Ни разу потом не встречала ни Турбина, ни Кожинова. Но никогда не забуду, как в кватире, опустевшей без хозяина, при появлении Даниэля встал призрак скандала, скандала в духе Достоевского.
А ведь мы общались… Ведь вот совсем недавно попала в гости в дом, где за столом знала одного Кожинова. Он был с женой Милой Ермиловой[7]7
Мила Ермилова – литературовед, жена В. Кожинова и дочь критика Ермилова, снискавшего дурную славу, к сожалению, заслуженную.
[Закрыть] (Белинков рассказывал, как прогнал его, пришедшего знакомиться: «Вы женаты на дочери моего палача и доносчика? Вон!»). Та сидела неподалеку от меня, зажатая и потерянная… Ну нет во мне белинковской непримиримости, я к ним обратилась: «Правда ли, Вадим, что книга о Рабле вышла в свет с твоей легкой руки?» Они обрадовались оба.
– Да, – сказал он, – это моя индульгенция, за эту книгу мне на том свете грехи простятся.
И рассказал нечто поистине замечательное: как подсунул книгу на рецензию Галине Николаевой, автору колхозного романа «Жатва», потому как она считалась авторитетом в деле народной культуры.
Что и говорить, они сделали для Бахтина очень много, и Кожинов, и Турбин. Турбину я звонила часто, с Кожиновым при встрече здоровалась. Проще сказать, мы общались по старой памяти.
Но тут вдруг мы – в доме Бахтина, и вот как оно могло бы обернуться на его поминках! Я и сейчас думаю, обошлось лишь потому, что душа хозяина присутствовала здесь, только мы, люди, видеть ее не могли. Могла видеть Кисанька, та самая, из породы египетских храмовых кошек – трехцветная, приносящая счастье по всем приметам, котенком подаренная Бахтину Милой Ермиловой.
Кошки, как известно, видят душу умершего.
Еще про кошекТем временем в комнате что-то происходило. Зачитывали завещание. Он все оставлял какому-то родственнику. Присутствовали и официальные лица. Представители Саранского университета претендовали на книжное наследство, с ними спорила представительница музея Достоевского. Спор был пустой, на полках стояли книги, насколько помню, случайные, никакую библиотечную коллекцию комплектовать из них было невозможно.
Тогда представительница музея Достоевского заявила, что хочет забрать два объекта, висевших на стене. Во-первых, портрет Бахтина работы Селиверстова. Во-вторых, изображение кота за письменной конторкой.
Я помертвела – кот был мой, подаренный на Новый год, подарок-шутка, и вдруг: в музей Достоевского!
И тут произошло неожиданное. Юлий ни с того ни с сего сделал заявление – нет. Этот кот должен вернуться в наш дом.
А кошек Бахтин вообще любил очень; понимал их мистическую природу, столь курьезно сочетаемую с бытовым интересом, с ловлей мышей хотя бы.
Рассказывал про котят: в какой-то ситуации, критической и пограничной, должны были срочно уехать, но как уехать, если кошка решила рожать. Так и остались на месте, пока котята глазки не откроют.
А я, в ту пору увлекаясь коллажем, решила к Новому году сделать на кошачью тему подарки – друзьям. Этот кот получился вальяжным, породистым, сидел за старинным бюро, лапа в рыцарской перчатке держала гусиное перо, ну и плащ, конечно. И несмотря на благородный антураж, был этот кот экспонатом балаганным. Кот получился бахтинский. На семейном совете было решено: кота в рамке отнести Михаилу Михайловичу – с Новым годом! На обороте Юлий написал целое послание. Кот наш пришелся ко двору. Понравился. Велено было повесить на стену. Позже Михаил Михайлович рассказывал, как одна знакомая все смотрела, соображая – кого эта рожа ей напоминает? Он отозвался тотчас:
– Да меня.
После смерти Бахтина кот вернулся к нам и жил до тех пор, пока не попался на глаза Кире Николаевне Лидер из киевского музея Булгакова.
– Ох, ну конечно бахтинский кот должен быть в музее Булгакова!
И он отправился в Киев, хотя, честно говоря, кот бахтинский с котом булгаковским ничего общего не имел.
КонецБахтин болел долго и плохо, и конец страданиям приближался. Юра Селиверстов сказал: «Я ему предложил собороваться, настаивал даже, а он отказался. Поскольку жена умерла без соборования».
– Господи, что ж ты так обнаглел, что даешь советы в таком деликатном деле, неужели он хуже тебя знает, куда предстоит уйти и как…
Прежде чем мы рассорились на этом месте, Юра успел сказать: ты приходи, ему сейчас получше. А что «получше»?
Болезнь стояла в комнате «казенной землемершею».
– Дела мои плохи, – вдруг сказал он отчетливо и посмотрел зорко и пристально, как если бы его интересовала реакция собеседника. Или меня проверял.
Я растерялась. Не говорить же: «Ах, что вы!» – но и подтвердить, что дела плохи, немыслимо.
Тут подумала – он писал и про сочные колбасы, и про салаты, и про гигантов, пожирающих все это с устрашающим аппетитом. А вся почти жизнь прошла, кажется, в скудости – много было казенного, лишенного вкуса и смысла.
– Вот теперь – вот что вам предлагаю: капризничайте! Заказывайте домашние блюда, а я постараюсь.
И он принял игру – как раньше воскурял жертвенный дым, несмотря на категорический запрет хотя бы одной сигареты.
Сиделка звонила:
– Сказал, что хочет пельменей.
Потом пирожки с капустой, бульон… – все это, разумеется, в слегка облегченном, «кукольном» варианте. В дом к нему я тогда уже не входила, передавала сиделкам.
С ужасной отчетливостью помню последнее пожелание: свежие помидоры. А на дворе начало марта, а за окном Москва – какие помидоры, господи?
Но игра поддерживала в нем жизнь, – и тут Юлий, забыв природную деликатность, сел обзванивать знакомых корреспондентов. Те сигналили в свое зарубежье. И вот – Николь Амальрик из газеты «Монд»: «Помидоры прибыли из Парижа!»
Но опоздали. На один день. Николь плакала на нашей кухне. У меня не было слез. Не могу плакать, когда уходят родные люди.
Золотая свадьба
Попробуйте вспомнить, как выглядят бракосочетания в «Тысяча и одной ночи»? Дворцы, фонтаны, павлины. Он и она, истомленные страстью, уединяются в чертог любви, архитектурные прелести чертога разжигают любовь свадебной ночи. Влюбленные купаются не только в неге, но и в роскоши.
Впрочем, если память мне не изменяет, Восток в этом случае уделяет больше внимания трапезе, чем интерьеру. В брачном меню добросовестно перечислены одни лишь приторные яства и – сохрани Аллах! – никаких селедок с картошкой, столь обязательных в наших свадебных застольях, во всяком случае, в советские времена. О сладостные сны пряного Востока! Мне же выпало побывать на свадьбе как раз в арабских дворцовых покоях, правда, обошлось без халвы и шербета, но именно с селедкой, и дело было не в Багдаде, а в Ленинграде, представьте себе. А свадьба была золотой не потому, что герои дня прожили в согласии половину столетия, ничуть не бывало.
Просто жилплощадь, на которой это событие отмечалось при великом скоплении народа, имела облик золотого чертога, и чертог, как ему полагается, сиял, озаренный лампочкой, свисавшей на голом, как искуситель‐змей, шнуре.
Тут необходимо отступление жилищного характера. И хотя по некоему авторитетному наблюдению квартирный вопрос изрядно испортил наших людей, к хозяину золотой жилплощади это никак не относилось. Ибо он, хозяин то есть выдержав, как говорится, испытание кнутом (или заключением), выдержал во след тому и испытание позолоченным жилпряником. Дело было так. Борис Зеликсон, судимый по делу «колокольчиков» (то есть издателей подпольного журнала «Колокол»), по отбытии срока в мордовских лагерях занялся сложным многоходовым обменом, не подвластным моему разуму, но его разуму абсолютно подвластным. С темпераментом, достойным его рыжей шевелюры, он что‐то на что‐то менял не глядя, а результат этой увлекательной игры, кажется, интересовал его куда меньше, чем сам процесс мены.
Конечного пункта достиг он заочно, приняв подходящие параметры: метраж‐этаж, коммуналка, но зато центр: угол Пестеля и Литейного. С лагерным чемоданчиком и с ордером на руках он вступил на территорию Шахрезады.
То был курительный кабинет дома Мурузи, с резьбою по ганчу, с арабскими медальонами, вырезанными в стене, алыми и синими, в золотых обрамлениях каждый – кобальт и киноварь, и густо-зеленый мрамор утонченных колонок при глубоких нишах арабских окон, и еще с тысяча и одной мелочью, выдающей склонности г-на Мурузи к великолепию, неге и милому изнеженному варварству стилизаций. Никакие усилия жильцов, обитавших тут между Мурузи и Зеликсоном, не сломили царственной повадки этого невозможного интерьера. Органическая потребность нашего человека, одержимого жаждой либо обжить жилплощадь, либо ее как можно более испакостить, желанных результатов не принесла. Увы, все не просто в этой жизни – золотой стиль доказывал фактом своего существования неистребимую живучесть Серебряного века. Интерьер был породист, как восточный верблюд, высокомерен, самодостаточен, и он, как и положено породистому верблюду, плевать хотел на черные выключатели, гвоздями прибитые к благородным стенам, на трубы парового отопления, крашенные в цвет общественных туалетов. И согласитесь – такой наплевизм был неприятен нашему человеку, и наш человек, не выдержав, сбегал, меняясь, куда-нибудь, где попроще, а потому жильцов тут сменилось множество, по крайней мере, о том свидетельствовали разностильные следы, оставленные всюду, но, как ни следи, – дворцовое благородство сохранялось, сохранялся и независимый нрав, что было дико в изменившихся исторических условиях.
Итак, Боб, вступив сюда, охнул, восхитился, выругался и – широкая душа – постановил, что именно здесь и должна произойти свадьба его друга и подельника Сережи, – и взбалмошный дух Мурузи, витавший тут вопреки историко‐политическому контексту, в знак одобрения хлопнул Боба по плечу, хоть Боб и не знал, кто такой Мурузи.
Да, не знал, тогда, по крайней мере, а что мы тогда знали? Что особняк Кшесинской – это место, с балкона которого выступал Ленин, а если при нас говорили слова «завод Михельсона» – в нашем целенаправленном воображении тотчас готов был отзыв – это где в Ленина стреляла Фанни Каплан. А поскольку дом Мурузи Ленин не посещал, ну о нем ничего и не знали. Да более того: в том же доме, но в другом крыле, жил некогда Иосиф Бродский – сам! Но Боб в ту пору не знал и этого.
Итак: он собрал бесконечно узкий стол, а из каких составных, об этом никто не мог догадаться. Итак: он покрыл стол простынями, клеенками и бумагой. Итак: чертог сиял, и лампочка Ильича, свисающая на хамском проводе с потолка, усеянного тысяча и одною звездой, светилась, и золото стен сияло по ее милости, вспоминая свою исконную любовь к парадам и гостям.
А гости съезжались со всех концов отечества по тому случаю, что Сергей женился. Сергея все гости, конечно же, знали, но невеста почти никому не была известна. Сережа отыскал ее в патриархальных закоулках Белоруссии, говорили, что она сирота и что ее воспитали тетки. Платьице, которое они соорудили ей для свадьбы, заставляло подозревать, что они старые девы, но невеста с фонариками рукавов над нежными плечами была трогательна, доверчива и мила. Когда Сергей смотрел на нее, у него всякий раз очки туманились от умиления, но складку меж бровей он сохранял. Может быть, для солидности, может быть она улеглась на лбу в лагере или во время долгих напряженных допросов, да так и осталась при нем.
Сергей был одним из «колокольчиков». Сроки, данные за «Колокол», группа отбывала в мордовских лагерях. Они были студенты, отличники, дружинники, на той стезе полудетских дружин, хранителей общественного порядка, они насмотрелись бед, обид и несправедливостей, потому и затеяли «Колокол». В Мордовию унесли с собой беспечность студенчества, на этапе, говорят, пели, как в туристическом походе, «Ты не бей кота по пузу мокрым полотенцем».
Зеликсон был старше, но в оптимизме от них не отставал. По их делу его загребли сгоряча и едва ли не случайно, вел он себя безукоризненно на допросах, на суде и в лагере, но не допускал, чтобы об этом говорили. Героический образ был ему нестерпим и он его (то есть себя) спускал на тормозах в стихию беспробудного и непобедимого юмора. Рассказывал тотчас анекдот про летчика, который под пытками не выдал секрет самолета, а, чудом уцелев, доверительно сказал своим: «Ребята, лучше изучайте матчасть».
Гости были зэки, отсидевшие вместе с героем дня и уже освободившиеся. И ехали они на свадьбу со всех концов страны, и каждый вез к столу что мог, а, кроме того, еще и сверток с заветным подарком для молодых, но что это был за подарок – об этом скажу потом.
А были то недавние зэки, великое племя, меченное тавром неволи и оттого исполненное веселой ярости сопротивления. Однако неискушенный глаз мог и не увидеть невидимое тавро, искушенный же увидал бы сразу. («Сколько лет на хозяина работал?» – пароль, брошенный заключенным бывшему, встреченному в автобусе, в чужом дворе или у ларька. – «Ну, десять, а что?»)
Гости были брежневского призыва, и призыв этот отличался от сталинского, людоедских времен. Они были в массе своей дерзки, хребты им не переломили, и почти все имели шанс и надежду выжить несмотря ни на что. А смотреть было на что – и незримо тянулся за ними след тьмы, серого небытия неволи, терзаний унижаемой плоти и липких щупальцев, протянутых к душе. Но как категорично они гнали прочь призрак лагерной преисподней жестким оскалом улыбки, готовностью любой ужас или мерзость, ряженные в полосатую робу арестанта, уничтожить, расстрелять смехом, иронией, шуткой!
За что отсидели они свои годы? За преступления против политического режима, истинные и мнимые, за действия, за жесты, свершенные или нет. За смутные раздумья, за размышления, рожденные бессонными ночами рядом с опасным собеседником – радиоприемником, вещавшим сквозь грохот и вой глушилок голосами Америки и Англии о событиях нашей жизни. Эти смутные раздумья и размышления, успевшие или не успевшие сформироваться в четкую мысль, в переводе на языки мира звучали так: «Пронило что-то в Датском королевстве». (Помню – против этой шекспировой цитаты в моем журнальном тексте о театре редактор на полях написал «Намек снять!» И ведь прав был, прав, намек имел место, мы же изучали эзопов язык и порою, как ученики низших ступеней, бывали неуклюжи, и бормотали по‐эсперантски «моя‐твоя не понимай», когда нас хватали за робкую руку.)
А этих схватили за руку по‐настоящему, и они были зэки, бывшие заключенные, ныне вольные – и все‐таки зэки.
О чем можно было и не догадаться или даже забыть в застолье: свадебные гости, белые рубашки, шум и гам острот, но, может быть, избыточная раскованность жестов.
Застолье продолжалось, оно сложилось и имело свой строй и свой внутренний закон, чередующий восклицания, пожелания и воспоминания. Смех венчал каждый помянутый лагерный эпизод, и его с удовольствием рассказывали заново.
Вспомнили того незадачливого еврея, который срок получил за то, что продал американцам теорему Пифагора, разгласил, как по теореме этой высоту определять – секрет государственного значения.
Вспомнили эстонца‐кондитера: изучив его личное дело, лагерное начальство вызвало его и спросило, правда ли, что есть такая булка, торт называется, а если правда – может ли он, кондитер-эстонец, изготовить для них, начальников, такую диковинную булку и что для этого нужно. Кондитер со своей профессиональной добросовестностью и эстонской обстоятельностью составил список необходимых продуктов: сливки, ваниль, миндаль двух видов, горький и сладкий, и все прочее, более тридцати наименований. Начальники обозлились – ты что, издеваешься, в карцер захотел? А в карцере пустая баланда с гнилой картофелиной, хлюпающей в крупяной жиже, – и та под вопросом.
Но вот и не для начальников, а для лагерников, самых настоящих, русский народный умелец Алик Гинзбург умудрился сотворить мороженое, мне о нем рассказывали подробно, но не запомнила я этой рецептуры, помню лишь технические подробности: литровая банка и резинка от трусов, Алик банку крутил, как пращу. Это тоже вспомнили за столом. Стол вообще располагал к продуктовым мемуарам, кстати, вспомнили и буханку Бориса Здоровца, хотя она в конце концов продуктом уже не являлась. Потому что Здоровец, баптист из Харькова, жестоко травил надзирателей, прикинулся, что спрятал в хлеб тайное и, конечно, крамольное письмо, может быть, баптистский текст или иную антисоветчину, а сам хлеб высушил до состояния кирпича. То‐то было развлеченья, когда неусыпные стражи порядка тот кирпич пытались раскрошить. Этот баптист решительно не обладал ангельским смирением. Напротив. Когда какой-то начальник из Москвы посетил барак (высокая ревизия!), Здоровец так и сидел за штопкой носка не шелохнувшись. Спросил начальник, почему он не встает, а тот ему: «Вот когда вы меня отсюда выпустите, тогда и поговорим о манерах». Озлился начальник: «Да я тебя… тогда выпущу, когда тебя, баптиста поганого, поп обратно будет крестить в православную веру!»
– Это вас, гражданин начальник, поп крестил, а мои родители были комсомольцы, – отвечал наш баптист.
Застолье отмечало воспоминания дружным хохотом.
Еще хохотали над присутствующим тут директором школы (бывшим, конечно), он антисоветскую литературу догадался хранить в гулкой пустоте гипсовой головы Ленина, что стояла на алом постаменте в актовом школьном зале.
Ага, а тот зэк – помните? Плешивый и на Ленина похож.
– А как же! Как не помнить, выйдет из столовой и на крыльце встанет в позу «на броневике», да так и стоит. Вертухаи к нему – ты что, сдурел?!!
– А что такого? Просто стою и не говорю ничего.
Послушать их – весело было там, и не было более грозной силы противостояния, чем осмеяние этого трижды проклятого прошлого.
О, г-н Мурузи, негоциант и фантазер, где ему было вообразить такое сборище в таком интерьере! А еще ценитель эклектики…
За столом завязалась приватная беседа, и вдруг несколько гостей тихо вынырнули из‐за стола, оказались ближе к углу и – как по команде – опустились на корточки, учинили кружок. И золото Мурузи приняло лагерный кружок, он славно вписался в курительный кабинет, а они курили, устроившись на корточках, как умеют именно зэки. Или – еще – архаичные народы Севера, уставшие сидеть на цивилизованных стульях и вернувшиеся к привычной позе. В лагере шел откат от цивилизации, ему могли противостоять лишь сила духа и интеллекта, и юмор, само собой. Друзья мои, сидеть на корточках и кружком да и курить при этом – нет более идеального способа выключаться из окружающей действительности, каждый мог постичь эту истину, увидев бывших зэков в арабских покоях, в дворцовых восточных хоромах, и были они тут как дервиши, ей-богу. И Юлий Даниэль сидел и дымил в том кружке, а дома никогда так не сидел.
На свадьбу Сергея он был приглашен, мы отправились вместе, поезд из Москвы уходил поздно, и все же я не успела залететь в «Детский мир» на площади Дзержинского за подарком, подарок хотелось купить именно там, но ведь не успела, не успела, схватила что-то не там, что-то не то, и досадно было, что не то.
Только на свадьбе выяснилось: едва не все привезли молодым именно «то». Один за другим гости разворачивали свои заветные свертки, один за другим обнажались купленные в подарок пластмассовые револьверы.
Куча их, нестерпимо розовых, невозможно оранжевых, как мыльницы, росла перед озадаченной невестой.
А дело было вот в чем: невесту звали Фаня Каплан. И дело было в том, что она, воспитанная тетками в отвлеченности от сует мира, ничего про свою знаменитую тезку не знала.
Еще и в том было дело, что вышла она замуж за Сергея, отъявленного антисоветчика, но как именно она понимала это в ту пору – о том мне ничего не известно. Мне-то повезло, не успела обрести тысяча первый в этой коллекции револьвер. Тиражное остроумие меня уязвляло. Но там, на золотой свадьбе в доме Мурузи, чудесной и незабвенной, массовый тираж шутки никого не смущал и общей радости не испортил.
И много прошло лет, пока я увидела первую Фанни Каплан: в Санкт-Петербурге, в составе коллекции восковых фигур. Низенькая женщина с выпуклыми светлыми глазами, с пробором сельской учительницы и в блеклой шали на маленьких сутулых плечах поджидала некоего человека у завода Михельсона. И скверно мне стало смотреть на убийцу, хоть и неудачницу. Анекдот о второй, нашей Фанни Каплан с нашими дурацкими игрушками сюда не монтировался никак, даже в качестве воспоминания. Восковые персоны вообще серьезная вещь, а уж намерение совершить убийство… Нет, все-таки хорошо, что я тогда не успела в «Детский мир».
А потому перехожу в другой регистр. Я возвращаюсь в золотую комнату, у меня письмо, старое как мир (Господи, как же давно все это было!):
«Дорогая Ира, пожалуйста, пришлите мне номера Вашего журнала „ДИ <Декоративное Искусство> СССР“, где было что-нибудь про искусство Востока. В моей комнате все придется делать самому, чтобы не нарушить стиль. Я решил начать с лампы в восточном вкусе, у меня уже есть латунь и фанера. Привет Юлику. Ваш Боб». Но не спешите усмехнуться фанере как таковой: тут говорит не инженер Зеликсон, вступивший на путь кустаря-одиночки, но истинный наследник Мурузи, сполна оценивший право негоцианта-фантазера увидеть мир сквозь золотистые стекла «Тысяча и одной ночи», никак не иначе.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































