Текст книги "Юлий Даниэль и все все все"
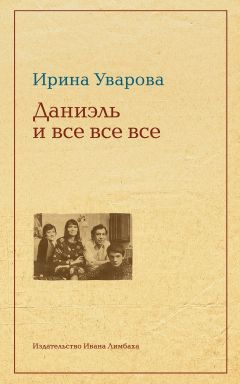
Автор книги: Ирина Уварова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Но сейчас про Окуджаву. Он и Даниэль были – если вспомнить Тынянова – «архаисты». Ценили традиции, к авангардистам относились настороженно. Удивительно было слышать от Булата, что в театре он более всего любит спектакли А. Дунаева на Бронной: там чай пьют… А новаторских постановок не жаловал.
Тут они с Юлием дружно начинали воевать со мной. Оба не то чтобы испытывали потребность в спорах – для них существенно было определить свою позицию. Наверное, самое время и место припомнить один разговор, при котором мне довелось присутствовать и даже, вопреки мною же заведенной традиции, вмешаться.
Важный разговор был. Начал Булат:
– Юль, а кстати, если б сейчас снова революция, а у нас с тобой уже есть опыт, наше знание истории, – с кем бы оказались сегодня? С белыми или с красными?
Тут же выяснилось – сын пламенных кавказских революционеров ушел бы в «белый стан» (вот вам и «комиссары в пыльных шлемах»!).
Что же до Юлия, все оказалось сложнее. Он пустился в длинное рассуждение. «За» и «против». Тут я позволила себе:
– Юлинька, ты о чем? Кто это в Белую гвардию еврея взял бы?..
Посмеявшись, эту тему оставили. Но после Юлий, мой злостный антисоветчик, сказал:
– Знаешь, все-таки на том историческом переломе был бы с красными.
Додумал-таки до конца.
* * *
А когда железный занавес рухнул, друзья разъезжались в открывшийся мир – и, уезжая, умоляли Юлия тоже ехать, он отказывался.
– Ты что – что тебе тут светит? – спрашивали, объясняя выгоды жизни человека с его биографией в «цивилизованных» странах.
Отвечал коротко:
– А неохота.
Не знаю, что в таких случаях отвечал Булат. Но ведь тоже – не уехал. Рассказывал, как в свое время, еще советское, был приглашен с выступлениями в Париж, как его предупредили, чтоб не вздумал общаться с эмигрантами, и как он по приезде тотчас же позвонил Виктору Некрасову, а увидев его со сцены, сбежал вниз, бросился обнимать: да черт с ними, ну не пустят больше…
Как-то Некрасов позвонил нам из Парижа:
– Спасибо, Юлий!
«Спасибо» – это за открытое письмо Юлия после публикации И. Шифаревича в «Русской мысли». Тот клеймил эмигрантов. Уехали, мол, добровольно, не выдержали давления, лишили себя возможности внести свой вклад в культуру.
Там, в иных странах, письмо Шифаревича произвело впечатление. Эмигранты почувствовали, что отношение к ним меняется. Кто-то даже лишился работы… Синявские звонили из Парижа, говорили, что все серьезно.
Даниэль написал в «Русскую мысль». Открытое письмо Шафаревичу. Заступился за эмиграцию. И что странно – подействовало! «Наши» звонили из Америки, из Израиля, даже, по-моему, из Австралии: спасибо, Юлий. Их положение стало меняться к лучшему.
Но вот о положении самого Даниэля этого нельзя было сказать. Невидимые власти, глаз с него не спускавшие, письма не простили. Он остался без работы, без переводов. Выручали друзья. Первым делом, конечно, Булат. Помню, тогда вышел сборник стихов Д. Варужана – переводил Даниэль, скрытый именем Окуджавы. Так они побратались.
А здоровье ухудшалось. Мы кочевали из больницы в больницу. Вернувшись домой, Юлий все реже вставал, все чаще лежал, читал, уже не выходил к гостям, не хотел, чтобы его теперь видели. Потому, когда Оля и Булат заехали, получилось – ко мне, а не к нам. Держали совет: как быть? Без переводов Юлий умирает, врачи же запрещают работать.
Сидели втроем на кухне, заваривали крепкий чай, и тут – звонок из Парижа. Умер Вика Некрасов. Было это 3 сентября 1987 года.
Рыцарь чести, как называл его Даниэль.
Юлий умер через год.
* * *
После смерти Юлия Булат время от времени звонил, при встрече говорил: «Вы хорошо выглядите» (к моему виду это никакого отношения не имело). Не забывал дарить свои новые книги.
Узнав, что отправляюсь по театральным делам в Нижний Тагил, просил зайти в дом Шалвы Окуджавы (там сейчас музей) – узнать, не сохранилась ли какая вещь или какие-нибудь бумаги. Шалва Степанович, направленный в свое время на руководящую работу в Нижний Тагил (парторгом), избранный затем первым секретарем Тагильского горкома, в тридцать седьмом был арестован, расстрелян, а теперь удостоился мемориальной доски на стене скромного домика-музея.
Оказалось, из подлинных вещей в музее есть только стул, отцу принадлежавший. Простой, рядовой, скромный. Мне его отдавали:
– Если для Булата Шалвовича, то конечно…
Я не взяла. Не могла. Ведь до возвращения в Москву я должна была попасть еще в несколько уральских городов.
* * *
А страна менялась. Все менялось – и как!
Когда-то Окуджаву не выпустили в Испанию, потому что на анкетной фотографии он должен был быть в галстуке. А Булат галстуков не носил. Не уступил. И не полетел.
Когда-то, впервые попав в Париж на запись своей пластинки, он накануне обратного вылета, поздно вечером получил гонорар и рассказывал – как потратить? Пришлось ехать в ночной магазин «Тати», типа барахолки – и что-то несусветное кидать в коляску! Теперь же Ольга в Париже со знанием дела выбирала старинных, породистых кукол для своего музея.
В общем, все хорошо. Концерты идут по всему миру с неизменным успехом.
И вдруг Оля звонит: что-то никак не ладится здоровье Булата, нет ли хорошего врача.
– Ну, записывай телефон, это Лена.
Настал черед последнему созвучию судеб Булата и Юлия. Точка пересечения пришлась на доктора Елену Юрьевну Васильеву.
Она несколько лет вела тяжелого пациента Даниэля. Забирала к себе в больницу, а в последние месяцы, самые трудные, приезжала к нам после работы почти каждый вечер. Когда же ей сообщили по телефону о его смерти, – примчалась, вошла и потеряла сознание. Теперь ее пациентом стал Булат.
Последняя трагическая поездка в Париж через Кёльн описана многократно. Хочу лишь отметить жуткую гримасу рока.
В Германии Булат и Ольга навестили Льва Копелева. Тот был болен: то ли грипп, то ли простуда, то ли бронхит. Неизвестная бацилла накинулась на Булата. (А ведь – кто разгадает потаенную линию судьбы: в свое время Лев Копелев написал о докторе Ф. Гаазе под именем Окуджавы, иначе не печатали.)
Оля звонила из Парижа.
– У Булата грипп…
– Булату хуже…
– Булат в госпитале!
Лена металась:
– Да, по его общему состоянию ему ничего нельзя, кроме того, что я прописала. Они же там, в госпитале, этого не знают!.. Вот что, лечу в Париж.
– Лена, а виза?
– Да я в Шереметьево историю болезни покажу. Скажу: я врач его – кто меня к Окуджаве не пустит?
Она лихорадочно собиралась, я должна была ее проводить. И позвонила:
– Поздно, Лена. Только что передали… Поздно.
Было 12 июня 1997 года.
Всенародное прощание с поэтом шло на Арбате. На Ваганьковском были только близкие, друзья – постаревшие, потерянные. «Все они красавцы, все они таланты, все они поэты» – так и было тогда, в самом начале, когда их связали друг с другом песни молодого Булата.
Похороны были организованы по высшему разряду: новые правители знали, кого потеряли. Священник отец Георгий Чистяков сказал слово, исполненное скорби и деликатности. Вдруг появилась процессия со свечами, с пением – высоким, печальным, гортанным; так до сих пор и не знаю, кто они были: грузины? армяне? (армянское кладбище рядом). Но кто бы они ни были – это Кавказ провожал своего поэта.
Когда последние пласты земли легли над Булатом, я прошла к другой могиле. На памятнике надпись:
ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ
1925–1988
И было море
Говорить, о Юлии, можно долго, а чувство, что главного так и не сказала. Есть такая формула – дьявол в мелочах. Но ведь ангелы тоже. Хочу закончить эпизодом, который, может быть, никому ничего не скажет, а мне – очень многое.
Первый отпуск вдвоем. Вначале даже не верилось. Как это так? Для Юлия ничего лучше моря и быть не могло.
Приехав с рекомендательным письмом от некого издательского фотографа, мы оказались в жилище ветхом, но просторном, там обитали две старушки. Бывшая хозяйка и бывшая служанка. Сказали: можете пожить у нас, пока не приедет писатель Михалков, вы ведь знаете, кто он?
Мы хором кивнули.
– А тогда найдем вам что-нибудь другое. Пока же вот комната. И мы открыли осевшую, еле живую дверь. Комната была велика и пуста. Что-то посредине вроде ложа, что-то в углу вроде буфета.
Хозяйка прохромала через пустынное пространство к противоположной стене – и… открыла море.
Я застыла.
Юлий же прямо туда пошел, на ходу раздеваясь, – в море! За дверью! Даже не помню, отделяла ли нас полоса глины…
А он уже плыл, он уже отдыхал на спине – и не было во всем мире и море человека счастливее его.
Однажды спросила: ты что же, лес вовсе не любишь?
– У меня вся любовь к природе на море ушла.
Потом одна из старушек, та, что была когда-то служанкой, куда-то сходила, с кем-то сговорилась на другом краю поселка, и мы перебрались. Теперь до моря было несколько минут неспешной ходьбы, зато пляж наш собственный. Если какой-то прохожий решал опрометчиво пляж пересечь, хозяин домика тут же появлялся и укорял неизвестного:
– Совести нет, не видишь – люди отдыхают?
Мы были одни. Поначалу даже уши закладывало от тишины небывалой.
В обед я жарила рыбу – хозяин оставлял ее в ведерке под верандой. Он много не разговаривал. Хотя нет: однажды вдруг рассказал, как шпиона изловил и повел к пограничникам. Шпион ему семьсот рублей предлагал; что он ответил, помню дословно:
– Я, говорю, родину не продаю, да и семьсот рублей не деньги.
Такая жизнь. Сказочная и беспечная. Мы отдыхаем, на другом конце поселка патриарх Михалков, – говорят, с дамой, но это уж нас совсем не касается.
А патриарх все-таки касается. Дело в том, что он должен был стать общественным обвинителем на суде, да казус вышел. Казус замяли, но и в обвинители теперь не годился. Перед зданием суда в толпе сочувствующих Синявскому и Даниэлю ко мне подошла незнакомая женщина «из своих».
– А вы знаете, что в Союзе писателей бардак?
– Да кто ж этого не знает!
– Нет, не в переносном смысле!
Поговаривали, что Михалков как-то к этой подпольной (не в переносном смысле) организации (надо же!) был причастен и потому не был допущен блеснуть на суде во всем великолепии. И теперь то обстоятельство, что Михалков и Даниэль оказались обитателями этого в сущности необитаемого острова, было курьезным.
– Может, ночью пойдем петь под окном серенаду? «Союз нерушимый республик свободных»?
– Да ведь у меня слуха нет.
Мы веселились, мы были беспечны, мы были вдвоем.
Впрочем, как раз не вдвоем, и вот об этом я хочу рассказать.
Когда вечером выходили на море посидеть на теплом песке, с нами приходил пес хозяйский, в репьях и клещах. Скоро и другие собаки поселка приходили смотреть на закат.
Непонятно, что происходило в собачьем мире, но честно скажу – они к нему приходили, а не к нам. Меня только терпели. Или не замечали. Так мы сидели на теплом песке в окружении стаи. А стая все увеличивалась, и уже, кажется, все собаки поселка сидели с нами, а потом провожали до самой калитки. И только хозяйский пес провожал Даниэля до крыльца.
– Когда-нибудь я уйду от людей, – неожиданно сказал Юлий, – и буду кормить собак.
Дома в Москве нас поджидали Алик, черный спаниэль, а также кот Лазарь Моисеевич, уж они-то рассказали бы вам, какой Юлий был замечательный создатель еды для зверья.
Последние сутки в приморском раю лил сумасшедший дождь. Оказалось – под нашей верандой вылупились котята, и много их было. Они замерзли, промокли и плакали. Пришлось их всех забрать к себе, так что последнее воспоминание о Приморском было: компресс из котят.
Рай на то и рай, чтобы было солнце, море, звери. Но…
– Когда-нибудь я уйду от людей…
Что же это было?
Напрасно кольнуло в сердце, напрасен был мгновенный укус страха.
До этого не дошло.
Все кончилось раньше, не стало Юлия.
Но прежде чем его забрала смерть, ушли наши звери.
Алик умер, Лазарь пропал в лесу под Перхушковом.
Господи! Неужели же не смогу я просто вспомнить то море, ту тишину и того Юлика – предводителя стаи.
Был он смугл, тонок, в шортах, а псы – в репьях.
Да неужели все это было…
II. Группа риска
О Михаиле Михайловиче Бахтине
Мне выпало общаться с Михаилом Михайловичем в разное время. Я и сегодня не знаю, как оно случилось, что, прочитав книгу о карнавальной культуре, во что бы то ни стало решила повидать автора. И как объяснить, зачем совершилось мое паломничество – как ни крути, оно и выходит, что именно паломничество. Просто нельзя не пояснить, почему вообще возникла довольно дикая идея: к нему отправиться с тем, чтобы задать один-единственный вопрос – про мистерию. Просто необходимо вспомнить, каким было расположение звезд, ответственных за земное искусство, к тому часу, когда бахтинский карнавал въехал в советскую действительность на белом, как говорится, коне. Необходимо напомнить, чем была для нас небольшая книга в желтом солнечном переплете – про Рабле, про его роман, про народные обычаи Европы, про карнавальную культуру.
Во-первых, сам по себе карнавал Бахтина был, как мы понимали, открытием нобелевского масштаба. Оказалось, она, эта карнавальная культура, свойственна человечеству как дыхание и пища, как жизнь и смерть. И предстал карнавал подобно граду Китежу или затонувшему городу из «Путешествия Нильса» – он тоже в урочное время появлялся из вод и «на суше», а потом уходил вновь в пучину, чтобы с космической предопределенностью снова всплывать из вод забвения. Как некое стозевное чудище появляется невесть откуда, хохочет или провоцирует хохот, жрет безудержно и вдруг проваливается на самое дно человеческой истории. Или глубже… Homo sapiens в час карнавала отдыхает от цивилизации.
Во-вторых, именно в ту пору, когда появилась книга Бахтина, острота и чуткость нашей реакции на темы массовых репрессий еще не притупились, а потому человеческие страдания автора вызывали горячее сочувствие к участи ученого. Бахтин был арестован давным-давно, потом сослан, потом прочно забыт до самого появления книги. И при этом книга никак не напоминала о лишениях и страданиях – напротив: она свидетельствовала о торжестве неистребимого веселья.
А в-третьих, в тех же неземных департаментах, где намечалась участь искусства, происходило великое сближение крупных планет. Навстречу труду о Франсуа Рабле уже был готов перевод романа «Гаргантюа и Пантагрюэль», блистательный труд Н. М. Любимова. Поразительно, что они вышли в свет едва ли не одновременно, эти два исполинских труда. Если и с различием во времени издательском, то одновременно в историческом измерении – что такое, в самом деле, разница в пятнадцать лет!
«Благодаря изумительному, почти предельно адекватному переводу Н. М. Любимова, – писал Бахтин, – Рабле заговорил по-русски, заговорил со всей неповторимой раблезианской фамильярностью, со всею неисчерпаемостью и глубиной своей смеховой образности».
Он особо чтил смеховую природу человека, выносившую его за собственные пределы, придавая личности другое измерение, провоцируя лицедейство. Людей, лишенных от природы чувства юмора, называл «агеластами». Притом сам Михаил Михайлович не являл собою образ юмориста. По крайней мере, ни шуток, ни острот, ни каламбуров мне от него слышать не довелось.
Первая встречаЛева Шубин[6]6
Лева Шубин – Лев Алексеевич Шубин (1928–1983), известный литературовед, один из первых исследователей творчества Андрея Платонова.
[Закрыть] дал адрес. Он туда ездил, в этот самый Саранск, где оказался Бахтин. Саранск – мордовский город, а в ту пору у нас на слуху были мордовские лагеря – там отбывали сроки Андрей Синявский и Юлий Даниэль.
На саранском вокзале мимо меня провели черную колонну зэков: да неужели?.. Но нет, ни Юлия, ни Андрея среди них не было.
И вот я стою на лестничной площадке дома на улице Советской, зажав в руке бумажку с адресом; никто не открывает. Не открывает так долго, что успеваю впасть в панику – да я с ума сошла, не иначе, как это: здрасте, я ваша тетя! С какой стати приехала…
За дверью тишина, на площадке, запущенной и какой-то сиротской, пахнет кошками, и никто не собирается открывать… Тут вспомнилось – мой прадед в студенческую пору пешком шел в Ясную Поляну спросить, в чем суть. Дошел, звонил в колокол. А вышел не граф, а Софья Андреевна и отправила искателя истины обратно в Кишинев, оберегая покой великого старца. Пересказывая друзьям это семейное предание, я всегда добавляла беспечно: с тех пор никто у нас в роду этим вопросом не интересовался. И вот ведь сглазила, стою теперь на лестнице, хотя вопрос у меня другой. Но точно сглазила. За дверью тишина.
Постучала в квартиру напротив, открыла молодая женщина, оглядела даже не неприветливо, просто враждебно.
– А никого там нету, ни его, ни ее, в больнице оба, потому что никому не нужны… Адрес? А вам зачем? Да ладно, так уж и быть.
(Не хотела возвращаться к этой особе, но все же вернулась, потом, когда уже повидала Бахтина, после больницы, перед поездом, – и она объяснила, в чем было дело.
– Я как увидела, так и подумала – племянница это, вспомнила наконец-то, явилась! А старики совсем брошены…
– Да почему племянница?
– Да вы на него лицом похожи.)
Мелкое это происшествие отвлекло от главного.
Мой вопрос, едва переступила порог больничной палаты:
– Мейерхольд говорил, ось трагедии – рок, а полюса этой оси – мистерия и арлекинада. Так вот: я в молдавском селе наблюдала новогодний праздник, нет, празднество; там короткое трагическое действо, называется Маланка. Это театр такой, а к нему еще целое стадо развеселых хмельных комических старцев – шутки, сценки комические. Там трагедии, то есть мистерии, – всего ничего, а карнавального разгула с избытком, но все едино, монолитно. Почему в учении о карнавальной культуре (в вашем учении, Михаил Михайлович) тема мистерии отсутствует – почему? Они ведь зеркальны друг к другу, и…
Боже, что я несу и вообще о чем я… Ведь не о театре же он писал! Совсем не о театре его книга… Но он сразу понял и сразу ответил:
– У меня на мистерию жизни не хватило.
Так я впервые узнала, что есть темы, измеряемые жизнью. И как ненавязчивое пророчество прозвучало в этом странном ответе, что и моя жизнь в каком-то смысле будет измеряться Маланкой. И действительно: чем бы ни занималась многие годы, все равно рано или поздно возвращалась мыслью туда, в молдавское село, где под Новый год из дома в дом быстро проходят парни в сапогах, ряженные неимоверными царями, а следом, кривляясь и всячески непотребствуя, поспешают «моши», комические старцы, и ведут себя ну прямо согласно предписанию Бахтина.
Но все же, что было в тех словах «у меня на мистерию жизни не хватило»? Поняла так, что вся жизнь пошла без остатка на карнавальную культуру, на арлекинаду в переводе на язык театра. На торжество смеха.
Мне и в голову не пришло взять с собой книгу, слишком ею дорожила. Потом выяснилось – все к Бахтину ехали с книжкой, за автографами. Я же вместо интеллигентного жеста с книгой явилась как-то по-деревенски, с подарками.
Во-первых, привезла маску «моша», во-вторых, домашнее печенье (до сих пор неловко вспоминать – не успевала сама, пекла соседка, прониклась значительностью поездки к двум старикам).
…Оба они, и он, Михаил Михайлович, и она, Елена Александровна, занимали так мало места в пространстве, что палата казалась просторной. Она передвигалась по стенке, прижимаясь, как тень, раскинув руки, – легка, бесплотна, бесшумна.
У него были ноги как у верховых Петрушек, когда те, шустрые и живые в действии, сидят на краю кукольной ширмы, свесив мертвые ножки.
Глаза у него крупные – у старых людей таких не бывает, зоркие и внимательные, хотя темная глубина их утратила блеск. Отчетливо выделялись скулы, чуть азиатские.
Мой вопрос воспринял так, будто всякий и являлся к нему, чтобы уточнить кое-что про мистерию и арлекинаду. Маска же, привезенная из молдавского села, хранила запах морозного хлева, овчины и соломы. Была она жуткая и косматая, с выбритыми синими щеками, с дикой бараньей гривой, с козьим рогом. Из весело оскаленной пасти торчали фасолины зубов, редкие и страшные. Словом, не приведи бог – нянечки увидят. О том, что персонал испугается, я не подумала. Он же, конечно, узнал – так и предназначено выглядеть персонам карнавала. Чем страшнее, тем смешнее. Хотя Бахтины не смеялись.
На станции ГривноВ очередной раз отправилась к Бахтиным, заметно осмелев и, кажется, написав главу своей, с позволения сказать, диссертации, – только возможный разговор про главу был скорее поводом к поездке. Причиной же была дыня. Дело в том, что у меня оказалась чудесная азиатская дыня из самой Голодной степи, ее и следовало доставить Бахтиным. Я была не в одиночестве – со мной ехал сын Павел, школьник: человек застенчивый и немногословный. Ехать в Бахтину боялся, я – уже нет. Дыня воодушевляла.
Путь наш лежал на станцию Гривно. В дом престарелых. Попросту говоря – в богадельню, куда определили Бахтиных, беспомощных в быту.
Но я, конечно, не представляла, что такое наш отечественный приют на самом деле. Приют был пропитан обреченностью и тоской, печалью запущенной старости.
Оба не жаловались, но были угнетены. Без особых усилий можно было догадаться – жизнь не особенно баловала их жилищными условиями, но в Гривне к проблеме проживания примешивалось что-то еще, не знаю, как сказать. Может быть, ошибаюсь, но показалось так. Уже была первая книга, признание, и даже если они ни на что не рассчитывали – невозможно, наверное, не ждать какого-нибудь выхода из тупика. Выход же оказался богадельней, последним приютом угасающих старух.
Хотя руководство дома престарелых очень старалось проявить уважение. У Бахтиных была жилая комната, но, кроме того, ученому выделили отдельный кабинет с письменным канцелярским столом, с креслом; пусть занимается своей наукой! Он нас специально водил этот кабинет показывать. Шел по коридору на костылях. Шли костыли, мертвые ноги волочились.
Кажется, мы вернулись в жилую комнату. Он достал откуда-то большую папку с гравюрами, гравюры привез Эрнст Неизвестный. К стыду своему не могу вспомнить, что именно, может быть, серию «Достоевский». Помню только, что гравюры были словно опалены отчаянием, гневом, чувством катастрофы, от них исходил пафос протеста против неведомой силы, злобной и жестокой. Но как свободно понимал Михаил Михайлович язык дерзкого искусства авангардиста. Неизвестный ему нравился – впрочем, чему удивляться. В его долгой жизни был Витебск, а значит, так или иначе и Казимир Малевич, и Марк Шагал. В Москве шуршал деликатный шепот, будто в Елену Александровну был влюблен Шагал, она же выбрала Бахтина. Слух этот обладал серьезностью мифа. Мне никогда не приходило на ум проверить.
Она все так же прозрачной тенью скользила, прижимаясь к стенам, очень редко включалась в общий разговор.
…Говорили об авангарде. О том, как пробивала задушенная память о Мейерхольде глухие годы запрета и забвения. О том, как Мейерхольду была нужна – да просто необходима! – комедия дель арте. Как этот старинный итальянский площадной театр оказался необходимым режиссеру при прорывах в новое искусство, по сути в будущее. Вспомнили Вернон Ли – это маски спасли Италию, когда ей грозило исчезнуть с карты Европы…
Михаил Михайлович говорил про веселую инфернальность персонажей итальянского площадного театра, инфернальность придавала фиглярству уличных комедиантов глубинное измерение. У них где-то есть бесенок, кажется, Аллекино…
Вдруг мой Павел, до того молчавший по причине непробиваемой застенчивости, что-то уточнил в этом пункте разговора взрослых, про того самого бесенка. Бахтин сказал с удовольствием – как это хорошо, когда такой молодой человек… Знания…
– Нет-нет, – испугался мой школьник, – никакие это не знания, просто я с детства любил рассматривать гравюры Доре к «Аду» Данте.
Увернулся-таки от похвалы будущий профессор, историк медиевист. Наш разговор стал легок настолько, что сегодня мне не верится – неужели я осмелилась привезти ему свои страницы, увы, столь далекие от совершенства. Боюсь, что-то в этом роде имело место. Во всяком случае разговор шел «по тексту».
Среди прочего Бахтин сказал с неожиданной жесткой резкостью:
– Самое губительное – это подмена мистерии митингом. Хуже митинга на театре ничего быть не может.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































