Текст книги "Юлий Даниэль и все все все"
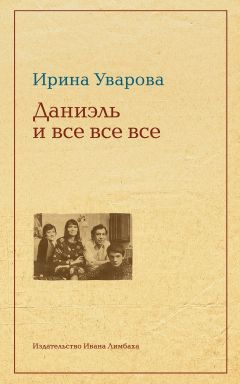
Автор книги: Ирина Уварова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Неслучившаяся ссора
Мы поссорились один раз – только один!
Мне выпало рисовать эскизы к иркутскому спектаклю «Деньги для Марии» по повести Валентина Распутина. Можно сказать – это были виртуальные костюмы, заочные. Но думать о них было интересно. Денег на приглашение художника по костюмам в отечественных театрах не было, средств на приобретение тканей тем более, да и тканей вообще-то не было. Тем интересней была задача. Лысьва – «Кариолан», Кинешма – «Василиса Мелентьевна». А вот и «Деньги для Марии», Иркутск. Повесть Распутина была прекрасна.
Там женщине грозили суд, арест, этап, а сюжет был полон отчаянных попыток спасения; попытки рушились – никто из соседей по колхозу не собирался спасать Марию, деньги-то самим нужны: холодильник, сервиз! Впрочем, точно уже не помню, одно помню – сдали Марию. Всем миром, как говорится.
Ну какие костюмы?!! Да еще и заочно. И все-таки задача была интересной. Оно, конечно, черные ватники, сапоги, ушанки. Но ведь был сон, посетивший мужа Марии, и были там односельчане нормальными людьми, а шапка шла по миру собирать деньги, и я хотела обрядить колхозников этого сна в белые ватники… (ткань тарная, расход не велик).
А уж как я ненавидела их, Марию сгубивших… Наверное, это было не профессионально. Но ведь от повести сердце сжималось.
Эскизы сделаны, разложены на столе, и я отправляюсь спать, а Юлий, ночной человек, их посмотрит. Без этого ни один эскиз из нашего дома не выходил.
Вдруг он будит – вставай!
Такого никогда не было, напротив, всегда бережно оберегал мои недолгие сны, и вдруг – вставай! Да так категорично.
– Вставай. Эскизы не принимаю!
Вот новости, домашний худсовет, мало их в театрах, да что с тобой, Юлик?
– Ничего! Рисуй новые костюмы.
– Но в чем же дело?
Юлий: А дело в том, что не любишь русский народ.
(Ремарка – вот оно что! В эскизы попало мое негодование против негодяев, всем миром женщину в лагерь сдавших, и не по злобе – по жлобству. Еще не известно, что подлей…)
Я: Так! А за что мне твой русский народ любить?
Тут мы посмотрели друг на друга, остановившись на полном скаку в направлении к ссоре, и расхохотались. Правда же, славно получилось, твой народ – народ Даниэля Юлия Марковича…
Никаких националистических поползновений за ним не значилось, о таком и говорить нелепо. Что касается меня… Да я тут, пожалуй, ни при чем. Я ведь взялась писать о Юлии, а не о своей горячности.
Описав неслучившуюся ссору, беру тайм-аут.
Был у Марка Даниэля рассказ – я не читала, должно быть, не было перевода. Юлий пересказал. Про старого сторожа, который все охранял и охранял склад. По ночам выходил на работу, потому не знал, что склад разворовывают понемногу среди бела дня. В конце концов разорили склад, вынесли все, а сторож приходил каждую ночь и караулил пустоту.
Да, Юлий был единственный среди всех нас «россиянин», как говорят нынче. Как-то планетарно звучит, вроде «марсианин».
Что отнюдь не мешало ему горячо полюбить иные народы и страны, и уж тем более если они входили в состав всемирной империи по имени «Поэзия».
Я так любил тебя, моя Россия,
Как, может быть, и женщин не любил
(«Стихи из неволи»).
Потому и не уехал отсюда, когда ему предлагали – только что не угрожали.
Нет, нет и нет.
Он не искал лучшей доли, хотя был эпикуреец.
Но больше – рыцарь.
«Таких не знали небеса»
Вдруг случилось нечто невероятное: решено устроить при кукольной экспозиции Тюменского краеведческого музея… уголок Даниэля.
Никто не мог сказать, что такое решение было тривиальным. Да и Юлик на такое никак не мог рассчитывать.
Сделала это Раиса Николаевна со своей высокой прической на екатерининский манер и выправкой кавалерственной дамы. В свое время она была знаменита на весь Урал как директор Тюменского театра кукол и масок.
Я там оформляла несколько спектаклей и поспособствовала тому, что пьесу «Следствие ведет Шерлок Холмс» написали для этого театра Ю. Хазанов и Ю. Петров. Кроме того, выпросила у Юлия песенку (на музыку Наташи Араловой) для нашего спектакля «Карлик-нос». Он написал и подарил Раисе Николаевне:
Ах, чудеса – ну чудеса,
Таких не знали небеса.
Спаси нас и помилуй!..
И хотя имя автора в те давние времена невозможно было вписать в программку, песенку ожидала необычная участь. Она все жила и жила при Тюменском театре кукол, да так прижилась, что, говорят, звучит в городе Тюмени до сих пор, сорок лет спустя.
На этом связи с тюменскими куклами не кончились. Когда Лариса Богораз была изгнана из своего института за неугомонный нрав – что ж! – Тюменский театр заключил с нею договор на изготовление кукол к спектаклю «Макбет»: на наше счастье, была она не только математическим лингвистом, не только активным деятелем диссидентского движения, но и прирожденной кукольницей.
Раиса же Николаевна, бывая в Москве довольно часто, обязательно приходила и к нам, поскольку я тогда, можно сказать, работала у тюменских кукол только что не в штате. И вот, бывая у нас, она в конце концов Юлия полюбила, хотя в первый момент знакомства, полагаю, растерялась.
Как-никак в прежние времена обитала на олимпе, в просторечии именуемом обкомом партии, откуда ее направили, точнее, бросили на укрепление отсталого объекта, каковым и был до нее кукольный театр. И ведь как театр поднялся! От «Колобка» до Шекспира, но об этом как-нибудь потом.
Короче говоря, при первом знакомстве с Даниэлем баба Рая, как называли ее уральские кукольники, должна была, да просто обязана была растеряться. Но виду, разумеется, не подала. Глазом не моргнула. Хотя – голову даю на отсечение – газетные заголовки по поводу небывало скандального процесса над двумя писателями (а кто, спрашивается, тогда этих газет не читал!) – жирные черные заголовки так и замелькали под ее высокой прической: и «Наследники Смердякова», и «Перевертыши» – да мало ли! А тут вот он, перевертыш…
Что Раиса Николаевна когда-нибудь может покинуть театр кукол, – поверить в такое было невозможно. Во всяком случае, кукольники Уральской зоны верить в это не собирались. А когда все-таки поверили – что делать? – никак не могли понять, как будут теперь существовать врозь. Такое и представить никто не мог.
Скоро выяснилось – театру без нее пришлось скверно. Она же хоть и оформила пенсию, удаляться от дел не собиралась. Нашла-таки выход наша баба Рая, придумала, как со своим детищем не расставаться. Тотчас отправилась работать в Тюменский краеведческий музей и там занялась важным делом: вписать наши куклы и маски в общее историческое славословие города Тюмени.
Оговорю сразу – бывая в Тюмени по делам кукол, я как-то умудрилась в этот музей не попасть. Почему? Да кто ж его знает. Наверное, мне тогда и в голову не могло прийти, что когда-нибудь не буду делать спектакли в этом славном городе и в этом театре, и… Короче говоря, в музее не была. Не успела. Не посетила! Хотя вообще-то любила эти краеведческие музеи и, попадая в какой-нибудь российский город, именно такой музей обязательно посещала. Что-то меня в их устройстве трогало, хотя экспозиции кукольного театра ни в одном городе что-то не припомню. Может быть, потому, что краеведение мыслило другими масштабами – мезозойской эрой и мировой революцией. От ископаемого моллюска, имевшего счастливую возможность угодить на музейный стенд из раскопа местной почвы, – до Героя Социалистического Труда. Его портрет в комбинезоне, с ликом победоносным и суровым, за штурвалом, обычно завершал трудный путь данного города к светлому будущему. Ну какие уж тут куклы, хочу я спросить. Калибр не тот.
Только баба Рая рассуждала иначе и не привыкла к тому, чтобы ее замыслы не осуществлялись. Вот так и вышло, что Тюменский театр кукол и масок взял да и занял весьма внушительное место, потеснив другие экспонаты в разделе «Современность».
Раиса Николаевна была хорошей хозяйкой, всего у нее в музее было в избытке, и кукол, и масок, и фотографий спектаклей, и портретов актеров и режиссеров – да всех! Одним словом, перетащила реальный театр в некую виртуальную среду, в музейную зону, где он, кукольный театр этот, собрался пребывать вечно.
И вот – не хотите ли! – именно она, Раиса Николаевна, надумала открыть уголок Даниэля – и где! – в Тюменском краеведческом музее!
Юлия уже не было на свете. Он так и не узнал, чего удостоился.
А она взялась за дело всерьез. По всем правилам. Попросила образец рукописи, фотографию, какую-нибудь вещь из личного обихода. Так принято в музейном деле.
Правда, времена уже изменились, запрет на одиозное имя как-то сам собой улетучился – но не до такой же степени!
Однако она и директрису краеведческого музея убедила. И когда издательство «Московский рабочий» выпустило книгу прозы и лагерных стихов Ю. М. Даниэля, а я эту книгу Раисе Николаевне привезла, директор музея всерьез огорчилась – лучше бы мы ее издали, а не Москва!
Итак, музей тюменский запросил все, что в таких случаях положено:
рукописи;
фотографию;
какой-нибудь предмет из числа тех, что стоят на письменном столе всякого порядочного писателя.
Что ж, все было доставлено.
Так имя «Даниэль», столь долго запрещаемое, оказалось вписано в историю тюменских кукол и масок, память об этом и хотела сохранить Раиса Николаевна.
Дело же было так. В год Олимпиады (1980) в Москву на гастроли прибыли два тюменских спектакля, один поставил М. Хусид, другой – Ю. Фридман, один – «Пер Гюнт» Г. Ибсена, другой – «Карлик-нос» Гауфа. Так получилось, что художником там была я, о чем задним числом можно только пожалеть, да и не только тогда, но и сейчас: уж слишком жестоко все обернулось.
Хусид прорывался на передовые позиции авангарда. «Таких не знали небеса», как пелось в подарочной песенке, которую написал Даниэль.
И вот в театре Образцова были сыграны два тюменских спектакля. «Карлик» прошел на ура, «Пер Гюнт» вызвал скандал, и какого масштаба!
В какой-то западной газете появилась заметка про сей спектакль, там упомянуто было, кто художник этого несчастья. Жена, мол, известного диссидента и так далее.
То ли власти были готовы к какой-либо провокации, то ли… Впрочем, откуда нам знать, «о чем думает старуха, когда ей не спится», и старуха в данном контексте, конечно же, Софья Власьевна.
Скандал разгорался на кукольном поле, кто-то подсуетился, подсказал, какие следует принять меры: следовало лишить должности Ирину Жаровцеву[5]5
Жаровцева Ирина Николаевна – в былые годы была вице-президентом советской секции Международного союза кукольников. Нас с ней связывала общая работа.
[Закрыть], единственное лицо, к тюменской истории никоим образом не причастное.
Логично. Но бог ты мой! Что тут поднялось! Министерство культуры визжало не унимаясь. ВТО выпустило некую особу – она чем-то руководила, кажется, кабинетом кукольных театров, впрочем, теперь не важно, так вот, у нее случился приступ чего-то, и она могла только целый рабочий день повторять одну-единственную фразу:
– Шифровка легла на стол, шифровка легла на стол…
Видная театральная критикесса про нас с Хусидом сказала: фашисты.
Пора оторваться от воспоминаний – тем более что у Юлия случился инфаркт. Потом их было множество, каждый следующий все более грозный. Но тот, первый, был имени Тюменского театра кукол и масок. И если Даниэль чего-нибудь боялся в этой жизни, только одного, и оно случилось: одно упоминание его имени взорвало что-то устойчивое… И вот, что теперь будет с Тюменским театром, с кукольниками, куклами, с Раисой Николаевной, наконец?
Вы не поверите: ничего не было. Ну, выговор бабе Рае, ну и все! Тюмень истерику столицы не поддержала. Решено было актеров глупостями не тревожить – как будто есть на свете тайна, которую не распознает театральный люд! Театр случившимся долго гордился, пока московское приключение не стало понемногу забываться.
Только Раиса Николаевна, как видите, не забыла, и потому… вот он, уголок Даниэля Ю. М. в экспозиции кукольного дела в Краеведческом музее города Тюмени. Так природа захотела, пел Окуджава. Так карты легли, скажут цыганки.
Я же уверена, Юлий гордился бы честью быть отмеченным в краеведении города Тюмени, в памяти нашего театра, в затее Раисы Николаевны Рогачевских, которой никак не выпадало ни по положению, ни по чину, ни по воспитанию, наконец, увековечивать его имя среди тюменских кукол.
«Ах, медлительные люди!»
Он был прирожденный поэт-переводчик и обитал не только в миру и в мордовской зоне, но и в сфере Поэзии. Поправьте, если ошибаюсь, но сфера эта есть, и поэты всего мира отправляют туда свои стихотворные послания, а переводчик, как фронтовой радист, эти сигналы ловит.
Вот он получает текст подстрочника, принципиально прозаический, и «метраж», как я его называю, – то есть графику стиха, его «скелет»; вот он погружается в облегченную разновидность транса (это тоже я так называю) и вслушивается внимательно в звук, не слышный мне. И…
Однажды трудный достался подстрочник, невнятный настолько, что переводчик позвонил:
– Юлий Маркович, я ошибся. Там в конце «скатал свой ковер» на базаре – это в том смысле, что умер. Извините, я сразу не догадался.
– Не тревожьтесь, я так и перевел.
Сейчас уже не понять, как и почему такая литературная профессия, как переводчик, стала самостоятельным высоким искусством, порой не уступавшим поэзии и прозе, не говоря уже о том, что иногда подлинник уступал переводу.
Художественный перевод в нашей стране оказался по стечению многих причин в положении не только особом, но и уникальном. Все началось в пору Серебряного века, когда русская культура устремилась к всемирности. Уповая на консолидацию сил искусства и литературы («Собрать краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур» – завет символистов), перевод с иного языка на русский становился делом чрезвычайно ответственным, за него брались большие поэты. И Брюсов переводил классическую поэзию античного мира, а Блок – средневековый миракль. Двадцатые годы в некотором роде наследовали эту всемирность, она совпадала с планетарными притязаниями молодых революционеров.
Русская школа художественного перевода сохраняла стремление к высокой планке мастерства. Издательство «Академия» издавало в переводах мировую прозу, мировая поэзия привлекла молодых переводчиков… После войны политический климат в стране становился все более суровым, излишне объяснять, почему Ахматова, Цветаева, Пастернак стали переводчиками. Пастернак перевел не только «Фауста» и «Гамлета», но и классиков грузинской поэзии. Борьба с космополитами вынудила многих поэтов искать прибежище в переводах поэзии народов СССР. В Союзе писателей собирались регулярные семинары переводчиков. Приобщиться к их славному воинству было делом ответственным и серьезным.
К тому времени, когда Юлий стал получать заказы на перевод, в издательстве «Гослит» выходила том за томом мировая поэзия. Хочу заметить, несмотря на разрешение, спущенное Юлию «сверху», лучшие заказы он получал благодаря симпатии и горячей готовности прийти на помощь лишь от сочувствующих ему, – переводы шотландцев, испанцев и англичан он получал словно бы в знак солидарности и никого не подвел, кстати сказать… Когда он освободился, ему разрешили заниматься переводами только в одном издательстве. В ту пору «Худлит» издавал «БВЛ» («Библиотеку Всемирной литературы»). Во владимирской тюрьме Юлий переводил Аполлинера (Тоша Якобсон, получив заказ, поделился с другом подстрочником).
Разрешили! Как бы дали вид на жительство, и не только о заработке речь – поэтические переводы ему как воздух. Право же, он дышал ими. В «БВЛ» лучшие его переводы – Бёрнс и Мачадо. Шотландия – Испания.
Разрешить-то разрешили, только, взяв в руки свежую книгу, прочел он имя переводчика: Ю. Петров.
И уже много времени спустя Евтушенко пришел в издательство:
– Покажите-ка бумагу, где написано, что Даниэля быть не должно, откуда это – Петров?
Оказалось, нет такой бумаги. Было когда-то устное указание (откуда? – как откуда?). Но устное указание Женю Евтушенко не устроило, и вот наконец вышел том Гюго, а там «Спящий Вооз» переведен уже Ю. Даниэлем. Господи, да не все ли равно… Нет. Не все равно.
Публикации своих стихов и переводов Юлий так и не дождался. Впрочем, не могу сказать, что судьба об этом очень заботилась. Скорее наоборот. Когда он уже был болен – очень! – а в редакциях нескольких журналов лежали подборки лагерных стихов, только ничего так и не выходило, я позвонила Олегу Чухонцеву в «Новый мир».
– Простите, Олег, но все-таки: когда?
(Так важно, чтобы Юлик увидел!)
Олег сказал: тут очередь. Кого ставить вперед – Юлия Даниэля или Бориса Чичибабина? Ведь его тоже в «Новом мире» публикуем впервые…
Юлий, слышавший мой разговор, сказал шепотом:
– Конечно Бориса.
Да я и сама так думала. Чичибабин – поэт милостью богов, впервые, за столько лет, в «Новом мире», что говорить! Юлий же и стихи писал только в неволе… Он иначе не ответил бы и мне не позволил. Да иначе и я не могла.
Позже публикация Ю. Даниэля из цикла «Стихи из неволи» появились. Но позже, чем…
– Ах, медлительные люди!
Вы немного запоздали.
Это Кедрин.
– Лестницы, коридоры,
хитрые письмена…
Красные помидоры
кушайте без меня.
Так у Б. Чичибабина, я ничего не перепутала?
«Без меня» – это без Юлия.
Но как меня ругала Ольга Окуджава, как ругала!
– Ты поставлена охранять Юлика и его интересы, а Бориса пусть его Лиля охраняет!
Ты права, Ольга, тысячу раз права. Только кто же поймет, что я защищала интересы именно Юлия.
Может быть, никто этого и не поймет, кроме него.
Рифмы судеб: Окуджава и Даниэль
Они были немного похожи – Булат Шалвович и Юлий Маркович. Оба худые, можно сказать, – поджарые. Походка легкая. Некоторая угловатость жеста смягчалась той пластичностью, какая свойственна человеку, происходящему от народов древних и южных, но оба были по природе своей москвичи, из племени московской интеллигенции. Одного поколения, оба – из школы на фронт. Школярами отвоевали. Оба были ранены, вернулись живыми. Не помню, чтобы Булат и Юлий погружались в военные воспоминания, но что-то их в этой общей точке судеб сближало.
Линии судеб рифмовались: после войны оба окончили институты (Юлий – в Москве, Булат – в Тбилиси), оба по окончании были направлены в провинцию, оба оказались учителями в школах Калужской области. В сущности, были в одинаковом положении и не так уж далеко друг от друга, еще друг о друге ничего не зная. Беглое первое знакомство не в счет – мало ли тогда приводили переводчиков в «Литературную газету» к Окуджаве.
И только потом, когда отгремел процесс, когда Юлий отсидел срок, а после отбыл год высылки в Калуге и наконец вернулся в Москву, – вот тогда они встретились по-настоящему, в самом начале семидесятых.
А в середине шестидесятых арест Синявского и Даниэля грянул внезапно, оглушив интеллигенцию. Мало кто поначалу знал причину ареста, но для многих время стремительно помчалось назад, в 1937-й год: каждый успел на миг прикинуть на себя арестантскую робу. Булат слишком хорошо помнил это проклятое слово «арест» – с ним связано уничтожение его семьи. Много лет спустя рассказывал, как отправился в зону, на братское кладбище заключенных, – отыскивать следы братьев отца. И нашел зэковскую ложку, на ней было нацарапано: Окуджава. Ну как он мог остаться равнодушным к участи арестованных? Конечно, подписался под коллективным письмом в их защиту.
В текстах Абрама Терца и Николая Аржака обвинители находили вопиющую антисоветчину. На самом деле подсудная проза содержала нечто куда более опасное для власти – она содержала в себе глоток свободы.
Отечественная литература впервые пробила железный занавес. Как показало будущее, пробоину заделать не удалось: наша литература стала просачиваться в мир, и с этим ничего поделать было нельзя. И когда два писателя оказались в длительной неволе, литература об этом так или иначе заговорила – аллюзиями, эзоповым языком. Не знаю, писал ли Окуджава «Бедного Авросимова» под влиянием судилища над писателями, или сюжет романа оказался пророческим; знаю лишь, как жадно ожидали читатели очередной номер «Дружбы народов», как вчитывались, вникали в пространство между строк. Суд над Пестелем, каземат с тараканами, бедный Авросимов; как он, постепенно прозревающий, неожиданно для самого себя крикнул: «Я жалею об вас, жалею». Крик его был безмолвен. Безмолвна была и месть офицеров – месть предателю. Днем они несли вахту при суде, ночью пили, заглушая ужас. И били добровольца-стукача по щекам, не называя причину.
Даниэль писал в письме «оттуда»: «Сообщение о романе Окуджавы опоздало: я его читал. И тоже нахожу его весьма интересным. Особенно здорово выбрана – во времени – фигура рассказчика. Всё вместе: время и характер действия и время и позиция повествования – делает роман по-настоящему современным и серьезным (несмотря на всяческие арабески, впрочем, большей частью остроумные). И тем не менее книга выиграла бы, будь Окуджава строже к историческим реалиям – или если бы он плюнул на них вообще».
– Проза Булата – это проза милосердия, – говорил Юлий.
В лагерных письмах он сообщал, что поет Окуджаву. Еще сетовал, как мало поэзии ему достается: «Булата и Дэзика я хоть кое-что наизусть помню…»
Помнил, вспоминал и, конечно, никак не мог предвидеть, что в отдаленном будущем любимые поэты придут к нему на помощь. Будет это потом, когда Юлия лишат права переводить – бескровный вид наказания за поступок. И Булат, и Давид отдавали ему переводы, которые получали, – и работа Юлия являлась в свет под псевдонимами «Б. Окуджава», «Д. Самойлов».
А переводы стали для него не только заработком, но источником жизни: грозная болезнь нависала – переводы были панацеей.
Юлий просил обоих посмотреть сделанную работу. Дэзик отшучивался: «Ты что, у меня переводить не умеешь, что ли?» – Булат читал придирчиво, Юлий охотно поправлял переводы по его замечаниям.
* * *
Окончательно они сблизились в ту пору, когда мы сняли на зиму дом в академическом поселке Перхушково по Можайскому шоссе.
Мы – это Юлик, наша подруга Марина Перчихина, собака Алик, кот Лазарь Моисеевич и я. Много белого снега (в Москве такого не бывает) плюс загородная оглушительная тишина, плюс «Свидание с Бонапартом» – такова была формула счастья в ту зиму.
Что касается поселка, то там вообще-то испокон века все были свои. Только мы чужие. А кто, спрашивается, их любит, чужих-то? Еще хуже того – репутация новоселов. Академический поселок затаился: под боком живет политический преступник. Газовщик, ходивший по дачам проверять котлы отопления, доверительно сообщил: «Они говорят, что у вас под кроватью рация спрятана». Для чего нужна рация под кроватью, мы так и не узнали.
Надо сказать, что вообще-то предубежденное отношение к Даниэлю было исключением. Обычно он, вернувшийся из неволи, всюду встречал сочувствие и симпатию – это, конечно, к делу не относится… Хотя, впрочем, почему же не относится? Еще как! Но об этом после. Сейчас же вот что: к Юлию приехал Булат.
Слух о визите Окуджавы разнесся моментально. Во-первых, потому, что при въезде в поселок его опознал некий почтенный профессор, оказавшийся по случаю в сторожке. Опознал и сообщил сторожу, кто приехал. А во-вторых, и это гораздо важнее: беседовавшие неподалеку от нашего дома две дамы своими глазами видели, как у крыльца остановилась машина, а из нее вылез сам Окуджава – вышел и гитару вынес. Да не просто же так он гитару таскает, значит, мало того что в гости приехал, еще и петь будет!
Так что после этого первого визита отношение к нам стало меняться. На межсугробных дорожках встречные стали осторожно раскланиваться, особенно в сумерки, когда не так видно, кто раскланивается и – главное – с кем. Тем не менее обращались исключительно к нашему псу:
– Хорошая собачка, хорошая!
И спрашивали именно хорошую собачку:
– А что, Булат Шалвович еще приедет?
Алик молчал, соблюдая конспирацию. Булат же иногда приезжал. Перхушково ему нравилось, он попросил, чтобы разыскали тут ему тихий домик – роман писать, и тихий домик чудом нашелся. Булат его снял на зиму и поселился неподалеку от нас.
И действительно писал, работал в ритме строгом и четком, но легко, без творческих мучений. Аскетизм быта ценил: никакой лишней вещи в его чистой комнате не было. А днем, если дремал, укрывался всегда то ли пальто, то ли курткой – по-солдатски, как шинелью. Ну и конечно, вечерами, если не смотрел какой-то особый футбол по телевизору, заходил к Юлию, приносил главы романа, одну за другой. Это и было «Свидание с Бонапартом».
Я же, возвращаясь вечером из Москвы с работы в холодной электричке, гадала: принес – не принес?
Сейчас, перечитывая роман в которой раз, снова вижу перед собой обжитую нами перхушковскую кухню, древнюю клеенку на круглом столе, отмытую содой, протертую специальной тряпкой, покрытую салфеткой, – это мы с Мариной, допущенные к чтению, отправляли ритуал, разложив драгоценные страницы Булатовой рукописи. Нет, машинописи, конечно, но так отчетливо слышалось дыхание минувшего времени, что иначе не скажешь: рукопись. Роман рождался на наших глазах, и мы следили, затаив дыхание, как растет Булатова проза.
Юлий читал первым у себя в комнате. Порой после прочтения шел к Булату – то ли обсуждать, то ли за очередной порцией. Замечания тот выслушивал внимательно, но не думаю, что спешил что-либо менять. Да и вряд ли Юлий придирался. Впрочем, нам с Мариной не часто выпадало слышать их литературные, а точнее, рабочие беседы: все-таки оба были профессионалы, а по цеховым давним традициям ремесленные тайны для сторонних ушей не предназначены.
Булат иногда уезжал в город и привозил книги, нужные для работы. Приносил нам – почитать. Например, мемуары Луизы Фюзи, французской актрисы, ставшей прототипом Луизы Бигар, которая получилась в Булатовых мемуарных текстах в гораздо большей степени француженкой, чем в ее собственных мемуарах. По крайней мере, на русский вкус.
Сейчас уже не восстановить, что из реалий московской жизни 1812 года было взято Окуджавой из подлинных мемуаров мадам Фюзи и что увидел он сам в пространстве своего романа. Но могу поручиться, что знаю, где на Поварской стоял дом, в котором в 1812 году жила Луиза.
И так мы были захвачены этим чтением в ту зиму, что тень Бонапарта вдруг проявилась над деревней Салослово – через шоссе. Произошло это так: мы подружились с Евдокией Кулагиной, или бабой Дусей. Если я долго не приходила, она ковыляла к нам, оставляла записку: «иРа в чОмде-Ло?»
Вот она и рассказала про французское кладбище. Было оно, было – когда она, молодая, далеко и легко ходила, и там на памятниках по-французски было написано…
– Дуся, а ты по-французски-то читать умеешь?
– А то нет! – Дуся была амбициозна и не допускала досужих подозрений, оберегая свой престиж. – На памятниках, говорю, написано было буквами французскими, да и старые люди сказывали: это, мол, еще с той войны.
– А где кладбище-то?
Но Дуся позабыла.
Когда роман был опубликован, в последней строчке стояло: Салослово, сентябрь 1979–февраль 1983.
Наверное, Окуджава не просто так поселился в маленьком домике именно в этих местах, чтобы писать роман о 1812 годе.
Под Новый 1980-й я заказала бабе Дусе кукол для подарков под елку. Дуся их шила как бог на душу положит – были они неуклюжи, нелепы, неимоверны; но такая в них ворочалась первобытная мощь! Булату досталась лошадка. Она вошла в состав той зимы.
В те дни, когда Окуджава брал отпуск от труда, мы могли ожидать, что он придет с гитарой.
По поселку бродили интригующие слухи. Ведь если Булат Шалвович пойдет к Даниэлю не просто так, а с гитарой… И хотя нас все еще следовало сторониться, – но Булат, но Окуджава, но песни его! Да пропади всё пропадом! Может быть, стукнуть? В том смысле, что постучать в дверь, просто, по-соседски, как ни в чем не бывало: «Мы тут мимо шли… решили на огонек…»
К самому же, если встретится на пути, – не подступиться: замкнут, насторожен. Не подпустит близко – это видно. Да вот и сам он, легок на помине, запирает домик, идет – но без гитары! Но с ним женщина! С ребенком на руках, здоровый малый, закутан в шаль. И шагают как раз к Даниэлю.
А дело было вот в чем. Обычно о вечере «концерта» Булат сговаривался заранее – тогда к нему шла Марина с огромным серым платком – гитару прятать. Проделка срабатывала; «на огонек» никто не напрашивался. Окуджава не один, неудобно.
И он пел песни – такие знакомые, но слушались, как впервые.
Из воспоминаний Юлия: когда-то они с Ларисой (тогда женой) допустили немыслимую для семейного бюджета роскошь: купили магнитофон «Днепр», поскольку добыли песни Окуджавы. Песни имели вид ленты, узкой, темной, шуршащей.
В ответ – воспоминания Булата о том, как приятельница поведала ему, каким образом ее соблазнял преуспевающий поэт, приглашая в гости: «У меня, говорил, есть армянский коньяк и двести метров Окуджавы» (реальное количество метров, конечно, не помню).
Булат не любил славу и зорко следил за тем, чтобы она не нарушала границы его личного, а тем более творческого пространства.
Вернее, так: он не любил свою славу, – но он ее ценил. Именно она выдала его песням «вид на жительство», она же, разросшись до всемирных масштабов, ограждала от заказных рецензий, а может, гонений. А ведь он, кавказский человек, не прощал оскорблений. Не забыл, как в прессе его называли «пошляк с усиками». Не позволил себе забыть, как освистывали его когда-то в Доме кино. Рассказывал, как позвонили оттуда недавно, пригласили его, уже знаменитого барда, а он объяснил, почему ноги его в этом Доме не будет. И, пересказывая, вдруг на миг стал не московским интеллигентом, но «лицом кавказской национальности». На Кавказе оскорблений не прощают.
А вот еще эпизод, для него характерный. Мучила какая-то болезнь – у него их много было, но эта сильно терзала. Тбилисские друзья-писатели направили его к Джуне, знаменитой тогда целительнице. Она открыла собственный прием на Арбате, вся страна рвалась туда лечиться, и Чабуа Амирэджиби, позвонив из Тбилиси, похлопотал за Булата. Оказалось – зря хлопотал. Когда Джуна увидела Окуджаву в хвосте очереди, то закричала:
– Да как же вы – вы! – в очереди стоите! Проходите сюда, прошу! – И очередь, узнав его, расступилась, пропуская. А он круто повернулся и ушел.
Юлий свою известность переносил беспечно, не придавая ей значения. Никогда не слышала, чтобы рассказывал кому-нибудь, как наша пресса изощрялась: «Наследники Смердякова», «Идеологические диверсанты».
Известность? Да, конечно, – соблазнительное блюдо, но с горькой приправой: ему приходилось бдительно следить, чтобы контакты с ним не навлекли неприятности на головы тех, кто с открытой душой бросался навстречу. Да как уберечь?
Ведь слежка была. Отслеживали, куда бы мы ни отправились, – хоть в Баку, хоть в Таллинн. В Москве, разумеется, тоже глаз не спускали. Так и жил он – между любовью людей и слежкой нелюдей.









































