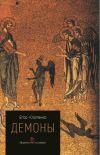Текст книги "Философия свободы. Европа"

Автор книги: Исайя Берлин
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Искать такие модели или дедуктивные схемы в обычных работах по истории – занятие бесполезное. Их там нет хотя бы потому, что наиболее общие положения, из которых такие модели можно бы составить, просто не сформулируешь. Общие понятия, используемые по необходимости историками, – государство, развитие, революция, общественное мнение, экономический рост, политическая власть, – конечно, часть общих положений, но таких, масштаб и надежность которых неизмеримо меньше масштаба и надежности положений, формулируемых даже наименее разработанными естественными науками. У историков они часто оказываются тавтологичными, а иногда размытыми и неточными, например: «власть развращает», «за каждой революцией следует реакция», «изменения в экономической жизни вызывают появление новых форм музыки и изобразительного искусства». Если у нас есть исходные данные – скажем, нам известно, что «Кромвель сосредоточил в своих руках большую власть», «в 1917 году в России произошла революция», «Соединенные Штаты Америки пережили период радикальной индустриализации», – едва ли мы сможем на их основании сделать сколько-нибудь значимые исторические или социологические выводы с помощью приведенных выше общих положений. Нам не хватает здесь взаимосвязанной системы обобщений, которой бы смог воспользоваться и электронный мозг, механически применив ее к той или иной релевантной ситуации. Историческое мышление гораздо больше напоминает работу здравого смысла, когда мы переплетаем друг с другом различные, изначально логически независимые концепты и общие положения и стараемся применить их к той или иной ситуации в меру наших способностей. Способность это сделать – переплести, применить – есть некое умение, эмпирическая хитрость (иногда ее называют способностью суждения), которой производители электронного мозга этот мозг обучить не могут.
Здесь могут заметить, что таинственная способность взвесить или оценить ситуацию, искусство диагноза и прогноза не уникальны, они используются не только в истории и других гуманитарных науках, и даже не только в повседневном мышлении и выборе. И в естественных науках способность понять, какая теория поможет решить проблему, а также способность применить (порой – с драматическими последствиями) ту или иную теорию к тем или иным данным, не имеющим, на первый взгляд, никакого к ней отношения, свойственны одаренным исследователям, а иногда в такой степени, что речь заходит о гениальности. Так или иначе, эти способности тоже нельзя сообщить машинам. Да, конечно; но существует значительная разница между методами объяснения и логического обоснования, применяемыми в естественных и гуманитарных науках, которая и поможет нам указать на различия этих наук. В хорошо написанной естественно-научной работе – например, в учебнике по физике или биологии (я не имею в виду спекулятивные и импрессионистские зарисовки) – все логические связи между положениями очевидны, или, по крайней мере, один вывод следует из другого. Иначе говоря, выводы можно вывести из посылок или по правилам вывода – в этом случае их истинность доказана, или по иным соглашениям, когда истинность колеблется в тех или иных вероятностных пределах, которые в науках, пользующихся статистическими методами, можно определить с достаточной степенью точности. Даже если автор работы и не пользуется символами «следовательно», «отсюда выводим, что» и т. п., любое рассуждение в математике, физике или другой развитой естественной науке (когда оно хорошо проработано) обладает ясной логической структурой, сообщаемой ему самим смыслом и порядком утверждений, входящих в него. Что касается утверждений, которые не доказываются, то они таковы или должны быть такими, что их истинность или вероятность при желании можно вывести с помощью общепризнанных логических процедур из других данных, которые экспериментально проверили и признали все главные специалисты в данной области. Так обстоит дело в естественных науках, но ничего подобного мы не обнаружим даже в лучших, самых убедительных, самых обоснованных работах по истории. Любой человек, я думаю, который захотел бы заняться историей вплотную, сразу бы отметил, как много в исторических трудах фраз типа «неудивительно, что», «поэтому совершенно естественно», «неизбежные последствия не замедлили наступить», «события следовали своей неумолимой логике», «в данной ситуации», «от этого было совсем недалеко до», приправленных к тому же почти незаметными предательскими словами вроде «таким образом», «следовательно» или «наконец». Если мы вдруг изымем из исторических учебников все эти мостики, то, я думаю, не будет большим преувеличением сказать, что логические переходы между фактами станут гораздо менее логичными. Простое соположение событий или фактов иногда покажется вообще нелепым, и лучшие из положений наших лучших историков (а кстати, и адвокатов) начнут казаться – по крайней мере, людям, воспитанным на логике естественных наук, – совсем не такими уж неопровержимыми.
Я не пытаюсь утверждать, что гуманитарные науки, в особенности история, обманывают читателя, маскируясь под науку внешними признаками логичности; я просто говорю, что сила этих удобных и необходимых связок «потому что» не одинакова в этих двух сферах знания. У каждой есть свои собственные, законные функции, они параллельны, и сложности возникают лишь тогда, когда мы пытаемся утверждать, что они идентичны. Надеюсь, это станет еще яснее, если мы посвятим моему предположению больше времени.
Предположим, что некий историк решил открыть и объяснить устройство некоего масштабного исторического явления, скажем, войны или революции, и его заставляют сформулировать те законы и общие положения, которые (по крайней мере, в теории) оправдали бы тот факт, что он все время пользуется логическими связками «а значит», «а потому», «отсюда неизбежно следует», «из этой точки уже нельзя было вернуться к» и т. п. Как бы он ответил? Вероятно, он не очень уверенно предъявил бы некоторые общие положения о влиянии окружающей среды или какой-нибудь ситуации – неурожая, падения курса, национального унижения – на людей в целом и на отдельные группы. Возможно, он бы говорил о влиянии интересов того или иного класса или рода, о влиянии религиозных убеждений или политических традиций. Но если бы его попросили предоставить доказательства этих общих положений и, услышав вымученный ответ, сказали бы ему, что ни одна уважающая себя естественная наука не согласилась бы оперировать такими размытыми, необработанными и, что хуже всего, ничтожными фактами, да еще так произвольно отбирать эти факты и делать из них выводы, он (если он честный человек), конечно, не стал бы говорить, что пользуется методами настоящей естественной науки.
Иные могли бы сказать ему, что не все гуманитарные науки пребывают в плачевном состоянии; например, есть дисциплины (из них известней всего экономика), где существует что-то, напоминающее научные методы. В экономике, несомненно, многие понятия можно определить с достаточной точностью; там можно четко отграничить друг от друга определения, гипотезы и индуктивные обобщения, эмпирические данные и выводы, сделанные на основании этих данных, модель и реальность, к которой эта модель применяется, результаты наблюдений и результаты экстраполяции, и так далее. Хорошо, предположим, все это предъявили несчастному историку, который, как слепой, блуждает в своем темном лесу. Но если он попытается последовать совету и применит к своей науке аппарат, рекомендованный к использованию метафизиками или позитивистами, занимавшимися разысканиями исторических закономерностей, то он недалеко уйдет.
Попытки снабдить историю законами шли в двух основных направлениях: одни создавали всеохватывающие теории, другие – подразделяли ее на отдельные дисциплины. Первое направление дало нам историософию, нашедшую логическое завершение в масштабных построениях Гегеля, Шпенглера, Тойнби, которые оказываются слишком общими, размытыми, а порой – и тавтологичными, чтобы пролить новый свет на какой-либо отдельный факт, или дают слишком странные результаты, когда специалисты в какой-нибудь узкой области пытаются их применить. Второе направление дало нам монографии об отдельных сторонах человеческой деятельности – например, книги по истории технологии, истории того или иного искусства или вида общественной деятельности. Они иногда удовлетворяют критериям естественных наук, но только в том случае, если вынесут за скобки большую часть того, что известно о жизни людей, чья история в конечном счете и пишется в этих книгах. Если речь идет, скажем, о чеканке монеты в древних Сиракузах – это положение вещей и желательно, и неизбежно; однако достигается оно лишь тогда, когда мы сознательно ограничим поле исследования.
Любая попытка интегрировать эти изолированные нити, разрабатываемые специальными дисциплинами, сделать то, что хоть как-то напоминало бы «полное» описание исторического события – описание, как говорил Аристотель, того, «что сделал или претерпел Алкивиад»[26]26
Поэтика, 1451b II.
[Закрыть], – сталкивается с непреодолимым препятствием: факты, которые нужно разместить на научной схеме и подчинить действию признанных законов или моделей (если мы договорились о том, что мы считаем важным и релевантным, а что неважным и периферийным), слишком многочисленны, слишком разнообразны, слишком неисследимы, слишком неточны. Они пересекаются, накладываются друг на друга на многих уровнях, и попытки отделить один факт от другого, тем самым «определив» их, расклассифицировав и разложив по полкам, ни к чему не приводят. Когда ученые, одержимые тем или иным историческим фактором, как климат у Бокля, «среда – исторический момент – раса» у Тэна, базис и надстройка и классовая борьба у марксистов, когда эти ученые уж очень старались, им удавалось значительно исказить историю, и даже если в их работах есть любопытные идеи и наблюдения, то работы в целом приходится отвергнуть из-за чрезмерной схематизированности. Они так сильно преувеличивали одно и настолько обходили другое, что история была слишком непохожа на рассказ о человеческой жизни.
Это кажется мне чрезвычайно важным, и отсюда можно вывести чрезвычайно важное следствие. Одно из кардинальнейших различий между удачными попытками применить научные методы к жизни человека, которые воплощены в таких науках, как экономика и социальная психология, и сходными попытками применить их к истории как таковой состоит в следующем: научный метод в первую очередь озабочен созданием идеальной модели, с помощью которой мы будем анализировать ту или иную часть реальной действительности, или, иными словами, по которой реальная действительность будет проверяться и в терминах отклонений от которой будет описываться. Но удачную модель мы создадим только тогда, когда есть возможность выделить значительное число достаточно стабильных инвариантов из предметов, фактов и событий, которые существуют в реальной действительности и составляют наш опыт. Только тогда, когда эти инварианты повторяются с достаточной частотой, а сами – достаточно одинаковы, чтобы их можно было описать как «такое-то число отклонений от единой модели», идеальная модель, созданная на их базе (будь это электрон или экономика), исполняет свою функцию, то есть сообщает нам способность узнавать неизвестное на основании известного.
Из этого следует, что чем больше число сходств[27]27
Или значимых сходств, то есть тех, которые нас в том или ином аспекте интересуют.
[Закрыть] мы можем обнаружить (и чем больше несходств можем игнорировать), то есть чем лучше мы можем абстрагироваться, тем проще будет наша модель, тем у́же будет набор характеристик, подпадающих под ее действие, и тем точнее она будет их описывать. И наоборот, чем шире класс объектов, к которым мы хотим ее применить, тем меньше особенностей мы вправе игнорировать, тем сложнее будет наша модель, тем менее точно будет она описывать разнообразие объектов, которое призвана охватить, и с тем меньшим правом, собственно, ее можно называть моделью. Теория, построенная на гипотезах, призванных ad hoc описывать тот или иной феномен, скажем, всякое отклонение от нормы, окажется, как в случае Птолемеевых эпициклов, в конце концов полезной. Исключение, игнорирование того, что лежит за определенными границами, неотделимо от самого понятия модели. Поэтому, мне кажется, если мы принимаем мир таким, каков он есть[28]28
Это эмпирический факт. Мир мог бы быть устроен иначе; например, если бы у мира было меньше характеристик и их разные значения сосуществовали или совместно встречались с большей степенью единства и регулярности, то исторические факты мало чем отличались бы от фактов естественных наук. Но в таком случае целиком иначе был бы устроен сам человеческий опыт, и его невозможно было бы описывать с помощью тех категорий и концептов, которыми мы привыкли пользоваться. Чем регулярнее и единообразнее устроен мир, тем меньше он похож на наш и тем меньше наша способность вообразить его и предположить, каков бы был наш опыт, если бы мы в нем жили.
[Закрыть], полезность теории или модели прямо пропорциональна числу случаев и обратно пропорциональна числу характеристик, которые она успешно описывает. Следовательно, человек оказывается перед выбором противоположных благ, предоставляемых ему, соответственно, экстенсивным и интенсивным подходом, то есть широтой охвата теории и ее содержанием.
Наиболее строгие и универсальные модели предоставляет нам математика, поскольку она работает на максимально возможном уровне абстракции от природных условий. Подобно ей, физика сознательно игнорирует практически все и рассматривает лишь очень узкий набор характеристик, общих для всех материальных объектов, а силу и охват (и ее величайшие триумфы) нужно прямо приписать тому, что она игнорирует все характеристики, за исключением избранных, обладающих универсальностью и повторяемостью. Чем ниже мы продвигаемся по этой шкале, тем богаче по содержанию становятся науки, но тем меньше в них строгости, тем меньше применимы к ним количественные подходы. Экономика – наука точно в той мере, в какой она способна исключить из рассмотрения те аспекты человеческой жизни, которые не связаны с производством, потреблением, обменом, распределением и так далее. Попытки экономистов исключить из рассмотрения психологические факторы, такие, как, например, пики человеческой активности или разнообразие целей и состояний души, которые получают через них выражение, или исключить моральные или политические соображения – оценку мотивов и последствий или удовлетворение интересов группы или индивидуума, – оправданы лишь в той мере, в какой они хотят максимально приблизить экономику к естественной науке, то есть сообщить ей способности анализировать и предсказывать. Если же кто-то посетует на то, что такая экономика слишком многое выносит за скобки или неспособна разрешить некоторые фундаментальные проблемы индивидуального и социального процветания, то есть те самые проблемы, которые и породили саму науку экономику, ему можно ответить, что он вправе рассматривать те стороны жизни, которых экономика не рассматривает, разрешая, например, моральные, психологические, политические, эстетические, метафизические вопросы, но лишь ценой отказа от строгости и симметричности – и предсказательной силы – моделей, которыми пользуется экономика. Гибкости, богатства, способности оперировать различными категориями проблем или подстраиваться под сложные и разнообразные условия можно достичь, лишь утратив логическую простоту, единство, стройность, экономичность, широту охвата и прежде всего способность получать неизвестное из известного. Последней из этих способностей (которой, совершенно естественно, покорила весь интеллектуальный мир ньютоновская физика) мы достигнем только тогда, когда очертим строгие границы для данного вида деятельности и со всей возможной безжалостностью откажемся изучать то, что к данной деятельности не относится. Именно поэтому даже такие описательные и привязанные к определенному времени науки, как биология и генетика, способны применять методы, подобные методам физики, в той мере, в какой они используют общие и строгие понятия и применяют «технический» подход. Как только понятия становятся нестрогими и гибкими, как только становится богаче содержание, так они сразу лишаются возможности называться естественными науками.
Если мы правы, то Контова классификация наук и в самом деле полезна: математика, физика, биология, психология, социология в самом деле оказываются ступенями в нисходящем ряду по строгости и точности и в восходящем – по конкретности и детализированности. Пример общей истории – самой богатой по содержанию из всех дисциплин, известных человечеству, – демонстрирует этот факт с поразительной ясностью. Если я – чистый историк экономики, то я могу, вероятно, сделать известные обобщения о том или иного товаре (скажем, шерсти) в том или ином временном промежутке (скажем, Средних веков), конечно, если у меня достаточно документальных свидетельств, позволяющих мне установить соотношения между его производством, продажей, распределением и т. д., и еще некоторые дополнительные социальные и экономические данные. Но я способен это сделать только ценой отказа от многих других вопросов – иногда очень важных, интересных и связанных с тем же товаром. По крайней мере, я не пытаюсь установить измеримые соотношения между источниками и схемой передвижения партий шерсти и религиозными, моральными и эстетическими предпочтениями ее изготовителей и покупателей, их политическими взглядами, их семейными, гражданскими или церковными свойствами. Модель, которая бы попыталась разобраться во всех этих аспектах жизни, лишилась бы предсказательной силы, точность ее результатов была бы незначительна, хотя богатство ее, глубина и интерес к ней несомненно бы выиграли. По этой причине я считаю полезным пользоваться техническими терминами (ведь мы ведем речь о модели) в узкой и четко отграниченной сфере – сфере экономической истории. Те же самые соображения действительны в истории технологии, математики, моды и т. д. Я создаю модель, абстрагируясь, то есть принимая к рассмотрению только то, что есть общего у всех индустриальных технологий, всех математических методов, всех способов писания музыки, и выстраиваю свою модель из этих общих характеристик, не обращая внимания на то, как много интересного и любопытного я опускаю. Чем больше я захочу втиснуть в рамки модели, тем тяжеловеснее и бесформеннее она станет, и в конце концов можно будет усомниться, а с моделью ли мы имеем дело, ведь она не покрывает множества реальных и возможных случаев, имевших место в разных местах и эпохах. Ее полезность в качестве модели, таким образом, сильно уменьшилась.
Историки, особенно во Франции, где они хотели максимально уподобить свои занятия научным, и в самом деле признали, что наука имеет дело с типичным, а не с индивидуальным, и даже стали на этом настаивать. Когда Ренан, Тэн или Моно проповедовали необходимость превратить историю в науку, они не просто имели в виду (как, по-видимому, Бери), что историки должны быть точнее и строже в своих наблюдениях и рассуждениях, или использовать достижения естественных наук в объяснении человеческих действий везде, где их использовать можно, или стремиться к объективной истине и утверждать ее повсеместно, каковы бы ни были моральные, социальные и политические последствия. Они имели в виду гораздо большее. Яснее всего формулирует это Тэн, когда говорит о том, что историки должны работать с образцами: «Что происходило во Франции в восемнадцатом веке? Там жило двадцать миллионов человек… двадцать миллионов нитей, переплетенных в паутину. Эту гигантскую паутину с ее бесчисленными узлами нельзя охватить ничьим воображением или памятью. У нас есть лишь ничтожные ее фрагменты… и вся задача историка – в том, чтобы их восстановить. Он восстанавливает ход нитей, которые видит, чтобы соединить их с мириадами нитей, которые исчезли… К счастью, в прошлом, как и в настоящем, общество состояло из групп, каждая группа состояла из людей, которые были похожи друг на друга, родились и выросли в одной среде, получили одно и то же образование, имели одни и те же интересы, потребности, вкусы, нравы, принадлежали к одной и той же культуре. Рассмотрев кого-то из них, ты рассмотрел всех. Во всех науках класс фактов изучается на избранных образцах». Дальше Тэн говорит, что историк должен проникнуть в личную жизнь человека, узнать его верования, чувства, привычки, понять его поведение. Такой образец даст нам возможность «увидеть силу и направление потока, который двигал все общество, в котором жил этот человек. Тем самым историк должен лишь писать монографии; подобно тому, как хирург погружает свой скальпель в тело человека, он должен нырнуть в прошлое и изъять оттуда полный набор достоверных образцов. Историческая эпоха становится нам понятной, когда изучишь два-три десятка таких образцов, нужно лишь отбирать их аккуратно и аккуратно изучать»[29]29
Discours de M. Taine prononcé à l’Académie Française. Paris, 1880. P. 24–27.
[Закрыть].
Этот текст как нельзя лучше иллюстрирует позитивистский оптимизм, в котором истина и ложь слиты воедино. Несомненно, наш единственный ключ к пониманию культуры или эпохи – детальное изучение жизни «репрезентативных» индивидуумов, групп и семей. Мы не можем рассмотреть все поступки и мысли всех, или даже многих, людей, которые жили в ту или иную эпоху; мы обобщаем, интегрируя результаты обобщений в то, что Тэн называл «паутиной». В «реконструкции исчезнувших нитей» мы пользуемся данными химии, астрономии, геологии, палеонтологии, эпиграфики, психологии, пользуемся всеми научными методами, которые нам доступны. Но цель всего этого – понять отношения частей к целому, а не, как полагал Тэн, частного случая к общему закону. В естественной науке – физике или зоологии, экономике или социологии – мы стремимся создать модель (мезон, млекопитающее, монополия, лишенный собственности пролетарий), которую затем применяем, чтобы узнать неизвестное нам прошлое или будущее со значительной степенью точности; ведь главный критерий, отличающий настоящую науку от ненастоящей, – способность теории получать неизвестное на основании известного. Процесс, о котором говорит Тэн, совершенно иной; это – реконструкция на основе схемы, некое социальное целое, и получаем мы его, проникая в жизнь отдельных индивидуумов при том условии, что они «типичны», то есть их особенности характеризуют не только их самих, но и общество в целом. Опознавая, что характерно и репрезентативно, что может считаться «хорошим» образцом, а главное, угадывая, как одни обобщения согласуются с другими, мы используем способность суждения, то есть форму мышления, построенную на большом опыте, силе воображения, твердой памяти, чувстве реальности, чувстве возможного и невозможного. Способность эту, наверное, нужно постоянно поверять другой способностью – способностью логически мыслить и конструировать законы и научные модели, способностью видеть отношения частного случая к общему закону, теоремы к аксиоме, а не части к целому; однако эти способности неидентичны. Я не хочу сказать, что они несовместимы и работают по отдельности, я лишь хочу подчеркнуть, что они – разные, что качественные различия и сходства нельзя без натяжки свести к количественным; что способность видеть качественные различия нельзя преобразовать в способность строить модели; что Бокль, Тэн, Конт, Энгельс и их менее образованные и менее терпимые современные последователи не видят этой разницы, когда размахивают знаменем научности, вводя людей в заблуждение.
Позвольте мне выразить это еще одним способом. Любой человек, изучающий историографию, знает, что многие достижения современных историков нужно приписать тому, что они используют определенные правила, а некоторые из них даже рекомендуют другим этих правил придерживаться. Например, историкам советуют не обращать слишком много внимания на личные достоинства, на героев и других уникальных людей той или иной эпохи, но наблюдать жизнь людей обычных, вникать в экономические соображения, социальные факторы, иррациональные импульсы, традиционные, коллективные или неосознанные действия. Им советуют не забывать о таких безличных, незаметных, скучных, медленных факторах воздействия, как эрозия почвы, устройство систем орошения и осушения, которые могут оказаться более важными, чем славные победы, гениальные прозрения или катастрофы. Им советуют не увлекаться, советуют не писать интересно или парадоксально, не умствовать, не морализировать и не выдвигать теорий; много чего им советуют. Что стоит за этими советами? Они не следуют из правил, действующих в дедуктивных или индуктивных дисциплинах, это даже не правила специальных дисциплин (как, скажем, принцип a fortiori в риторике[30]30
Способ аргументации от очевидного к еще более очевидному; риторика полагает, что оратор, использующий этот принцип, эффективно достигает своей цели – убедить слушателей в своей точке зрения. (Примеч. пер.)
[Закрыть] или принцип difficilior lectio в критике текста[31]31
Принцип, согласно которому наилучшим, то есть наиболее точно воспроизводящим «изначальное», прочтением неясного места в тексте является прочтение, вызывающее наибольшие трудности при интерпретации. (Примеч. пер.)
[Закрыть]). Какие логические или технические правила нам применить, чтобы в произвольной ситуации понять, что в ней определено рациональными и целенаправленными факторами, а что – иррациональными, что определило в ней личное участие и что – безличная сила? Если кто-нибудь полагает, что такие правила можно сформулировать, пусть попытается. Ясно, что приведенные выше советы – лишь квинтэссенция общей мудрости, практических суждений, базирующихся на наблюдении, воображении, уме, эмпирическом прозрении, знании того, что может, а чего не может быть. Это больше похоже на искусство или на дар, чем на обычное знание[32]32
См. ниже.
[Закрыть]. Можно назвать это не даром и не искусством, а некоей способностью к деятельности (в данном случае – к умственному труду) высшей пробы, которую научные методы направят, исправят, усилят, но никак не заменят.
Все это – лишь еще один способ сказать нечто тривиальное, но оттого не менее истинное: наука сосредоточена на сходствах, а не на различиях, она должна быть общей, игнорируя все, что не отвечает на крайне специализированные вопросы, ответить на которые наука и хочет, тогда как историки, которые занимаются чем-то более широким, заинтересованы в различиях, которые отличают одну вещь, личность, ситуацию, эпоху, схему индивидуального или коллективного опыта – от другой. Когда такие историки пытаются, к примеру, рассказать и объяснить Великую французскую революцию, меньше всего их интересует, что общего у нее с другими революциями. Они не стремятся обнаружить их повторяющиеся характеристики и сформулировать на этой основе закон, из которого можно было бы вывести какую-то четкую схему всех революций (или, более скромно, всех европейских революций), в частности – этой конкретной революции. Если бы даже было возможно разрешить такую задачу, это была бы задача социологии, которая оказалась бы теоретической наукой, а история – прикладной. Справедливы ли притязания социологии на статус естественной науки – отдельный вопрос, не имеющий отношения к истории, чьи задачи совершенно иные. Прямая (не побочная) цель историков, пишущих рассказ о событиях, как многократно бывало на протяжении веков, – нарисовать картину ситуации или процесса, которая, как любая картина, стремится ухватить индивидуальные черты и характеристики, свойственные только этому объекту, а не стать рентгеновским снимком, который устраняет все, кроме самых общих вещей. Теперь такие слова – трюизм, но не всегда понимали, как это важно, чтобы решить вопрос, можно ли превратить историю в естественную науку. Два великих мыслителя это поняли и взялись решить – Гегель и Лейбниц. Оба приложили поистине героические усилия, чтобы замостить пропасть, выдвигая теории «индивидуальных качеств» и «конкретных универсалий», но тщетно пытались они слить воедино индивидуальное и общее. Блеск воображения, породившего метафизические конструкции, призван вывести переход Рубикона из свойств Юлия Цезаря; и другие, еще более фантастические вещи, о которых написано в «Феноменологии духа», равно как их крах, должны указать нам на центральные аспекты проблемы.
Один из способов осознать этот контраст – рассмотреть два смысла союза «потому что». Макс Вебер, автор исключительно интересного исследования на эту тему, думал о том, при каких условиях мы соглашаемся считать адекватным объяснение того или иного поступка и как эти условия используются в науках естественных; иначе говоря, он пытался выяснить, что подразумевают под «рациональным объяснением» другие науки. Если я правильно понимаю, он рассуждает так: предположим, врач сообщает мне, что его пациент вылечился от пневмонии, потому что ему ввели пенициллин. По какой рациональной причине я соглашаюсь с логичностью этого «потому что»? Мое согласие рационально только в том случае, если у меня есть рациональные же основания соглашаться с общим утверждением «пенициллин помогает от пневмонии», истинность которого подтверждается экспериментом и наблюдением. Нет никаких причин верить в истинность этого утверждения, если мы не пришли к нему с помощью эффективных научных методов. Никакое общее рассуждение не оправдывает моего согласия с его истинностью (хотя бы в том или ином конкретном случае), если я не знаю, что оно было или может быть экспериментально проверено. «Потому что» в данном случае означает, что эффективность пенициллина при пневмонии установлена de facto. Это может удивить нас, а может и не удивить, но реакция наша никак не влияет на реальность самого факта. Истинность или вероятность его доказана научным исследованием, чья логика, как мы думаем, гипотетико-дедуктивного рода. Тут рассуждения кончаются.
Теперь предположим, что, читая историю тех или иных событий или просто роман или живя своей жизнью, я сталкиваюсь с утверждением, что поведение Y’а не нравилось X’у, потому что X слаб, а Y нагл и могуществен, или что X простил Y’у оскорбление, которое тот ему нанес, потому что X слишком сильно любил Y’а, чтобы на него обидеться. Предположим, я согласился, что эти «потому что» адекватно объясняют поведение X’а и Y’а. Если меня попросят указать, на какой общий закон я опираюсь в этом своем согласии, смогу ли я дать рациональный ответ? Скорее всего, я отвечу что-нибудь вроде «Слабые часто не любят сильных и наглых» или «Люди прощают тем, кого они любят». Но если меня спросят, какие конкретные свидетельства у меня есть, какие научные эксперименты я провел, о каком числе таких случаев мне достоверно известно, я не смогу найти ответа. Даже если я приведу примеры из своего собственного опыта или из опыта других, которые говорили о том, как относятся слабые к сильным или как ведут себя люди, способные к любви и дружбе, любой приверженец строгих научных методов, например психолог, скажет мне с презрением, что число случаев, которое я привел в доказательство, слишком мало, чтобы они могли обосновать столь общее утверждение, и никакая мало-мальски уважающая себя наука не согласится считать, что такое число наблюдений, которые к тому же не произведены в согласии с научными методами, позволяет вывести общие законы. Эти наблюдения, скажет он мне, – субъективные, неточные, донаучные, они недостойны считаться основой научных гипотез. Мало того, он еще добавит, что то, чем не может заниматься естественная наука, нельзя считать вполне разумным, оно лишь приближается к разумному, так сказать – «намекает на него».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!