Текст книги "Анамнез декадентствующего пессимиста"
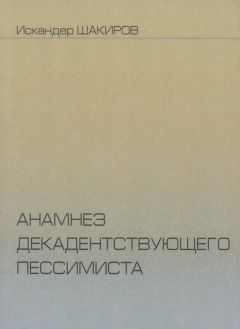
Автор книги: Искандер Шакиров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Мне кажется, что если читать в упор, то концы с концами не сходятся, и нет ни гармонически единого строя речи, ни положительной определённости взгляда… Конечно, есть гениальные строки… (А что в этом удивительного? Художник одними и теми же красками пишет и Иисуса Христа, и грязь на подошве легионера) Но чтение более внимательное от этого первого впечатления ничего, надеюсь, не сохранит.
Основано на спутанности мысли, которая выяснится нам при анализе «фантасмов» научного воображения, столь похожих, на первый взгляд, на продукты эстетического творчества. (Более двусмыслен, скажут его хулители; но ведь двусмысленность – это богатство).
Художник умышленно оставляет в своем произведении некое свободное пространство, предоставляя каждому человеку по-своему заполнять его собственным воображением. Но воображение – это неконтролируемая мысль. Могут спросить, хорошо ли обладать сильным воображением? Хорошо быть сильным самому. Если человек имеет силу ума, тогда и воображение сильно, и мысль сильна, и сам человек силен. Но сильное воображение означает исходящую от человека силу, простирающуюся без его контроля. Поэтому сильное воображение не всегда многообещающе; желательна именно сила мысли. Но что такое мысль? Мысль – это самонаправленное и контролируемое воображение.
Скажем так: ощущения от оргазма (оргазм невероятен тем, что каждый раз будто новый) онтологически отличны от обыденности других ощущений остальной жизни много меньше, чем вдохновение. Это оно, и всё тут…
Выяснить то, что он хотел этим сказать, можно на других примерах.
С чисто физиологической точки зрения оргазм у мужчины всегда сопровождается секундным помутнением рассудка. Эдаким ментальным вакуумом. Моментом истины, во время которого можно увидеть Бога. Гуру, занимающиеся медитацией, могли достигать такого состояния и без секса и часто описывали нирвану как нескончаемый духовный оргазм.
Учитывая бредовый характер нижеизложенного… С одной стороны, каждый сызмала знает, что пользы от таких разглагольствований не будет: запрещено – значит, запрещено. А с другой стороны, в доме повешенного о веревке – молчок. Напрасно болтать неэтично. Все ясно без разговоров. Все всё понимают.
Здесь, думается, нам могут возразить те из читателей, что до сих пор не выражали несогласия с нами. Они могут спросить, а не увязнут ли все высказанные выше соображения в болоте мистификаций – точно так же, как наделена была самостоятельным материальным существованием концепция истории на философском жаргоне не столь давних времен?
И хочешь верь, хочешь нет, дорогой читатель, но как раз разглагольствования подобного рода, от которых обычно мало толку, подводят нас прямо к сути нашего повествования. Хотя он и говорит, что демон помогал ему и в научном творчестве, и в житейских обстоятельствах, но сообщает нам он от него лишь бессмысленные фразы.
Глава 5. Метод гипертекста
Окружающая реальность постепенно исчезла, теряя очертания, словно гаснущий экран в кино. Она может страшить, как глазная повязка, но пролистаешь ты страницу – и увидишь бездонное небо, где взгляд обнажённый утонет. Я остался один и погрузился в мир, затаившийся между страниц. Больше всего на свете я люблю это чувство. В голове становится тихо и уютно, как зимним вечером в жарко натопленной комнате. Медленно, очень медленно возникает рисунок всего повествования… Если ты не слышала этих слов – ты не жила… Тут старуха с постели, очень громко: «Включи себе верхний свет!!! Что ты впотьмах пишешь?!»
Я, как фотоплёнка: всё отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью. (блистательно написано, патологическая память) Всё правда… я не пытаюсь вас растрогать… никаких художественных эффектов… У меня такое чувство, будто я собираю множество рассеянных страниц в одну книгу. Эмпирическая жизнь бессмысленна так же, как выдранные из книги клочки страниц бессвязны. Мы помним не то, что было на самом деле. Память – это набор химических соединений. С ними могут происходить любые изменения, которые позволяют законы химии.
Белый лист бумаги, минуты праздности, случайная описка, погрешность в чтении, перо, которое приятно держать в руке. Во многих включенных в книгу стихотворениях я пытался передать ритуалы, в которые мы так или иначе втянуты повседневно. Ритуал открывает глаза и закрывает их одновременно с текстом, но эти начала и концы особенным образом уходят в небытие, забываются, лишая причинности весь ход следствий, которые мы и принимаем за самостоятельные события; «полёт рассказа» имеет опору в самом себе.
Ему хочется написать самую простую книгу. То будет книга об утонченном и странном мальчике, страдающем раздвоением личности, об ученике, который не может примириться с окружающей действительностью. Анархист по натуре, он протестует против всего и в конце концов заключает, что на свете нет ничего-ничего-ничего, кроме ветра. Автор симпатизирует своему герою.
Но сделана из отброшенных мыслей и неоконченных фраз… Таким образом, я веду борьбу против дискурсивной формы философствования, отстаиваю философию вне дискурса. Подспудная задача книги – полное разрушение дискурса через поток сознания. А иначе зачем он? Застать "жизнь врасплох", уловить то глубинное и призрачное, которое не выразимо ни речью, ни образом, ни жестом, – ускользающе-эфемерное, теряющееся у порога сознания. Уступая ему по значимости, мы превосходим его в чуткости. Однако, философ "поправляет": "Основной особенностью, свойственной произведению искусства, нужно считать бесконечность бессознательности (синтез природы и свободы)", это дозволяет отказаться от подражания природе и презреть "законосообразность".
Ты неловок, как Геракл в гостиной. Ты боишься пошевельнуться. Любое самое осторожное прикосновение к миру засыпает лавинами мыслей и уносит наводнением чувств. Наивное счастье поступка, простого понятного жеста недоступно тебе. Ты медлишь, бесконечно смакуя, цепко следя, как спектр ощущений восходит от сладкого к горькому и опять деградирует к сладости.
В витрине каждой женщины ты успеваешь поймать свое отражение, а большего тебе и не надо. С любопытством ты разглядываешь эти мгновенные фотографии и удивляешься: все это ты, готовый отлиться в любую форму, но никогда – застыть…
Это уж как водится: известно, что есть думы, которые как будто не продумываются, а влияют прямо на сердце, но даже и сердце при этом (не говоря уж о рассудке) не отдаёт себе отчёта; и получаются смутные побуждения, а иногда не очень смутные, которые выливаются в роман, притом что тебе кажется, ты описываешь в романе мысли не свои, а других…
"Помни меня", – говорит пыль. И слышится здесь намёк на то, что, если мы узнаем о самих себе от времени, вероятно, время, в свою очередь, может узнать что-то от нас. Что бы это могло быть? И не станет больше пыли в углах и псам не прорваться сквозь пыль, чтобы неуверенно себя вопрошать, станет ли окончательно ясным… величье рассветов с осторожных постелей, но еще более велики мастера сожалений… Толстая пыль, как жир пустоты, так как в ней никто никогда не жил.
За подборкой, которую вы тут найдёте, не кроется правила более строгого, чем мой вкус, моё удовольствие, моя грусть, или совсем иное чувство, силу которого мне, видимо, будет трудно оправдать. Я привожу эти строчки, потому что они мне нравятся, потому что я узнаю в них себя и, коли на то пошло, любой живой организм, который будет стёрт с наличествующей поверхности… В этих нелепицах, сочиненных тысячу с лишним лет назад, – больше жизни, чем во всем бесчисленном множестве безличного народа, сновавшего на вокзале. Всем интересно "про себя", потому что про себя никто ничего толком не знает. Почему так бывает?
Это антология существований, собрание бесчисленных кратких жизней в несколько строчек, в пригоршню слов. Единичные жизни, из-за невесть каких случайностей превратившиеся в странные поэмы, – вот что мне захотелось собрать в гербарии. Помнишь, ты спрашивал меня, откуда я всё это взял? Так вот. Всё это снилось мне, пока я собирал всех вас на этих страницах. Моё будущее, настоящее и прошлое, существующие в одной точке, здесь и сейчас, воплотившиеся в сотне с первого взгляда несвязанных отрывков и персонажей. Имена и образы, сцены былого и сны-предсказания, воспоминания о том, чего никогда не было. Все они соединились во мне, от них моя путаница, мой экстаз… Но как представить себе жизнь других людей, если даже своя собственная жизнь едва-едва укладывается в уме?
Что же до самой антологии, то она далека от совершенства (что и естественно, когда первая попытка собрать и осмыслить некоторое явление российской культуры предпринимается в Калифорнии), есть там и над чем посмеяться, но для этого ее надо взять в руки, чего г-н Вербицкий, безусловно, не делал.
То, что последует ниже, только попытка – прямо по ходу мысли и текста – спонтанно уяснить для самого себя то, что спорадически, но постоянно давно уже волновало меня, но не было понято, то есть сформулировано, то есть, опять-таки, понято; потому и мало-мальски интересно лишь тем, кто задумывался над тем же – им и адресуется для согласия или несогласия. Честно говоря, понятия не имею, писал ли уже кто-нибудь об этом и в том же роде – скорее всего, писал кто-то: обо всём кто-то уже писал, и "в том же роде"; но всё равно, если человека что-то мучает, он обречён увидеть это "что-то" и написать о нём по-своему. В конечном счете эта книга – всего лишь попытка понять, что делает нашу жизнь более радостной и стоящей того, чтобы жить. Она была написана не для профессиональных психологов, но для каждого, кто хочет наполнить свою жизнь смыслом. То есть, для вас.
Возникающие в тексте повторы мне представляются витками мысли, пытающейся с разных сторон ощупать и опознать предмет этой самой мысли; поэтому я их сохранил. Да не посетует на меня возможный читатель.
Необязательно обладать тонкостью менталитета и чувствительностью эрогенных зон воображения, чтобы увидеть. Порой достаточно искры сомнения, чтобы стало ясно. Увидев, выжить практически невозможно.
Многоточия не отражают сути. Опускают руки, не оценив тонкости сказанного. Зрители в ужасе сползают под кресла, делая вид, что завязывают шнурки на ботинках. Зато потом они расскажут друзьям, что видели та-а-кое!!!
Абзац, как будто не имеющий права на существование: пока в сюжете всё просто, не так ли? Тем не менее, говорят, будто текст нужно переосмыслить, не «уценив». Конечно, автор может ввести в воображаемый воображаемым потребителем момент потные липкие ассоциации, которыми кишмя кишит… Суфлёры сконфуженно разводят руками. Им нечего и нечем подсказывать. В сущности, все они – плод чьего-то больного воображения.
АНОНИМ: stop! А где же тот самый пресловутый диалог автора с самим собой?! Ведь ради этого диалога, собственно, всё и пишется! Ведь это же гипертекст, он не может так видоизмениться! Я протестую! Где соло реанимационной машины, где вся эта куча суфлёров, где редактор, сломанная пишущая машинка? Примечание: реплики не маркированы. Актёрам и режиссёру следует самим определять, кто произносит что, исходя из логики происходящего.
Говоря честно и грубо – именно языком хочу отпереть темницу, в которой томится жизнь – вот о чём говорю я. Но не путайте – не тем языком, который русский немец определил как мясистый снаряд во рту (хитрость науки состоит в том, чтобы вовремя уточнить начальные условия: в чьём рту?) Косвенная же речь в действительности – самая прямая.
Мне бы хотелось в те края, где в тени бытия жизнь драматична и интересна, где тексты страшны и прекрасны в своём животном напоре, – призываю принять их красоту даже брезгливых, которым противны идущие сплошным шевелящимся ковром лемминги – осознайте величественность их цели – океан, в котором они сгинут; или тараканы, мигрирующие из холодного дома в теплую баню прямо по снегу – рыжая дорога соединяет тепло и холод, усики топорщатся как французские штыки, яйца торчат из яйцеводов смыслов и выпадают – все это один организм и он абсолютно разумен в своей безумности. Нет ничего более сладкого, чем пустить два потока навстречу, чтобы битва и пожирание, гигантский кровавый палиндром, пустеющий на глазах удивленного творца, аннигиляция тез и антитез, – и, наконец, – белая пустыня, усыпанная усиками и ножками, и солнце садится, удовлетворенно краснея. А вы хотите мне зла, хотите совершенно другого, – чтобы, склонившись над столом, я морщился и царапал пером, вдыхая отравленные логикой пары, чтобы в конце страницы при взгляде на сделанное, меня вырвало прямо на бумагу – вы этого хотите? Разве я не населил вам эти страницы – ещё недавно четырёхугольные белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк?
Нежнее и мягче – но достаточно напористо; так, чтобы особо чувствительные читательницы (если они вообще добрались до этих строк) вздрогнули с мелькнувшим в глазах восторгом, с еле слышным вскриком. На всем дальнейшем и длиннейшем пути будет много вдохов и выдохов, входов и выходов, введений и выведений – и так до самого скончания текста. Пусть он (читатель) прикинет, однако, что такую длинную книгу и дольше читать, и труднее купить.
Ваши жалобы мне непонятны. Есть все условия, чтобы забыться, и не искать выхода там, где его нашли мы – и в тот момент, когда, казалось, его замуровали. Тем, кто ведёт своё изнурительное наблюдение за этим животным, изучая его повадки и реакции на внешние раздражители, отслеживая броуновские перемещения его мысли (а она, если вы успели заметить, рвётся, как угрюмая кошка из рук, царапая эти самые руки – но, уверяю, что, нагулявшись, вернётся и сама попросится), – тем хочу сообщить следующее.
Начиная писать, я делаю ставку не на встречу с собой и вечным ребенком в себе, не на обретение своей истинной сути со всеми ее теневыми сторонами и прочую тому подобную чушь, – я хочу измениться, оставить позади прежнего себя, ветхого, устаревшего, неинтересного, хочу расти вместе с книгой. Так для чего мы пишем? Чтобы замуровать себя или чтобы освободиться? Чтобы исчезнуть или возникнуть? Завладеть землей или размыть ее и двинуться дальше, нащупывая ветвящееся, трудно уловимое сродство?
Гипертекст – это гипер-пространство для различных трансформаций. Я не меняюсь, я изменяю пространство вокруг себя. Неподдающаяся материя сопротивляется, цепляется за прутья своей клетки, выдвигая для борьбы со мной разных эмиссаров: злобных врагов, изматывающие болезни, предательства и прочие жизненные обстоятельства. Но потом, подчиняясь насилию, оно с тихим воем пускает меня в самую свою сердцевину и устало обволакивается вокруг, принимая формы моей души.
Попытаемся прояснить себе уникальную хореографию этих прыжков мысли. Ты, к примеру, не пишешь, ты просто вставляешь слова (любые) в форму, которая дана, извиняюсь, свыше.
Уж раз существует взаимосвязь между физиологическим ритмом и манерой писателя, то тем более существует она и между его обусловленным временем миром и его стилем. С чего бы писатель-классицист, живший в линейном и ограниченном времени, за пределы которого он никогда не выходил, стал бы писать отрывистым и негармоничным слогом? Он обращался со словами бережно, неотлучно жил в них. И эти слова отражали для него вечное настоящее, некое время совершенства, являвшееся его временем. А вот не укорененному во времени современному писателю приходится любить конвульсивный, эпилептический стиль.
Драматургия произвольна, события не шантажируют друг друга взаимной необходимостью. Он симулирует рассказывание. Мы скажем – поэзия, но в отличие от стихотворения, к прочтению которого можно вернуться на странице, время показа необратимо, и нет императива, заставляющего нас держать в памяти необходимую связь последующего и предыдущего.
Исполнено в манере морзянки. Строчки телеграфно-иссушены. В стиле бортового журнала, скрупулёзно записано всё как диагноз (скрыто много утончённых нюансов). Здесь каждое слово пережито глубоко, интимно; есть слова прямо кровоточащие. Пульс жизни в тончайшей струнке слова – и ещё с самой что ни на есть обычной, дико старомодной трогательностью, вплоть до слёз. У большинства других – что-нибудь одно. Художественные контрасты, их чисто лингвистическая перенасыщенность, воспринимаемая как перенасыщенность эмоциональная, по "густоте" письма, по образной плотности, по динамике фразы… Поэт чрезвычайно вещественен. А между тем он нуждается в гораздо более глубоком, и я бы даже сказал, медитативном прочтении, ибо это писатель, наделённый исключительно глубоким экзистенциальным опытом, который, в отличие от используемых им внешних литературных приёмов, никогда не станет достоянием большинства и никогда не утратит своей новизны.
Его читатель – это социально вписанный тип, добившийся в жизни досуга для чтения замысловатых текстов, ставящих под вопрос рациональные навыки и блаженный автоматизм, защищающий занятого человека в мире сложных технологий. Среди таких воображаемых читателей встречаются и скептически настроенные интеллектуалы с опытом отказа от общепринятого, для которых катарсическое находится вне языка коммуникаций, в невыразимом. Знаками невыразимого становятся и животные, прошедшие таинство приручения, и кто умеет следить за ними, забывает о логике и полагается на интуицию и подсознание; кошки ходят по границе знания и магии, и я часто встречал мнение, что библиофилы, архивисты и чернокнижники склонны быть аилюрофилами (любителями кошек).
Не случайно идея внутренне уравновешенной, сбалансированной личности зародилась не в корпоративной среде и не в обществе специалистов, а явилась плодом глубоко личных дружеских связей аристократии XVIII—XIX вв. с литераторами той эпохи.
– Да, если поискать, наверное, и ошибочки найти можно… – Это такой художественный приём. Именно с его помощью можно передать то состояние, в котором героиня, не объясняя собственных чувств… – Чё? Да пошли они со своими приёмами! Я простой человек и хочу, чтоб всё понятно было. Мне ихняя сложность на хрен не нужна, ясно? – Есть несколько способов построения художественной реальности, здесь представлена как раз…
Выстраивая фантазийно спрессованный недокументальный путевой дневник как повод к игре, раздумьям, исследованию нравов и самоанализу, плывёт по волнам океана, огибая или не без приключений навещая острова неподдельного счастья… большого вна… голых женщин… пониженной гениальности… посланных на…
Есть такие, кто не насилует каждую строчку манией цивилизации или идеалом, всеобщим, политическим, экзистенциальным, не знаю, каким ещё. В общем, если люди гнусны, так нам и надо. Следовало уделять им больше внимания. Просветитель Фонвизин смеялся над Митрофанушкой, который не хотел учиться, а хотел жениться. Мы ушли от узкого рационализма, просветительского высокомерия, гипертрофии познавательной деятельности, репрессивности европейской культуры вообще и диктата разума в частности. От пренебрежительного отношения к вульгарности мы тоже ушли. Мы можем оценить точку зрения Митрофанушки как альтернативный жизненный проект.
Нет однозначных ответов, сплошные метафоры, к которым, естественно, рискованно задавать вопрос, надеясь на определённость отклика. Метафора живёт вне таких логических операций.
Рассеченное и брошенное, как игральный кубик, комбинированное и рекомбинированное, наше тело – база образов. Оно отчаянно нуждается в образах, чтобы узнать себя, измерить себя, поверить себе, стимулировать внимание, питать каналы памяти, картографировать прекрасное, распознавать трещины в гравитации, отмечать возраст и зажигать взоры… Образ – это генетическая машина, рекомбинирующая, склеивающая, смешивающая, соединяющая.
Таким образом, можно украсть, а где похищение, там и кино. Оказалось, что где-то в моём поле ожидания обитают вакантные герои, которые только и ждут повода для взаимодействия и объединения в нехитрый сюжет. Сны, частная жизнь и эпос факта – только разные голоса, предшествующие выбору героя. И силы для решения собираются по крупицам. …Первым делом она выделяла положительного героя (хотя, если вдуматься, понятие «отрицательный герой» также бессмысленно, как понятие «положительный минус»).
Скажем, мы пришли в кино и смотрим фильм с участием Бельмондо. На полтора часа, пока длится фильм, мы как бы забыли себя, мы живем жизнью героя Бельмондо, мы чувствуем себя удачливыми, мы переполнены чувством юмора, нам все удается и т.д. И такого рода тренаж не проходит даром. Когда мы выходим из кинотеатра, то наше поведение хоть немного, хоть ненадолго, но изменяется. В этом и состоит воспитательная функция искусства.
Сэндел утверждает, что субъект не может описываться независимо от конкретных жизненных целей и ценностных ориентаций, которые оказывают на него конституирующее воздействие. Он всегда «ситуирован», причем самым радикальным образом, а потому проблемой является не удаленность субъекта от целей, желаний и склонностей, а его нагруженность этими целями, желаниями и склонностями. Следовательно, нужно разобраться в пределах самости, отличить субъект от ситуации и тем самым сформировать его идентичность.
В "Скрытой магии", между прочим, сказано: «Почему нас смущает, что Дон Кихот становится читателем "Дон Кихота", а Гамлет – зрителем "Гамлета"? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели и зрители, тоже, возможно, вымышлены». Не следует забывать и о напористости зрительного восприятия, которое даже в рекламе маргарина чует сексизм.
Например, распространенное среди критиков представление, что детали произведения должны быть подобны деталям чьей-то жизни, душа персонажа – душе автора и т.п. – это вполне определенная идеология. Скажем, психоанализ представляет себе отношения между произведением и автором прямо противоположным образом, а именно как взаимоотрицание.
«Кто мы такие, кем является каждый из нас, если не комбинацией опыта, информации, чтения и вымысла? Каждая жизнь – это энциклопедия, библиотека, реестр предметов, совокупность игр, которые непрерывно перемешиваются и упорядочиваются в произвольных комбинациях». И в самом деле, читатели всё заполонили. Точнее – некий Читатель и некая Читательница. Прочитанное и пережитое настолько перепутывается, что отделить одно от другого уже невозможно.
Сюжет? Сюжет – это когда все истекает. А у нас все течет и течет.
Персонажей без сомнения презренных, либо смесь мрачного упрямства и коварства тех жизней, чьё остервенение мы ощущаем под гладкими, как камни, словами. Когда мне случается встретить эти ничтожные жизни, превратившиеся в прах в тех самых нескольких фразах, что их и сокрушили. Ибо скоротечность повествования и густота событий, о которых идёт речь в этих текстах…
Да любое сказанное сегодня слово – свое ли? И наоборот – а что, если гениально, абсолютно точных словесных носителей-выразителей ума холодных наблюдений и сердца горестных замет в гениально точных словесных формулах накопилось уже столько, что их достает на все возможные состояния ума и сердца, что комбинацией чужих слов куда точнее, чем своим доморощенным словом, можно и нужно выразить самое что ни на есть свое-пресвое чувство или мысль? Это уже не чужие слова, это уже терминология, которую можно и должно использовать, тем более, что художественная терминология, подвижная и податливая, позволяет играть ею как хочешь. Может такое быть? А почему нет. Еще как может. Что, если своя душа неизбывна, а свои слова – избыточны? Если мы в блокаде чужих слов, куда как лучше выражающих нашу душу, чем наши собственные? Что, если человек, подошедший к себе вплотную, увидел – все его чувства уже описаны, мысли изречены, и лучше всего выразить себя, орудуя чужим, но комбинируя его по-своему? Как в шахматах – ну нет, нет никакого начала, кроме чужих дебютов, никакой защиты, кроме защиты Филидора или староиндийской защиты. И свое – это только по-своему разыгранная чужая защита, по-своему интерпретированное чужое. И нет ничего нового под солнцем.
Но потом я убедил себя, что это ложь. Я задал себе очень много вопросов "зачем" и "почему" (любимый метод метафизических разборок). И я знаю, что оно бессмысленно (а осмысленно, как несложно догадаться лишь то, что ведёт к неСмерти и/или Смыслу). Я решил, что раз его можно уничтожить, то, значит, жить можно и без него, а раз жить можно и без него, то честно жить без него. И это невероятно, но я уничтожил в себе вдохновение. Жить от вдохновения к вдохновению легко и просто. Уничтожив его, я получил много больше скуки в жизни, но стал ближе к тому, что это такое.
Возникает вопрос: зачем это нам? Художник спокойно объясняет: "Для знания. Вы ведь знаете дату своего дня рождения, номер дома, банковского счета. Как не знать?" Логика непобедима, но и невыразима по-настоящему, она содержит свой внутренний закон, на который и полагается творец и художник. А где знание, там управление и власть. Для смерти нужно столько же образования, что и для жизни.
Существование канонического корпуса текстов – т.е. элиотовский принцип «objective correlative», согласно которому «существующие памятники искусства находятся по отношению друг к другу в некоем идеальном порядке, который видоизменяется с появлением нового <…> произведения» – ставит человека пишущего в ситуацию не только двусмысленную, но едва ли не безнадёжную. Можно развить до известных пределов эрудицию, что позволит не только достигнуть известной изощрённости в комбинаторике, но и забыть на время о самом существовании канона. Но высокой сложности (как и всему на свете – неслыханной простоте, прекрасной ясности и прекрасной же эпохе) рано или поздно приходит конец. Просто потому, что число единиц смысла может быть чрезвычайно велико, но не беспредельно. Количество жизнестойких комбинаций, следовательно, и того меньше. Рано или поздно всё это оборачивается неподдающейся излечению литературной маструбацией, сиречь – скукой. В башке начинает царапаться гаденький, анекдотический вопросец: «А зачем?» Магистр игры в бисер вдруг осознает себя в положении человека, жонглирующего железобетонными блоками. Можно сделать все, но нельзя сказать всего. Здесь мы читаем: "Прохожий. Рано или поздно – сам понимаешь… Так что – сам понимаешь…"
Но что гадать и преумножать сущности сверх необходимого. Выше себя не прыгнешь. Насади себя на крепкую логическую ось – хоть ненадолго навались из всех сил на рычаг – и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов… Слова устают и изнашиваются, как устают и изнашиваются люди. При случае может понадобиться замена. «Жизнь изгаживает», – замечал Анри де Ренье; нет, жизнь прежде всего изнашивает: безусловно, есть люди, которым удаётся сохранить в себе неизгаженное ядрышко, ядрышко бытия; но что значит этот жалкий осадок по сравнению с изношенностью тела.
Мой отец был задумчивым и властным, скромным и решительным, трезвым и недоверчивым, одиноким и надменным, загадочным. Он любил играть в шахматы. Скрытность, теперь я в этом уверен, была присуща его натуре, позволяла свободно мыслить и жить по-своему.
У него была еще одна особенность, необычная для человека, не считавшегося так называемым интеллектуалом. Отец до странности бережно, почти суеверно, относился к слову, даже разговорному, обиходному. Он сам тщательно подбирал слова, взвешивал каждое, будто обдумывал шахматный ход, и требовал того же от нас. Иногда неосторожное слово (самое обычное, общепринятое) внезапно приводило отца в холодную, пугающую ярость (какое именно и почему, предугадать было невозможно); казалось, в его душе задели незажившую рану и он взвивался от обжигающей боли. Сгусток тайн, отголосок далекой бури. След, оставленный прошлыми потрясениями, не поддающийся истолкованию. Отец прерывал наш бездумный треп: «Не болтайте попусту! Сами не заметите, как потеряете себя».
У людей мало слов для того, чтоб они могли понимать друг друга. У них нет форм для выражения чувств. Слова, имеющиеся в их распоряжении, слишком изношены и бледны. Они мало говорят. Они ничего не рисуют. Ах, это большое несчастие, что сначала развиваются чувства, а потом уже язык. Мы остаёмся позади языка с нашими чувствами, мы не можем выговорить себя, и вот почему никто никого не понимает. Нам нужны новые слова, много слов; нам всегда нужно бы иметь в запасе несколько лишних слов, ибо часто чувства мимолетны, моментальны и нам нечем оформить их. Ах, во многом ещё мы нищие и вот почему так часто грабим друг друга.
Мода никогда не современна. Она играет на повторяемости однажды найденных, а затем умерших форм, сохраняя их в виде знаков в некоем вневременном заповеднике. Мода из года в год с величайшей комбинаторной свободой фабрикует «уже бывшее». Мода всегда пользуется стилем «ретро», но всегда ценой отмены прошлого как такового: формы умирают и воскресают в виде призраков. Это и есть ее специфическая актуальность – не показательная отсылка к настоящему, актуальному времени или событию. Мода – это тотальная и моментальная реутилизация прошлого. В ней всегда предполагается замирание форм, которые как бы абстрагируются и становятся вневременными эффективными знаками. А эти знаки в силу какой-то искривленности времени могут снова появиться в настоящем времени, заражая его своей несвоевременностью, чарами призрачного возврата.
– Мне кажется, что из этого трудно сделать роман.
– Почему?
– Роман – это движение чувств, говоря в самых общих выражениях. А здесь его нет. Есть только одна мысль, не очень новая, как ты знаешь, и лишенная эмоциональной окраски, без которой роман может показаться неубедительным.
Техника наивна, композиция ошибочна и банальна, декадентская эстетика минувшего столетья с некоторой невоздержанностью языка, извиняемая, впрочем, пожалуй, молодостью лет.
Я не считаю себя обязанным читать газеты и я едва-едва успеваю оглянуться на то, что делается вокруг меня. Как хорошо жить где-нибудь в Париже или Лондоне, – там, говорят, выходит до шестидесяти газет в день… Эти города прекрасны, там всюду идут часы. Тогда как мы "и не восточный, и не западный народ", а просто ерунда, – ерунда с художеством. Я не чувствую себя в силах читать претенциозный и газетно-актуальный, где автор и герои говорят так, как никто не говорит и не думает в жизни, – какие-то рваные и в то же время напыщенные сложносочинённые с эллипсисами и через запятую, не могу, и якобы в духе времени, и все с оглядкой на чужое восприятие, нет сил, и обязательно баба, и обязательно крысы, можно подумать, Грина не было, чего ты добиваешься, вали всё в кучу, сверхъязык симулякров, низведение текстов искусства к протоколам, испытывая гадамеровские муки нехватки языка – не такие ли муки испытывает интерпретатор живописи и поэзии, мировоззрения и веры? Не что иное, как алогичное нагромождение логически связанных элементов. Сам Стриндберг говорил о своей пьесе как о попытке подражания обрывочным, но обязательно логически связанным грезам.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































