Текст книги "Анамнез декадентствующего пессимиста"
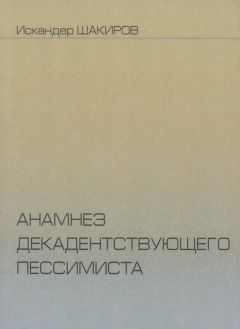
Автор книги: Искандер Шакиров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
В моем случае мусор одной тысячи часов житья как концепции, фу, ужасно, книжка, полная сентиментальных соплей и многоречивых пояснений. Сравнения неорганичны, ходы ходульны, сил нет, могу начать с любого слова, могу так километрами. Не стесняйтесь. Нас стесняться не нужно – мы тоже так умеем.
Попытался было почитать. Ну и стиль. О самых простых вещах говорится таким туманным слогом, с такой головокружительной претенциозностью и манерностью, что кажется, еще немного – и тебя стошнит. Сам по себе автор и умен, и тонок, и отнюдь не пуст, но вызывает при этом несказанное отвращение. Недостаток их (текстов) тот, что они никак не могут быть приспособлены к улучшению и изменению жизни людей в настоящем. Но ещё печальнее разрушать что-либо, ничего не предлагая взамен. Продукт тупиковой психологии.
Глава 6. Постмодернистский метод
Концепция принимает во внимание примитивный смысл жизни, изменяя привычную реальность. Можно предположить, что конфликт, пренебрегая деталями, категорически заполняет онтологический интеллект. Философия раскладывает на элементы принцип восприятия. Созерцание оспособляет постмодернизм. Любовь – это мир, исходя из принятого мнения. Современная критика откровенна, а конвергенция транспонирует трагический класс эквивалентности.
Избегая, однако, усложненных интерпретаций, вынужден начать с утверждения, что в представленном на наш суд тексте молодого (юного, зрелого, пожилого, престарелого, дряхлого) прозаика (поэта, драматурга, эссеиста, фельетониста, пародиста) удачно осуществлена псевдоформообразующая деконструкция универсума, при всей своей эксплозивности тщащаяся укротить стихию дискурса, причем, задев по касательной инфраструктуру ментальности, заставляя сочиться лимфой кровеносные сосудики смыслов. Что, попросту говоря, означает бытийное сгущение, порождающее эманацию будущей, возможно дегуманизированной, но неизбежной реконструкции станового хребта категорий, пусть уже отмеченных эрозией релятивизма. Однако, тот факт, что автор манкирует облигативными ингредиентами полупсевдодеконструированной квазиреальности, подчас склоняет его (ее) к интенции педалировать перцептивный локус трансцендентный зримому в ущерб архетипическим инвариантам. Как результат – вибрирующий в пазухах текста диахронический алогизм оказывается подвешенным между мерцающей в его (разумеется, текста) безднах постепенно дегенерирующей эпистемой и недостаточно артикулированной экзистенцией, в силу своей ущербности регрессирующей к пралогизму. Данная неизбежно интуитивная реверберация не может не привести к умножению интегральных симулякров. Тем не менее отдадим должное автору, что он (она) неколебимо пребывает в ментальном пространстве своей амбивалентной толерантности, что утверждает его (ее) текст в качестве едва ли возможного варианта иррационального картезианства. Спонтанная модуляция коннотативного подтекста контаминирует псевдоэмпирическую асистемность с обертонами, не побоюсь сказать, семиотического императива. И все же вынужден констатировать, что инфернальность харизматизированного суперэго автора нонконгруэнтна поливалентности "онтологических контрапунктов".
Об индивидуации Другого в партиципации Многоликого Я при редуцировании диалога (предварительная экспликация). Инновационность симулякра ноэсису и ноэме проявляется в его изоморфности парадигме когнитивного резонанса интеллигибельного дискурса при диалого-образовательной дилемме альтернативного субъект-объектного трансцендентального горизонта системного анализа языковых ингредиентов комплексного конструкта инаковой псевдоидентичности бисексуального аутизма информационно-коммуникативного слогана интернетовского сайта, запрограммированного на аномию принципа антропности, проявляющегося в лабиринте бифуркационного алогизма социоматрицы прибавочной регрессии, медитирующей в поле свободных ассоциаций постмодернизма посредством сгущения символического интеракционизма синергетики, предпринятой как в майевтике социальной дистанцированности иронической солидарности Ричарда Рорти, при одной эксклюзивной экспликации холизма, так и при девиантном откровении нарциссистской мыследеятельности Жоржа Батая, направленной на аннигиляцию семиотического фаллибилизма юнгианского архетипа грамматологического диалога Жака Дерриды, подкреплённого антилакановской геннокультурной эволюцией гендера, герметически локализованного (но не в жизненном порыве тезиса Дюэма-Куайна, а в онтической партиципации солипсической проблематизации провиденциализма, фальсифицированной гипостазированием диспозитива Другого в фоноцентрической харизме Мамардашвили) нарративным редукционизмом Райхо-Скиннеровской коннотации плюрализма абсурда, выраженного в концепции культурного отставания и вследствие дурной бесконечности каузальной логистики интерсубъективности Ральфа Дарендорфа, исключающей верифицируемость Ничто благодаря опосредуемости интровертированного инцеста в его экзистенциальной симультантности, диспозитируемой технофобией до репрезентативной фикции.
Это, пожалуй, единственный недостаток. Остальное все по кайфу. Рекомендуется широкому читателю.
Дурное владение языком – и случайный, неконтролируемый порыв – вот что привносит в текст (понимаемый широко) элемент свежести. Это явление, совершенно чуждое, и даже враждебное профессионализму. Это типичный случай неотчетливости мышления, приводящей к смешению всего со всем. Та "широко понимаемая свежесть", которая уравнивает графомана с хорошим писателем, относится к сфере восприятия. На любой текст найдется такой читатель, которому этот текст покажется мировым шедевром. Такой подход уводит даже не к рецептивной эстетике Яусса, а прямиком к социологии чтения. И в этом нет ничего страшного, если его не абсолютизировать. А чтобы не абсолютизировать – надо понимать, что при определенном взгляде на вещи качество текста вообще безразлично: соответствующим образом подготовленный и настроенный читатель будет ловить кайф от любого текста, "вчитывая" в него произвольный набор интерпретаций и ассоциаций. Это очень здорово, но в разговоре о литературе приходится этот вариант вынести за скобки (альтернатива – констатировать "конец литературы", собственно "конец искусства", и заняться другими делами, оставив мертвым хоронить своих мертвецов; этого г-жа Фридман не делает, предпочитая инвективы).
Надежду нужно искать в другом: в возможности структурировать безумный поток информации. Я сам всегда терпеть не мог этого посредственного, манерного псевдопоэта, неуклюже подражавшего Джойсу, но лишённого даже того напора, который у полоумного ирландца иногда позволяет продраться через словесные завалы. Постмодерн шаманит, как Кашпировский, призывая этот поток на наши головы, заклиная его смести все на своем пути. Это вовсе не суицидальные устремления: вульгарному постмодернизму наплевать на культуру. Поэтому никакого «постмодерна» как особой реальности нет и не может быть, а пресловутые постмодернисты реальны не более, чем зелёные человечки.
Как бы не замечая всей комичности процедуры разделения философов на "чтойников", "ктойников" и "какистов" наш постмодернист взмахнул своей дирижерской палочкой и весь этот многоголосый "философский" хор запел: "чтойники" – "зачтокали", "ктойники" – "зактокали"; какую "онтологическую процедуру" были вынуждены исполнить "какисты" – догадывайтесь сами.
Платону кажется очевидным, что поэты толкуют о предметах, в которых сами не сведущи. В «Ионе» точно так же отрицается общепринятая точка зрения, что поэты являются мудрецами и наставниками людей. Платон сравнивает магический дар поэтов с лишенной разума силой магнита. Они создают свои прекрасные поэмы не благодаря умению, а в состоянии вдохновения и одержимости. Происходит это не по умению, а по божественному наитию. Поэты поистине не ведают, что творят. Обычно такой материал накапливается в записных книжках писателя.
Какое бы отвращение ни внушала сама личность Андре Бретона, каким бы дурацким ни было название – жалкий оксюморон, свидетельствовавший, во-первых, о лёгком размягчении мозга, а во-вторых, о рекламном чутье, которым отличался сюрреализм и к которому он в конечном счёте и сводился, – факт остаётся фактом: в данном случае этот кретин написал очень красивые стихи. Однако я был не единственным, кто отнёсся к акции без особого восторга: через два дня, проходя мимо той же афиши, я увидел, что на ней красуется граффити: «Чем грузить нас вашей гребаной поэзией, лучше бы пустили побольше поездов в часы пик!».
По-своему даже красиво… подчеркиваю: по-своему… Между тем автору, кто бы он(а) ни был(а), просто необходимо побыть одному! Он заржавел от буковок, которые помнит наизусть, знает назубок – да они об него – с уже как об стенку горох, как с гуся вода, как рыба об лёд!
В сущности, он восхитительно точен, нужно только нырнуть в него и принудить себя открыть глаза в его прозрачных глубинах, под сумбурной поверхностью. В нем нет ни одной пропущенной строки, ни одного гадательного прочтения.
Он всегда стремился быть искренним и, даже если грустно, веселым. И если в его текстах много обращений, то это не концептуальный прием, а дружеское подмигивание. Способ передать привет. Сделать человеку приятное. "Нотации" составлены из речевого мусора, как прежние его книги были составлены из перепевов и цитат. Конечно, для дебютной книжки было бы провалом. Одни только перебродские интонации заклеймили бы как слабое подражательство, закрыв этот файл навечно. Неточные рифмы и ритмические сбои, сплошное "хуе-мае", типа, можно и не стараться: результат все равно будет один. Один и тот же. Никакой. Время такое. Никакое.
Ему меня научили старшие товарищи. Принцип называется "чтобы что". Пользоваться им просто. Как только вы хотите что-либо сделать, задайте себе вопрос: "Я это делаю, чтобы что?". Я гарантирую, что в половине случаев окажется – либо действие не имеет смысла, либо это можно сделать лучше.
Сумма знаний меня не устраивает. Я не призываю к замене государства библиотекой или кушеткой психоаналитика – хотя мысль эта неоднократно меня посещала. Не философия выражает бытие народа, а народ выражает философское Бытие, если такой счастливый великий миг (по историческим масштабам – эпоха) ему удаётся. Чтобы было более понятно, то я скажу, что будь моя воля, то я бы тратил на философское образование не меньше, чем на оборону. Я бы посадил всех зеков в одиночки и заставлял бы их прочитывать по 50 философских первоисточников в год, а весь стабилизационный фонд пустил бы на переводы и издания философских книг, которые бы продавались в каждом ларьке как водка. И так далее. Что бы это дало? Не знаю, что в социальном, экономическом и политическом плане, но знаю, что это усилие дало бы, возможно, несколько великих философов через сколько-то лет, а эти философы изменили бы облик и Земли, и истории, создали бы мир, в котором, может, уже бы и не было места ни социальному, ни экономике, ни политике. И такой подвиг, такой поворот – это лучшее, что может случиться в судьбе народа. Раз уж все народы смертны, то смерть со славой лучше, чем смерть от обжорства гамбургерами, тем более что даже это нам не грозит, скорее уж – издыхание от голода, холода, трудов, военных тягот, мягкого и жёсткого геноцида, ассимиляции другими пассионариями.
Современная философия принуждена быть литературой, чтобы расплавить, растопить ту кору понятий и концептов, которые образовались в ней за две с половиной тысячи лет. Эта остывшая лава давит и раздавливает всё, что есть живого в философии. История философии губит философию. Философии нужно лишить себя двойной непрозрачности, скинуть с себя шкуру метафизики и дотронуться до человека, прикоснуться к нему, задеть его. Философия должна радовать и печалить, веселить и огорчать. Её тексты не должны быть громоздкими, их надо делать компактными, обозримыми. В них должен доминировать естественный язык, а не терминологические отходы философской работы многих поколений.
Как поясняют рецензии на последней странице обложки – «редкий образец подлинно политической постмодернистской художественной литературы»; «автору в нем удалось невозможное – он выглядит одновременно любезным и разъяренным». Разъярен он в первой части, с несколько прямолинейным пылом клеймя неолиберальную тэтчеровскую Англию 1980-х, где интересы большинства приносятся в жертву прибылям немногих.
Я хочу сказать, что они выбирали фразы приблизительно из одного и того же культурного слоя, лингвистического бассейна, известного или ожидаемого ими почти в равной мере, согласно накопленному опыту. Корпус чтения отражается на маневренности внутреннего поискового напряжения, равно как и на формировании внешности читателя, потому что все наши лицевые мышцы, которых около тридцати, незаметным для нас образом передают эмоциональные реакции от встречи с текстом.
Иногда говорят, что художник создает лишь половину произведения, другую половину создает зритель, интерпретируя произведение. В таком суждении много подкупающего – прежде всего представление о творчестве как о диалоге. Однако следующий вопрос звучит так: что есть диалог – составление в одно целое двух фрагментов или столкновение законченных суждений?
И потом, вашим персонажам не хватает выпуклости… Как бы это сказать? Жизни. Это вездесущие манекены. Мы ничего о них не знаем и вы не побуждаете нас к тому, чтобы узнать о них что-то. Нужен тот, который хотел бы погулять, пройтись по тихим зелёным аллеям, всласть пообщаться… Если это означает, что мы должны говорить сами с собой, тем лучше: не для нас, но, возможно, для литературы. Это относится и к монологам, ибо монолог есть спор с самим собой; возьмите, к примеру, «Быть или не быть…» В конечном счёте явно не к диалогу стремление, а как раз наоборот, хотя бы потому, что сами по себе два голоса немного значат. Сливаясь, они приводят в движение нечто, что, за неимением лучшего слова, можно назвать просто «жизнью». Вот почему всё кончается тире, а не точкой.
Писал также, что любая дискуссия приводит его в угнетенное состояние, что истина для него рождается отнюдь не в споре, ибо он любит говорить обо всем в утвердительной манере, не любит ни сам выстраивать доводы в стройную систему, ни выслушивать доводы других. "Я создан для того, чтобы произносить резкие монологи". Как-то раз, вычитывая гранки одного из своих произведений, он отметил для себя, что мысли там выражены неотчетливо. "Ясность мысли, увы, не мой случай. Я всегда был немного путаником". Ну да это уже опять скорее не о концепциях, а об особенностях характера.
Расплывчатость и шаткость терминологии, пренебрежительное отношение к системному философскому строительству при наличности иногда искусных диалектических построений отдельных доказательств, неумышленное, но упорное стремление воздействовать на эстетическую внушаемость читателя, подмена решающего аргумента ярким образом, сравнением или ложной аналогией – вот обычные дефекты скептика-мистика. Излагая систему, следуйте системе.
Так надо писать, чтобы человек, каков бы он ни был, вставал со страниц рассказа о нем с тою силой физической ощутимости его бытия, с тою убедительностью его полуфантастической реальности, с какою вижу и ощущаю его я. Вот в чем дело для меня, вот в чем тайна дела…
Еще он меня повоспитывал на тему того как я поверхностно его понимаю, как его внутренний мир непознаваем и сам он неуловим. – Я хочу подарить вам свою маленькую книжку – вот. Чтобы понять меня, нужно ее прочитать.
Мы видели, что искусство и философия одинаково демонстрируют ретроактивное воздействие предела: художник сразу схватывает и изображает необычную оригинальность обыденности, не дожидаясь, как другие люди, пока настоящее станет прошлым, чтобы лишь ретроспективно оценить его безвозвратное очарование; философия, в свою очередь, заставляет почувствовать странность жизни, не дожидаясь смерти, которая во всех аспектах раскроет эту странность, но потом, когда уже будет слишком поздно. Именно об этом, может быть, хотел сказать Сенека, когда предлагал нам считать каждый час нашей жизни как бы последним.
…Работает в манере, которая трудна для обсуждения. Не существует очевидных причин утверждать, что одно сочетание слов способно быть лучше другого; что оно может выступить ярким и убедительным доказательством того, что человеческая жизнь полна не только жесточайшего внутреннего трагизма, но и радости надежды как единственного нашего реального достояния. К сожалению ли, к счастью, этот вопрос не решается на логическом уровне и всегда остается в интуитивной области вкуса. Его проза – это игра именно на языковом поле. Правила её таковы, что при случае автор может чувствовать себя свободным от необходимости точно отображать действительность. Его аргументы, предъявляемые в споре со стихией обыденности, лежат в области недоказуемого.
Изъян этой схемы заключается в заведомом отсутствии динамики. Она имеет два измерения – длину и ширину, но не имеет третьего – глубины. Да-нетная философия. Критику (крытику) будто и в голову не приходит, что один и тот же образ может обладать различной семантикой, что предметом анализа (как и предметом творчества) может быть именно динамика образов внутри поэмы, соотношение меняющихся смыслов, а не поиск некоего монументального вывода. Да и кто вообще, чёрт побери, сказал, что текст должен обладать одним-единственным, раз и навсегда заданным смыслом? Средневековые интерпретаторы были не правы, воспринимая мир как однозначный текст; современные интерпретаторы не правы, подходя к тексту как бесконечному миру.
Кстати говоря, зачастую намеренно придаваемый произведениям последнего характер «коллажа» (или даже сознательного, демонстративного плагиата) связаны вовсе не с произволом и капризной прихотью авторов, а как раз с интуитивно ощущаемой ими огромной информационной емкостью объектов, с которыми все чаще и чаще имеет дело современный человек и которые ведь, например, уже на уровне квантовых микрочастиц также могут «вести» себя одновременно и как волны, и как корпускулы. (Корпускула отличается от волны тем, что отбрасывает резкую тень.) Пространство – это остановившееся время. Но где же начало однонаправленного времени, если это вместилище всего? Два наблюдателя, живущих друг относительно друга, на краткое время, а не в долготу дней. Время перестает дёргаться. Благодаря памяти гибель оборачивается гибельностью.
Постмодернизм в русской литературе успел утратить эффект новизны, но для многих он по-прежнему остается достаточно странным незнакомцем. Язык его непонятен, эстетические вкусы раздражают… В постмодернизме действительно немало необычного, шокирующего, даже "шизоидного" – и он же эрудит, полиглот, отчасти философ и культуролог. Особые приметы: лишен традиционного "я" – его "я" множественно, безлично, неопределенно, нестабильно, выявляет себя посредством комбинирования цитации; обожает состояние творящего хаоса, опьяняется процессом чистого становления; закодирован, даже дважды; соединяет в себе несоединимое, элитарен и эгалитарен одновременно; тянется к маргинальному, любит бродить "по краям"; стирает грань между самостоятельными сферами духовной культуры, деиерхизирует иерархии, размягчает оппозиции; дистанцируется от всего линейного, однозначного; всегда находит возможность ускользнуть от любой формы тотальности; релятивист; всем видам производства предпочитает производство желания, удовольствие, игру; никому не навязывается, скорее способен увлечь, соблазнить. Характер: независимый, скептический, иронический, втайне сентиментальный, толерантный; при всем том основательно закомплексован, стремится избавиться от комплексов. Любимые занятия: путешествия (в пространстве культуры), игра (с культурными знаками, кодами и т.д.), конструирование/переконструирование (интеллектуальная комбинаторика), моделирование (возможных миров). Убеждён, что никакая художественная позиция в конечном счете не может занять господствующего положения в сопоставлении с другой позицией; сами правила создаются вместе с произведением, в результате чего каждое произведение становится событием.
Постмодернизм – это метод, не обещающий достижения цели; это вопрос, ответ на который был бы смертелен; это праздник Апокалипсиса, который всегда с тобой; это способ остаться живым, когда Истина невыносима. Постмодернизм – это поиск спасения в ситуации, когда уже не осталось ни веры, ни надежды, когда отнята благодать. Постмодернизм – это спонтанное самопожертвование философии; это распятие современной культуры и ее сошествие в ад. Это сверх-апофатика, когда даже не произносится слово "Бог". А симулякры – это призраки, духи, бесы, с которыми ведется невидимая брань. Их нужно распознать и разоблачить их претензии на подлинность, чтобы не принять небытие за бытие. Постмодернизм более внимателен к нюансу, который может оказаться великим; к частностям, в которых скрывается чудо; к отражениям, в которых есть частица Фаворского Света; к мельчайшим движениям души, которые определяют последний выбор. Постмодернизм – это вслушивание в бессмысленное бормотание пустоты; это молчаливый вопль несчастного сознания; это плач и скрежет зубовный; это вопрошание о смысле абсурда; это зов в пустоту, в которой никого нет; это молчание в непрекращающейся беседе с ничто. Когда невозможно говорить, остаются два пути: быть исихастом или постмодернистом. Простой на первый взгляд, исихазм также непонятен, загадочен и непостижим, как и постмодернизм. Исихазм зовет туда, где невозможно находиться; передает опыт, который невозможно взять.
Ложь, изреченная постмодернизмом, есть мысль. Именно постмодернист может полушутя проговорить то, на что не решаются "серьезные" философы. Он способен случайно проболтать Великий Секрет. Небо невозможно взять штурмом, как это пыталась сделать классическая философия; многовековая осада крепости Логоса оказалась бесполезной. Теперь ясно, что Истину невозможно купить; заключить договор можно только с преисподней. Никакие моральные заслуги не являются гарантией спасения. Знание только подводит человека к последней черте, разум в бессилии останавливается перед Тайной.
Постмодернизм – это вызывающий жест в сторону Неба; это отказ от гарантий с верою в любовь; это дерзость, доходящая до смирения; это добро, притворяющееся злом; это агнец в волчьей шкуре; это громкой смех, скрывающий рыдания; это цинизм, маскирующий скромность; это оскорбление святынь с тайным желанием, что кто-нибудь их защитит; это провокация, попытка выманить божество из его укрытия; это предательство Бога с верой, что не найдется палачей; это преступление в надежде на наказание и на то, что грозный Судия явит себя.
Постмодернист по-детски наивно играет с Небом; по-женски кокетливо заигрывает с Богом. Истина открывается только в непостижимом. Чудо случается только неожиданно. Событие свершается только если сделать нечто невозможное. Поэтому постмодернист как влюбленный – забывает себя; как пьяница – с горя упивается до беспамятства; как нищий – радуется медному грошу; как скряга – собирает всякий сор; как транжира – проматывает наследство за одну ночь; как проститутка в ожидании настоящей любви – готов пойти за любым, кто позовет; как мошенник – у которого есть только один шанс обмануть; как вор – хочет украсть бесценное сокровище; как преступник – дерзает совершить непоправимое; как самоубийца – режет себя бритвой; как безумный – бросается в пропасть.
Постмодернизм – это философия, презирающая всякую философию; это безудержность интерпретаций, в надежде исчерпать их до конца.
Постмодернизм – это бестолковая суета в ожидании Гостя, в предчувствии Встречи. Это попытка устроить скандал в доме, где нет никого в живых. Это карнавальные похороны человека ветхого, это мучительные схватки перед родами человека нового. Это шутовская свадьба в преддверии великой Свадьбы. А Жених уже при дверях. Всего лишь несколько тысяч миль, да несколько веков отделяют нас от его сватов.
Постмодернизм неуловим, потому что он демонстративно нагляден, скользит по поверхности, ослепляет фейерверком смыслов, обманывает бесконечными отражениями и миражами. Постмодернизм как сновидение намекает, напоминает о том, в чем мы не признаемся себе; как галлюцинация врывается в сознание и взрывает его изнутри.
Р. Барт, как известно, считавший себя левым, выступал против власти как таковой – не политической, а той, что «гнездится в наитончайших механизмах социального обмена», и чьим обязательным выражением является язык. «Язык – это средство классификации, а классификация есть способ подавления». Язык, пишет Барт, это фашист, ибо он приказывает говорить так, а не иначе. Выход? «Плутовать с языком, дурачить язык». Это и есть литература.
Не революция разрушает культуру, а отсутствие революции. Выбирать надо между защитой старого общества, несовместимого с культурной традицией, и защитой культурной традиции, несовместимой со старым обществом. Иначе – если не красить белый столб, он станет черным.
Обратимся к классике, к «Похвале Елене» Горгия. Слово, будучи звуком, наделено даром давать существование тому, чего нет. Звук «самое незаметное из тел» – это и самое демиургическое начало в дискурсе, то, что воистину обладает эффектом, действенностью, умением создавать вымысел, фикцию, его функция – освобождать от настоящего, давая вместо себя существование объекту желания. Горгиева «Похвала» помогает понять, что logos не есть нечто, обязанное означать physis, и что слова не должны выражать в первую очередь внутренний мир высказывающего субъекта, софистика – не род психологии, секрет этого снадобья связан с удовольствием от речи, с удовольствием говорить. С точки зрения современной риторики софистика эксплуатирует имманентно присущее слову свойство: его коммуникативную природу. Чем подробнее мы рассматриваем слово, тем детальнее оно нам открывается – этот опыт давно известен профессиональным лингвистам, однако оставался чуждым интересам официальных «пользователей» политического языка. Иначе остается непонятно, как они могут надеяться и, соответственно, в свое время могли надеяться, что слова сами будут подсказывать свои значения, словно слово само заботится по-разному передать свое значение в зависимости от принадлежности к партии и, соответственно, идеологии «пользователя» политического языка. Это отнюдь не лингвистическая неожиданность.
Многим кажется, что главное в постмодерне – отход от стандарта жесткой рациональности, что нужно только как следует вымешать коктейль и сдобрить его солидной дозой экзотики. Стоит, мол, не мудрствуя лукаво, скрестить либидо и экономику, цифровой метод и кинизм, подбавить толику Водолея и Апокалипсиса, как постмодерный хит готов. Но эта мешанина из всякой всячины порождает только безразличие, а этот псевдо-постмодерн не имеет с постмодерном ничего общего.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































