Текст книги "Анамнез декадентствующего пессимиста"
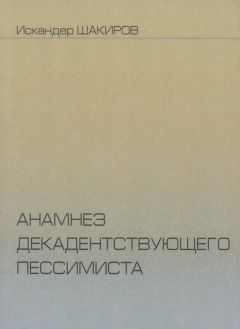
Автор книги: Искандер Шакиров
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Его уже не занимала тяжкая сумятица жизни. Прохожие фигурки, идущие по своим пустяковым делам, суетливо озабоченные своей общей комедией, тем, как бы схватить последнюю порцию сведений… Люди, которые много говорят о пустяковых делах, в глубине души чем-то недовольны. Но чтобы казаться честолюбивыми и скрыть свое недовольство, они повторяют одно и то же снова и снова.
Но есть такое слово "надо", как в сказке: "Пойди туда, не знаю – куда, принеси то, не знаю – что". Пойдёшь налево – придёшь направо. Критинские газеты, весь этот зловещий идиотизм, вынь да положь. Таскать вам не перетаскать! Сделай то и сделай это, постели постель… Ложись в постель, как циркуль в готовальню. Зряшная, ни к чему не приводящая, грошовая суетня. Ну что, торопыга, куда-то теперь торопиться будешь? Горошины на очаге скачут, покоя не знают, прыг да шмыг. Ах ты неотвязный, чего суетишься? Да ведь я того-с… оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья или суетного чувства. Суета сует и ещё трижды суета. Пусть ни одного мелкого чувства не останется в сердце, ни грамма пыли. Когда зерно покрывается плесенью, не перебирай зёрен, поменяй амбар. Воистину суета человеческая, житие же – сень и соние. Ибо всуе мятётся всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем во гроб вселимся, тогда иде же вкупе царие и нищии… Что было, то и есть – доселе и потом… Запомнится лишь то, что если жизнь – болезнь, то смерть – ее симптом. А остальное – месть. Вот смысл того, что есть. Не укоряй несчастных, когда, копошась во прахе, они мечтают о радости. Их следует прощать даже тогда, когда они обращаются к злу. С тем же успехом можно наблюдать, как омары в аквариуме ползают друг по другу (для чего достаточно зайти в рыбный ресторан). Хотя лучше, если именно вздор вас приводит в движение – ибо тогда и разочарование меньше. Минимум возни. Существуют места, где ничто не меняется. Паршивый мир, куда ни глянь. Куда поскачем, конь крылатый? Везде дебил иль соглядатай или талантливая дрянь.
Братец ты мой, сколько людей на этой планете? И не хочется встречаться ни с кем взглядом. Лица у людей неподдельно злы. Но неужели, Боже, одни лишь дураки дают приплод? Неужто вздох (когда целуешь в ушко) чужой жены, – он стоит чьей-то жизни? Всё же слишком часто неоправданно злы. И таких большинство, если в этом есть утешение. Удивительные люди знак восклицательный знак вопросительный. Люди грядут, которые больше не будут бояться себя, ибо не страшен тот, кто сам себе не страшен. Кто не боится людей, того и люди не боятся. Я думаю, первоисточник зла – в невыносимости человека для самого себя. Если я невыносим себе, я так или иначе разрушу и всё вокруг. А между тем, согласно естественному ходу вещей… И даже улыбка – это первобытный оскал, защитная реакция, устрашающая и обнажающая клыки.
Что это за мир, где не только дружба перечеркивает вражду, но и вражда перечеркивает дружбу, а могила и урна перечеркивают всё. И больные желудки, и исполненные подозрения сердца, и жесткие улицы, и столкновение идей, все человечество пылает ненавистью и пепелицей. Хватит времени, чтобы умереть в невежестве, но раз уж мы живем, то что нам праздновать, что нам говорить? Что делать? И мы все лишь деремся до смерти – Зачем? На самом деле, зачем я сражаюсь сам с собой?
Зачем еще нам жить, если не обсуждать (по меньшей мере) кошмар и ужас всей этой жизни. Боже, как мы стареем, и некоторые из нас сходят с ума, и все злобно меняется – болит именно эта злобная перемена, ведь как только что-нибудь становится четким и завершенным, оно тотчас разваливается и сгорает.
«Выбор преступниками места кражи определяется прежде всего доступностью предметов преступного посягательства, а также возможностью быстро и незаметно похитить их. Определённую роль здесь играет беспечность самих потерпевших (оставление ключа под ковриком около входной двери, приглашение в дом случайных знакомых, оставление вещей без присмотра и т.д.)».
Глава 10. Женский элемент
…Как раскладывал бы ее поперек кровати ночью всю мою и старательную и искал бы ее розу, копи ее бедер, ту изумрудно-темную и героическую вещь, которую хотел. Вспоминаю ее шелковистые бедра в узких джинсах и как она складывала одну ногу, подсовывая под себя ладошки, и вздыхала, когда мы вместе смотрели телевидение…
Я покажу забытой, что не забыл. Да кто там топчется, черт возьми, кто этот слюнявчик, бубнящий чушь в её жёлтые, спутанные пряди, когда она качается в моих руках? "Какие танцы, Заратустра, – бормочет она. Уходи, не мешай нам…" Уходи, танцор, и вы тоже уходите, – вы, жрущие горстями снотворное и пускающие в тёплые ванны свою рыбью кровь, – как вы вообще смеете корчить гримасы, даже если жизнь испражнилась вам в морду? Радуйтесь! – она пометила вас как свою территорию, она будет защищать вас! И все остальные, – от рыбака до фискала, – пошли вон! Ей не хватает воздуха, а мне доверия к вашим шаловливым ручонкам: вы обязательно растащите моё тонкое листовое время, эмали чувств, тиски обстоятельств, молоточек сердца, начеканите целую кипу ереси – пьяный блудный сын променял папу на грешницу, – и всё это останется невостребованным, как жёлтые перстни рыночного армянина… – Я бы выклянчил бы себе мраморное сердце, – но все это могло бы быть лучше, чем может быть, одинокие нецелованные губы мрачно кривятся в склепе. Я сделаю это, я вылижу последний уголок жизни, куда она вся и забилась. Все вон! В моём маленьком мерцающем кадре места лишь на двоих, и мне не нужны апостолы, а тем более зрители. Сейчас, пока я не протрезвел, мне хватит слёз, чтобы омыть её грязные ноги, и жара губ, чтобы осушить их, – а потом я положу к этим ногам все заработанные войной деньги, все усыпанные бриллиантами ордена, и, попросив – нет, не отпущения грехов, – а всего лишь разрешения остаться до утра, улягусь у её ног.
Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда сопоставляю с ним странные обстоятельства моей жизни. Мы сделаны из вещества того же, что наши сны – и сном окружена вся наша маленькая жизнь…
Давно прошли те сложнейшие сплетения самых разнообразных и навеки переставших существовать причин, – потому что ничья память не сохранила их, – которые зимой того года заставили меня очутиться на бронепоезде и ехать ночами на юг; но это путешествие все еще продолжается во мне, и, наверное, до самой смерти временами я вновь буду чувствовать себя лежащим на верхней койке моего купе и вновь перед освещенными окнами, разом пересекающими и пространство, и время, замелькают повешенные, уносящиеся под белыми парусами в небытие, опять закружится снег и пойдет скользить, подпрыгивая, эта тень исчезнувшего поезда, пролетающего сквозь долгие годы моей жизни. И, может быть, то, что я всегда недолго жалел о людях и странах, которые покидал, – может быть, это чувство лишь кратковременного сожаления было таким призрачным потому, что все, что я видел и любил, – солдаты, офицеры, женщины, снег и война, – все это уже никогда не оставит меня – до тех пор, пока не наступит время моего последнего, смертельного путешествия, медленного падения в черную глубину, в миллион раз более длительного, чем мое земное существование, такого долгого, что, пока я буду падать, я буду забывать это все, что видел, и помнил, и чувствовал, и любил; и, когда я забуду все, что я любил, тогда я умру.
Я иду. А куда я иду? Не знаю. Я даже не думаю об этом. Какой-то обрывок сознания, неизвестно в каком темном закоулке моих извилин должен был это знать, потому что я прихожу в себя перед домом Элоди. Я сам удивлен. Почему Элоди? О, да потому, что именно она причина всего этого, потому что это ее вина, потому что я хочу ей сказать, что дело сделано, жертва принесена, потому что я хочу излить на нее все мое бешенство, потому что я хочу к ней прижаться, потому что я хочу отхлестать ее по щекам, потому что я хочу выплакаться между ее грудями, потому что я хочу, чтобы она восхищалась мной и утешала меня, потому что я хочу убедиться, что не сделал глупость века, потому что хочу заняться с ней любовью, потому что хочу доказать себе, что оно того стоило, потому что более всего хочу, чтобы женщина убаюкала меня, сказала мне «Ну… ну, успокойся…», и дала мне грудь, и раскрыла мне бедра и лоно, и взяла меня за руку и ввела меня в себя, и слушала бы, как я мешаю любовные рыдания и любовный хрип, шепча мне те глупые слова, какие шепчут страдающему ребенку. Ну и вот. Именно этот инстинкт толкал меня, заставил меня прибежать сюда. К женщине, единственному убежищу, к гигантскому влагалищу, куда можно погрузиться целиком и свернуться зародышем в самой его глубине, вдали от мира и беды.
Настоятельница сердца, доносящая до меня бесценную амбру, аромат моего ума, свидетельница предвиденных и возлюбленных мною движений тела, слагающихся в медоточивый рассказ о длительности тех испытаний, которым оно себя подвергает в неслиянности, исследовательница того, что предстоит мне видеть и слышать, заботливая и корыстная, красноречивая и ясновидящая, источник раздоров, взаимных обвинений, слабоволия, беззаботности, сильных прикосновений, приоткрытости, рта, крупного носа, толковательница сновидений, вручаемых из рук в руки.
Время от времени я смотрю на Женевьеву. Часто. Мне очень нравится смотреть на нее. По мере старания она высовывает язык. А меня этот высунутый кончик языка, влажный и розовый, наталкивает на разные мысли. Я задаю себе вопрос, что я буду с ней делать сегодня вечером. Она позволяет мне делать все, что я хочу. Что бы я ни изобрел, она довольна. О, это не так уж много. Я не порочен и не любитель все осложнять. Мне нравится зарываться лицом между ее большими грудями или между ее полными бедрами, или между ее большими ягодицами, между всем, что у нее есть большого и полного. Я всюду шарю языком, я пролезаю в ее влагалище как можно дальше, ее вульва у меня на лице как эскалоп, но эскалоп живой, теплый и влажный, и пахучий, и любящий, о да, любящий, такой любящий! Я проникаю в нее, где мне угодно, тут или там, это всегда приятно, всегда необыкновенно. Во всех местах – женщина. Полными горстями, всласть, до смерти. Она может получить свой оргазм двадцать раз, в то время как я – только один, тихонько вскрикивая, громко вздыхая, с глазами, переполненными благодарностью и любовью. А после она обнимает меня, покрывает мне лицо мелкими поцелуями, приговаривая: «Мой дорогой, мой миленький…», долго, и потом мы так и засыпаем, и так просыпаемся, а иногда среди ночи мне вдруг захочется зарыться ей куда-нибудь, тогда я раздвигаю ее полные бедра, например, и я в свое удовольствие разглядываю ее плотно сомкнутое дородное лоно, я осторожно раздвигаю ее спутанные волоски – у нее здесь обильно растут волосы, масса густой растительности вдоль всей щели – я приглаживаю их тыльной стороной ладони, эти буйные кудри и освобождаю во всей красе большие губы, такие же смуглые, такие же нежные, как кожа моих яичек. Наконец появляются малые губы, розовые и перламутровые, я раздвигаю их тоже и наслаждаюсь созерцанием всего, что есть внутри, даже наши собственные выделения, оставшиеся с прошлого раза, смешавшиеся, застывшие и образующие нити паутины, а запах, мамочка, запах разврата и логовища, запах любви… Это и есть наша жизнь.
Одна моя знакомая как-то призналась, что получила наглядное представление об устройстве женского тела лишь внимательно разглядывая свою новорожденную дочку. Я поразился (ведь замужняя женщина!) – и только тогда почувствовал всю бездну, отделяющую нас от женщин. Оно – снаружи, а у женщин – внутри: такая тайна, что они и сами-то ясного доступа к ней не имеют. Себя не знают, а мы себя знаем
. Не потому ли женщина так нуждается в зеркале, что, в отличие от мужчины, лишена его в самой себе. И зеркальце у нее всегда под рукой, как у мужчины – его природный двойник. Ему-то это хрупкое стеклышко в сумочке ни к чему, потому что он свое продолжение-отражение при себе живым носит и всегда может нащупать и опознать себя. Один знакомый вспоминает, как лет в пять, когда мать засыпала, он с фонариком залезал к ней под одеяло и пытался хоть что-то увидеть… Да где уж, если из мрака выступает только более темный мрак.
Светлеет. Шорохи, скрип, задушенные голоса, – все потихоньку уходят, унося смех, как эпилог ночного страха: такие серьёзные люди, а каким кубарем катились! Отстань, женщина, чего ты лепечешь? Разве ты не видишь, – мы долетели; разве ты не чувствуешь, – он уже расцвёл, мой цветок. Немигающая рептилия, магическая пентаграмма, сложенная из лоскутов змеиной кожи, – другу на память от повелителя мух. Все аристократы флоры – от розы до крапивы – все боятся и презирают его. Он тошнотворно красив – камуфляжная звезда, пахнущая тухлой кровью, – и чем дольше я знаю его, тем острее желание склониться к нему и вдохнуть. Мясные мухи, грифы, красноглазые гиены, вам нечем здесь поживиться, здесь человеческое, слишком человеческое – расступитесь и дайте человеку приблизиться. Мне нужен этот запах, такой противный для многих, – я узнаю и обожаю его, – запах возвращения. Так пахнет встающее над горами солнце… Люди, вещи, страны в итоге сводятся к запаху.
И она бросает ему такую вялую улыбку, которая стоит больше, чем все ее нагое тело, по-настоящему философскую улыбку, ленивую и амурную и готовую ко всему, даже к дождливым дням или шляпкам на набережной, женщина, которой больше нечего делать, кроме как зайти навестить своего старого возлюбленного и поддеть его расспросами о жизни. …Могут статься и по случаю удержать мне к тому же премного любви, и я всегда могу оставить их и странствовать дальше – насмешки – насмешки любви женщины были б лучше, я полагаю…
Глава 11. Природа человека
Пункт, касающийся Вашей глупости. Тут говорить можно и нужно долго, ибо глупость Ваша безгранична и необъятна, как Вселенная. Путешествие в страну непуганых идиотов. Самое время пугнуть.
Многие люди подобны колбасам: чем их нашпигуют, то они и есть. Суждения более опытного человека будут казаться окружающим совсем не беспочвенными. Разум такого человека можно уподобить дереву со многими корнями. И в то же время мы часто встречаем людей умственные способности которых напоминают воткнутую в землю палку.
Его не любили, и он не любил. Они просто ворчали, безадресно жаловались. Обратить внимание на их жалобы и на их мелочную возню и заклеймить их обидными выражениями. Изжить, тем самым устранить из жизни, зверька, умеющего кусаться. Его не травили. Ему причиняли зло не намеренно, а просто потому, что какие-то люди преследовали свои интересы. Просто пытались во всём добиваться лучшего: чтоб всегда на столе была еда – и чем бы еда эта ни оказывалась, поделить её на ломтики. В них нет прямого зла – в них только мелочность, как в любом из нас. Разнообразие их целей и задач. Мир весь вибрирует от пересекающихся скрытых интересов. Если вы поможете другу в беде, он наверняка вспомнит о вас, когда снова окажется в беде. Невозможно жить с людьми, зная их задние мысли. Ему то и дело давали понять, что он даром ест хлеб. Больше нечего людям делать, как только тебе, мудаку, вредить. А если вредят, значит, так тебе, мудаку, и надо. Не касайся того, что тебя не касается. Дай себе право вовремя установить: неудивительны те, кто бормочет что-то своё постоянно. Становишься на сторону преследователя чтобы убедиться, что никакого преследователя тут нет. Битых стёклышек горсть, – выдавала гримаску за гримаской… Подними с земли прутик и начерти круг на песке. Черти не мелом, а любовью, того, что будет, чертежи. Нет причин быть обиженным. Всё это один круг. Жизнь всегда стремится исполнить наши желания, какими бы странными они ни были. Ни одно желание не даётся тебе отдельно от силы, позволяющей его осуществить. Играй, пока идет игра. Игpы – это очень сеpьёзно. Этим не обязательно подразумевается, что играют для того, чтобы выиграть. Можно сделать ход из удовольствия его изобретения. Конец игры – это начало игры. Не к добру людям исполнение их желаний. Не во всех играх можно сохраниться. Свежее бельё пахнет Антарктидой.
Именно бесконечность представляется тем <смыслом>, который так ищет человек, ибо какой <смысл> в бесконечном? Его непостижимость? Но тогда высший смысл в непонимании, и восхищение – наиболее приятная форма непонимания. Тогда и наши бессмысленные тавтологии вдруг наполняются смыслом, поскольку для конечного единственная возможность создать бесконечность – замкнуть круг бытия. «Конечность», как верно писал Нанси, в принципе не является отрицанием «бесконечности»: «Конечность – не столько в том, что мы небесконечны – телесны, смертны и т.д. – а в том, что мы бесконечно конечны». Хотя, понятно, телесность, зримость, смертность и бытие-с-другими – и есть «бесконечно конечное».
И ковыряла палкой песок. Всегда неожиданно. Начинается и приводит к сознанью, что действие малозначительно, но всегда что-то значит. Безадресность глаз. Борьба без свидетелей. Весьма тихо. Свиньи спят. Но слепые всегда насторожены. Лестницы, дни, прикосновенья, года. Я думаю, если стараюсь. Грущу. Кто он, кому это нужно? Пускай выходит из темноты. А на лесенке – тьма, закадычная тьма. Я тебя подожду. Не взберёшься сама.
Петрарка говорит: «Там, где дни пасмурны и кратки, родится племя, которому не больно умирать». Человек здоровый, энергичный, довольный собой, человек с большой и ясно сознанной им жизнеспособностью; жаден жить или, лучше сказать, не столько желание жизни, сколько желание "полакомиться", сопряжённое с совершенным отсутствием идеи смерти. Да, да, они сильны, у них такие серьёзные лица. Они не чувствительны, когда дело касается других людей, и редко вникают в их положение, если не хотят раскусить их для своих целей. Они не уважают права, если не уважают того, кто ими обладает, а это случается редко.
Не физическое насилие, не мордобой, а отсутствие своей норы – отсутствие места, куда уйти от их любви. Жизнь вне их – вот где неожиданно увиделась моя проблема. Вне этих тупых, глуповатых, травмированных и бедных людишек, любовь которых я вбирал и потреблял столь же естественно, незаметно, как вбирают и потребляют бесцветный кислород, дыша воздухом. Я каждодневно жил этими людьми. Всюду жестокость, их целые семьи, вдалбливают с детства… И этот город для них построен. Быть ли мне тем, кто убьёт, или тем, кого убьют? То ли: обо мне кто-то скажет, что я оттуда. То ли: обо мне будут там говорить? Какую бы отвратительную гадость не вытворял, найдётся человек, которому ты понравишься. Это не любовь, не вторая половинка. Просто вы уроды…
Ничтожества опасны, поскольку хитpы и бесцеpемонны. Их глаза подчеркнуто обыкновенны. Их души жестоки, как грабли, их жизнь жестока, как выстрел. Счёт денег их мысли убыстрил. Чтоб слушать напев торгашей, приделана пара ушей. А сердца их подобны унылым болотным жабам. Забей, это же животные, пищеварительный тип…
В мире есть люди, которым на тебя не наплевать… Это люди, которые тебя ненавидят… Если б знать, в чём их секрет и где они берут столько влаги в их сухой, как промокашка, жизни. Конечно, завидую. Успех – единственный непростительный грех по отношению к своему близкому. Ах, как они живут, дрожа в предвкушении наступающего дня или ночи, как они прекрасно-подозрительны, как умеют различать интонации чуть ядовитее и взгляды чуть косее; могут расслышать в шуме листвы голоса стоящих под деревом, расшифровать не в свою пользу и, обидевшись, убежать в слезах или наорать, целя растопыренными пальцами в удивлённые глаза. Все до отказа набиты тайными расчетами. Изысканный словарь их нацеленного зла. Терять нечего! Можно не принимать в расчёт их пару-тройку интеллектуалов, импрессионистов, путаников с направлениями иногда мычащих что-то влево, иногда вправо, в глубине своей блядской душонки, все яростные консерваторы, цедящие по капле субтильные тонкости. Мстить и капризничать. Способность быстро угадывать слабые стороны людей. Чтобы они не растрачивали ненависть по мелочам.
Что порадует людей, затерявшихся в мелькании недель, в неброских годах слепых? Что-нибудь возьми, что движет невесёлыми людьми. Их исподтишковое зло, их гнусная и по-своему талантливая ожесточённость вогнали старого служаку в транс. Кто в их присутствии может оставаться безразличным? Контакт с ними никогда не бывает бесполезным. В разнообразном психологическом пейзаже каждый из них – особый случай. И что скрывают люди, кроме гадости? Тактика учит, что лучше не показывать достигнутое преимущество. Мысль – самая незаметная форма агрессивности. Даже когда приходится на время смириться, вовсе не обязательно во всеуслышание признавать своё поражение, ведь слишком быстрое отступление подозрительно.
Она начинает слегка покачиваться, словно ей обидно. Очевидно, что в магазине даже крупный специалист в области гражданского права редко задумывается над тем, какую именно статью Гражданского Кодекса он реализует во взаимоотношении с продавцом (если, конечно, эти отношения не приобретают характер конфликта). Всякое опредмечивание обнаруживает себя только как отчуждение, враждебность и чуждость. Хотя свобода другого и не может быть отчуждена, конфликт является основой отношений людей друг с другом.
Мы можем, сколько угодно, оборачиваться во все стороны, как мы делаем это в подозрительных местах. А то, что у "власти козлиной козлят миллионы", я знаю давно, с ранней юности. Столь же давно я знаю горькую и беспощадную чеховскую цитату о том, что "дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума". Так было во все времена и во всех, кстати, странах и континентах.
Когда со мной случается что-то слишком хорошее, мне кажется, что меня наебывают. Когда я встречаю на улице подозрительный взгляд, я, против своей воли, отвечаю тем же. Если при мне оскорбляют человека, которому я должен быть признателен, мне вдруг становится так хорошо… В такие минуты я не замечаю подозрительных взглядов и смиренно потупляю голову… А стоит мне отойти от оскорбителя, я поворачиваюсь и смотрю на него презрительно. Он отвечает мне тем же.
Дети не жестоки, – они первобытны. Жестокость принадлежит к древнейшему праздничному настроению человечества. Жестокость, столь отчаянно бессмысленная, как поэзия. Потому что люди там, в своей бескрайней жизни, блуждают беспечно, что вчера напортили, сегодня исправляют. Но думал я не о них – о душистом мёде, который они все вместе собрали сегодня. Мы не способны, в отличие от пчелы, добывать мед из горьких цветов жизни. Поэтому для многих из нас труд представляется каторгой, становится проклятием.
Отличный пример для нас пчела. Каждую минуту, пока продолжается сбор меда, она находит сладость в сорняках и даже в ядовитых цветах, то есть там, где нам никогда и в голову бы не пришло искать что-то приятное. Кодуэлл, единственный из всех, рискнул вспомнить о первобытности и, как и следовало ожидать, эстетизировал жизнь первобытных людей: будучи коллективистами, они были и поэтами. «Мы называем поэзией ту приподнятую речь первобытных людей, которая оставалась привилегией торжеств, мы видим, что, эволюционируя, она стала прозаической и разветвилась, найдя применение в теологии, истории, философии, драме. (Уважение к личности Кодуэлла, погибшего в Испании в составе интербригады, не должно мешать видеть его ошибки).
У человека закружится голова на той высоте, для которой он не создан. Нельзя говорить об океане лягушке, живущей в колодце. Нельзя говорить о снеге летнему насекомому – существу одного времени года… У маленькой жабы, затаившейся в сугробе, большие глаза и нежное горло. Но её полюбить нельзя. И не потому, что у неё кривые ноги. Просто она видит мир совершенно иначе. Лягушек надо ловить ночью, когда они увлечены своим кваканьем. Лягушку надо есть целиком, содрав шкуру и поджарив предварительно на костре или сварив. Тритонов и саламандр можно ловить под гнилыми бревнами или под камнями в водоемах. В животе становится холодно, как будто жабу проглотил.
Вспоминайте, глядя на людей, о недавнем их рождении, детстве или о близкой кончине – и вы полюбите их: такая слабость! Я не хотел им беды или кары свыше – ни их красивым книгам, ни их семьям, ни им самим лично я не хотел ничего плохого, но я хотел топтать и пинать их имена. (Ваши непородистые тексты. Как чистенький луг, лужайка с цветиками. Как не потоптать.)
Когда б не комары, то мне Париж – до фени! Я обнаружу и дам тебе знать – опа-ля, еще одна – значит, обнаружу и дам тебе знать, а-ау, как оно все. Всё это старьё… с кучей ресниц и сисек!.. Славным труженикам и одиноким прохожим – Ура-а! Ладно, пусть себе копошатся… а я ускользаю!.. ворота… дверь… оп!.. я бегу зигзагами… уже вечер… быстрее!.. быстрее!.. я могу думать лишь у себя дома… на улице я ничего не могу… только у себя дома!.. я скоро вернусь… вернусь… обязательно! да! Изловим провоката! Не дадим уйтить суке! Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника!
Мечта во мне живёт, постепенно отбирая силы… Они беспокоятся, так они чувствуют себя полезными. – Откуда ты знаешь? – Догадаешься, пока живёшь… Голубчик, каждый человек может сказать все что угодно. Каждый человек все знает. А если не знает, то узнает… Но все равно его нет… Я хочу, чтобы вы все послали… – Дорогой, сколько раз вам повторять – вы ошиблись номером. Вы принимаете меня не за того, кто вам нужен… И вообще – кто вы такой? «Все ваши мысли о счастье в незапамятном прошлом или в будущем, – не более чем чушь. Исцелитесь от ностальгии и перестаньте верить в детские сказки про начало и конец времен. Вечность – это всего лишь мертвая длительность, которой интересуются только дебилы. Дайте полную волю мгновению, пусть оно поглотит ваши фантазии».
Пятьдесят девять секунд из каждой минуты – сейчас нет. Мы не должны растрачивать свои дни. Мы должны их отдать в жертву, чтобы они существовали! В начале и в конце – есть только слово. И сейчас оно есть, падла, и мы верим в него и надеемся, неужели оно подведет? Но все же, сука, ты не удержался… Видно, что у тебя было мало счастья в жизни. Еще бы! Счастье должно быть нормальным, а не просто удовольствием от того, что ты умеешь вдыхать воздух. Есть вещи и посерьезнее, – крикнула она с кровати в открытую дверь.
Он говорит, жуя свои тосты – пардон: свои поджаренные тартинки – звук такой отвратительный, как будто мышь грызет стропила. Он делает большой глоток чая с молоком, не торопясь вытирает рот и говорит мне, глядя прямо в глаза, как мужчина мужчине: «Ладно. Раскроем карты».
Я схватила туфли и стала их надевать. Затем куртку. Буркнула, что мне пора идти. Вот тут-то он и принялся хлестать меня своим медленным раскатистым голосом: Ты ведь такая возвышенная! Ждёшь со своими тепличными недоделанными друзьями прозрения в пальмовом аду? Так вот что я тебе скажу. Мне нравится моя работа в этом городе, нравится сидеть в кабинете с утра до ночи, и битвы умов нравятся, и борьба за деньги и престижные вещи, и можешь считать меня полным психом. Мне нравится то, что я делаю по одной причине: я делаю только то, что мне нравится. Он продолжал прицеливаться и палить: Да иди ты к чёрту. Ты со своим взглядом сверху вниз. Все мы декоративные собачонки, только случилось так, что я знаю, кто меня ласкает. Но учти – чем больше людей вроде тебя выходят из игры, тем легче победить людям вроде меня. Потом, ни с того ни с сего, он спросил, знаю ли я, как умру.
Сволочи ходят в костюмах, стервы – в чулках. Все хотят остаться анонимными. Люди перевозят мешки добра; псы у амбаров – злые! И по коридорам ходят такие псы в костюмах, что надо всё время самому рычать, чтобы тебя не съели по ошибке. Эта реальность концентрационных лагерей, это согласованное движение по кругу пытающих и пытаемых, эта утрата человеческого облика предвещают будущие возможности, которые грозят гибелью всему… Конечно, я говорю сейчас о мире больших городов, о мире мужчин и женщин, из которых машина времени выжала все соки до последней капли; я говорю о жертвах современного прогресса, о той груде костей и галстучных запонок, которые художнику так трудно облепить мясом.
Хоть раз в сутки перестаньте воевать со всем миром. Скверно испытывать неприязнь к другим людям, независимо оттого, есть ли у вас для этого серьезные основания или они раздражают вас одним своим видом. И, конечно, нельзя допускать, чтобы такие чувства сохранялись после исчезновения повода. Напряжение нервной системы обойдется вам слишком дорого.
Будьте милосердны, – сказал он простым, тихим, человеческим голосом. Но, боже мой, не безумие ли надеяться на жалость здесь! Иначе нельзя, такое уж время, когда милосердие оборачивается жестокостью, и только в жестокости заключено истинное милосердие. Закон беспощаден, но мудр. Никого нельзя зря бить… бьют для порядку. Никто не хочет быть злым сознательно. Люди, как правило, не злы, если не злить их. Хорош белый свет – одно только не хорошо: мы. Не бывает плохих времён, а бывают только плохие люди. Вот мы, люди, из боязни друг друга строим государства, окружаем себя полицейскими, солдатами, общественным мнением… Сколько это разного народа на земле распоряжается… и всякими страхами друг дружку стращают, а всё… Ненавижу цинизм за его общедоступность. Эхе-хе, господа люди, господа люди… Впервые за столько лет – нелепое желание заплакать. Эти беспричинно навёртывающиеся на глаза слёзы пришли издалека.
А ты говоришь – народ, тут просто кто на ком сел верхом. Да такие бесстыжие. Один тебя обидит, другой обманет, а третий просто посмеётся над тобой. Ибо люди жестоки, насколько им за это платят, халатны, продажны, ленивы и т.д. Противно и противно. Неужели ты думаешь, что возможен какой-либо поступок, о котором бы не судили вкривь и вкось? Хитрые бумаги, хитрящие люди и обманчивые вещи… И на очередь за правдой тратим жизнь. Стоит мне поговорить с человеком полчаса – и я о нем составлю беспринциндентную резимю. Никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно. Презирающих тебя сам встречай презрением. Кому сделано зло – отплатит тем же.
Все началось с того, что мне сперва шепнули, что начальник лагеря, с охоты приехав, отказался отпустить меня, собирается с кем-то консультироваться, звонить куда-то и ждать приказа, а решение выездного суда хочет опротестовать. После вывесили списки тех, кого суд освободил и кто на днях уходит по этапу работать на назначенные стройки. Меня там не было. А потом три этапа ушли почти один за другим, и ясно стало, что меня тормознули прочно, что годами отмерять мне срок, а не днями, как я начал надеяться после суда. Отчаяние и тоска, владевшие мной, были чем-то странно знакомы, и забавно, что усилия вспомнить, откуда памятно мне это острое чувство безнадежности, усилия эти развеивали меня и облегчали. Вспомнить я, однако, не мог. Не было в моей жизни такого острого сочетания несправедливости, поражения, сокрушенных надежд (как они вспыхнули, мерзавки), бессилия придумать что-либо и что-нибудь предпринять. Не было. Потому что после ареста было другое ощущение: схвачен! Как в плену. И все. Словно ожидал заранее. Нет, не было такого прежде.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































