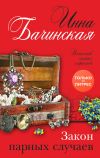Текст книги "Крещение"

Автор книги: Иван Акулов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Погоди, отсмеются скоро… – И посолил свои слова крепким матюком.
На улице, опрокинув устоявшуюся тишину, грубо и часто ударил немецкий автомат. Все бывшие в сарае вопросительно замерли, а капитан Оноприенко переломился в пояснице и нырнул под ряднину; через минуту он появился снова, с бледным, одеревенелым лицом:
– Комиссара… застрелили.
А произошло на улице следующее.
Пленных немцев – их было семеро – привели на площадь перед разбитой церквушкой, и бойцы, еще не остывшие от боя, сбежались посмотреть на живых фашистов. Немцы были без оружия, без ремней, а некоторые и без сапог, но держались с достоинством. Они как-то быстро поняли, что бояться им нечего, их не тронут, и решительно не обращали внимания на бойцов. Только один из них, узколицый, с впалой грудью, на потеху смеющимся русским, выпучивая светлые глаза, жадно курил самокрутку из русской махры и, давясь крепким, едучим дымом, кричал:
– Гут! Карашо! – Потом махал длинными толстопалыми руками и просил: – Бутильку, бутильку – пуф!
Кто-то из бойцов докумекал, что немец просит показать ему бутылку с горючей смесью; принесли черного стекла тяжелую бутылку, аляповато залитую сургучом. Немец перестал улыбаться, острое лицо его сделалось печальным, он уставился на бутылку, о которой, видимо, много слышал, а сегодня увидел ее в страшном действии.
– Сталин-коктейль, Сталин-коктейль, – несколько раз затаенно повторил немец, и на бутылку с живым интересом стали смотреть его товарищи. Самый рослый из них, в хромовой изодранной куртке, лысеющий со лба, с крупными глазами, умными и жестокими, сжимая ободранные кулаки, говорил что-то свое, горячо-злобное.
Боец, что с русским автоматом ППД был приставлен к немцам, объяснил:
– Брат у него погиб в танке у моста. А самого его вон ребята наши опрокинули. Он, будь проклят, со злости чуть всю деревню не прошел. Когда мы его вытащили из танка, он как заводной орал: «Рус, капут!» Кто-то ему по уху подвесил – вот тебе и капут. В Африке, говорит, воевали с братом. Во Франции.
– Откуда ты узнал?
– А вот этот острорылый говорил. Он малость маракует по-нашему. Говорит, я-де поляк. Ребя, дай кто курнуть.
– Комиссар идет.
– А ну разойдись! – освирепел вдруг боец с автоматом ППД. – Разойдись! Кому сказано! – И встал по стойке «смирно» лицом к идущему комиссару.
Бойцы широко расступились и тоже стали глядеть на комиссара, забыв о немцах. Когда Сарайкин прошел по живому коридору и остановился перед пленными, рослый немец в кожаной куртке шагнул навстречу ему и из маленького, почти невидимого в кулаке пистолета выстрелил. Звук выстрела был настолько слабый, что его не все слышали, а те, кто видел все и слышал, приняли это за шутку: просто одуревший от злости немец решил попугать русского комиссара своей зажигалкой. Но комиссар так дернулся назад, что с него слетела фуражка, и начал падать, прижав к груди руки с растопыренными пальцами и сказав громко и внятно:
– Мама.
Бойцы подхватили его, подняли и увидели в надглазье, ближе к переносице, круглое отверстие с выступившей кровинкой.
Тут же кто-то, дико матерясь и растолкав всех, завел по немцам длинную очередь из автомата, и шестеро упали сразу, а танкист в хромовой куртке покачнулся под ударом пуль, привалился крутой спиной к стене церкви и остался стоять, уронив лысеющую голову на грудь.
– Вот так и стой за моего Петьку…
– Правильно, корешок, всех их к нулю.
XIX
Командир пятой роты лейтенант Филипенко, заменивший убитого при последней бомбежке старшего лейтенанта Пайлова, вывел своих бойцов к мосту и построил недалеко от подбитого немецкого танка, от которого разило нефтью, селитрой, железной окалиной и тошнотворным запахом гари.
– Старшина Пушкарев! – позвал Филипенко громким шепотом. – Сделай перекличку.
Старшина, круглый в груди и, как всегда, туго стянутый ремнем, достал из кармана листок бумаги, развернул и, освещая его накалом цигарки, обжигая нос и губы, стал выкликать:
– Говорухин?
– Я.
– Глушков?
– Я.
– Дымков?
– Я.
– Кашин?
– Я.
– Урусов? Где Урусов?
– Я, товарищ старшина.
– Почему сразу не отзываешься?
– Да ремень, товарищ старшина, зачопился…
– Разговорчики! Охватов?
– Я.
– Пушкарев? – И, будто вспомнив, что Пушкарев – это он сам, старшина немного сконфузился.
– Окулов?
– Тут.
– Не «тут», а «я».
– Я, товарищ старшина.
– Чукреев?
– Я.
– Абалкин? Связной при штабе батальона, – сам себе ответил старшина Пушкарев и, далее дочитав список без замечаний, резво повернулся к стоящему сзади лейтенанту: – Товарищ лейтенант, в пятой роте второго батальона 1991-го стрелкового полка по списку числилось 116 человек. За трое суток выбыло ранеными и убитыми 76 человек. 39 налицо. Рядовой Абалкин при штабе батальона.
– Командир полка, – обратился Филипенко к строю, – просил передать вам благодарность за хорошее несение службы.
– Служим Советскому Союзу, – вразнобой и совсем неторжественно ответили бойцы и подавленно умолкли.
– Оружие держать наготове и соблюдать полную тишину. Шагом марш!
Саперный взвод на остатки моста набросал досок, но, непришитые и скользкие от грязи, они вертелись, уходили из-под ног, и солдаты, чтобы не свалиться и не переломать себе ребра о сваи и балки, ползли по переходам на четвереньках. Дежурившие на переправе саперы торопили бойцов, ругались, сталкивали их с последних досок на мокрый и склизкий берег. Столкнули они и лейтенанта Филипенко: разве разберешь в потемках, кто солдат, а кто командир? Все идут за рядовых. Лейтенант скатился в воду, начерпал в сапоги и утопил наган. Ему помогли выбраться, и он, хлюпая сапогами и шлепая намокшими полами шинели по голенищам, побежал наверх догонять роту. А на увале, в тени ракитника, стоял Заварухин и сердито спрашивал:
– Потише нельзя?
«Стало быть, нельзя, – тоже сердито подумал Филипенко, подхватив полы шинели. – Сил у меня нет больше. Стреляй – не могу».
Все перебравшиеся через речку занимали оборону вдоль дороги, в ракитнике и мокрых кюветах, по-солдатски, где довелось, обживали ямки и кустики. Филипенко как во сне увидел своих бойцов, присел возле них на бровку канавы и тут же густо и крепко захрапел. Старшина Пушкарев будто невзначай толкнул его коленом, лейтенант перестал храпеть, повалился на спину, разбросал руки и глубоко вздохнул со стоном и всхлипом. Старшина, высохший до донышка на своей беспокойной должности, вдруг растроганно подумал: «Мужики по годам, по силе – зверье, а как малые дети. Всему есть край, и силам человеческим – тоже. Вот так намотается иной, и голыми руками берут его немцы. А где его вина?» Сквозь плотные, немаловажные мысли Пушкарев услышал вдруг неторопливый говорок, до боли знакомый и родной. Размягченный нежданной жалостью к своим людям, он с радостью стал слушать.
– …Он боле все по сыросекам, пожогам прет дурманом, будто девки в белых платках. Лабазником у нас зовут, или таволгой еще. Скипятишь, бывало, за версту бьет в нос. Ведь после работы – день-деньской зароды мечешь, – к ночи, значит, на круг в деревню бежишь. Порой возвернешься, напримерно, а мужики уже прокос гонят. Справу скинешь – да в ряд. И опять день. Только и пьешь эту холеру. Плачешь, да пьешь, а без нее ты работник разве?
Старшина догадался, что рассказ ведет всегда спокойный и степенный солдат Урусов, и позвал его:
– Урусов?
– Я, товарищ старшина.
– Ко мне! Это у тебя в строю ремень «зачопился»? – Под кустом, откуда вылез Урусов, кто-то весело засмеялся. – А что за смех?
– Разрешите, товарищ старшина! – И в голосе Урусова тоже была улыбка. – У меня не то пулей, не то осколком пересекло поясной ремень, я подпоясался брючным. Он же тонкий, перевился весь, а тут вы мою фамилию выкликаете…
– А смех-то тебе какой?
– Вам-то я отвечаю, товарищ старшина, а тем временем подпоясываюсь, подпоясываюсь и в потемках винтовочный ремень зачопил, притянул к себе. Потом дана команда «Шагом марш», а я винтовку не могу взять на плечо. Взять не могу и понять ничего не могу. Окулов вот и смеется. Теперь и мне смешно.
– Так вот, Урусов, чтоб в строю у тебя ничего не «зачоплялось», пойдешь за ужином для роты.
– Теперь же, товарищ старшина? – с готовностью спросил Урусов.
– А то когда. Собери котелки и – за мной.
Поручив рядовому Дымкову следить неотступно за спящим лейтенантом, старшина повел Урусова через пашню, потом выбитой кукурузой к неглубокому овражку, где под обстрелом своим чередом была сварена солдатская каша. Когда старшина и Урусов подошли к кухне, в нее уже были впряжены лошади, а повар из ведерка заплескивал угли в топке – угли шипели, а из дверки валил пар и летел пепел.
– Ты, Пушкарев, вечно самый последний, – заворчал повар. – Копаешься, а мы тебя жди. На сколько ртов получаешь?
– Сорок один с командиром роты.
– Окстись, – повар знал, что в батальоне большие потери, но от слов Пушкарева оторопел, не поверил, что от пятой роты осталось сорок ртов. – А спиртику на сколько выламывать станешь?
– Спиртику можно два котелка, а можно и три.
– Темнишь ведь ты, старшина. Думаешь, повар – тыловая крыса, что ему ни брякни, тому и поверит.
– Ты меряй, нам недосуг, а кто ты есть, то тебе лучше знать.
Повар полез на подножку, грохнул крышкой котла в сердцах, рассыпая упревшую кашу, начал набивать подставленные Урусовым котелки. Черпак трясся в его руках: повару вдруг сделалось нестерпимо обидно за свое положение. В овражек целый день падали снаряды, в прах разнесло продуктовую повозку и изрешетило трубу кухни, а он, повар, забыв опасность, искал дрова, варил пищу и все время боялся, чтобы от топки не было дыму, а дрова – одно сырье, от них ни жару ни пару, зато дым столбом. И сколько ни бьется повар, у всех одно на уме: при теплом и хлебном месте человек. Да провались это место в тартарары, только ведь без кухни солдат – совсем круглый сирота. Ради этого солдата повар и горит на своей нелегкой должности, а вот чести ему, выходит, никакой, хотя бы и от того же солдата. Потому, может быть, повар и грубоват с людьми, потому, может быть, и друзей у него нет, потому, может быть, и горька ему своими руками сваренная каша.
– Сколько же у тебя, товарищ старшина, по строевой-то записке? – миролюбиво и даже заискивающе спросил повар. – Не каши мне жалко, а все знать охота, неуж это в дым нас.
Но старшина, что называется, закусил удила и не удостоил повара ответом.
Из овражка вылезали с драгоценной ношей: Урусов нес семь котелков, с верхом набитых гречневой кашей, а в руках старшины поскрипывало ведро с кашей и булькалась пятилитровая жестяная банка со спиртом.
Уже наверху, на меже кукурузного поля, их догнал повар и сунул под руку Пушкарева увесистый сверток:
– Сальце это. Держи про запас для ребят.
Старшина ничего не сказал повару, даже поблагодарить забыл и, когда отошли немного, вздохнул:
– Тоже служба у него, черт ее ломай.
– Правильно ваше слово, товарищ старшина. Я, когда сам кашеварю, ничего не жру. Надышишься варевом – и сыт по горло. Чего уж тут!
– А ведь ты, Урусов, вятский? – спросил подобревший старшина.
– Из Липовки я. Коленурского сельсовета. А район Пижанский.
– Земляки, выходит, мы. Я из Слободского.
– Эко-то! Слободский! У меня свояк в Слободском живет. На фанерном работает. Бывал я у вас. Пивцо мне больно поглянулось. Славный городок. Так бы, скажем, и улетел туда, домой-то.
– Ты давно из дому?
– Сразу как войну объявили.
– А я, брат Урусов, кадровую отбарабанил. Четвертый год пошел, как мотаюсь.
– И на побывке не был?
– В том-то и дело.
– Да, дорога закута, где пупок резан, – вздохнул Урусов. – У нас все леса, леса, а земли больно некорыстны. Суглинок. Худород. А здешняя земелька что масло, хоть с хлебом ешь. Нам бы такую. Народ по нашим местам работящий. А еще у нас, выходит, земляк есть. Из одной деревни со мной, тоже липовский. Минаков. У полкового в ординарцах он. Может, убит уж. Мы уговорились, ежели которого кокнут, ему домой сообщить. Да поди узнай, что к чему, в такой свистопляске. Ад кромешный.
– Ох и люто схватились, – сказал старшина, чмокнув губами. – Но батальону нашему больше всего досталось.
– Что ты, что ты, товарищ старшина! На самой толоке оказались. И их наклали. Перед нашим взводом мы семьдесят трупов ихних насчитали. Целую деревню выбили. Это тебе не Европа, гутен так. Знай край, да не падай.
На той стороне реки, по увалу, плясали судорожные огни – батальонные заслоны будоражили опасную темноту, прикрывая отход своих товарищей.
На дороге, к которой совсем близко подошли Пушкарев и Урусов, маячили тени солдат. Командиры строили роты, сердились и вполголоса отдавали приказания. Пятая рота была значительно меньше других, и уж только одно это приводило ее солдат в уныние. Подавленно выглядел и сам лейтенант Филипенко, едва разбуженный своими подчиненными.
Уже в строю старшина Пушкарев поднес каждому в банке из-под консервов по нескольку глотков спирта, а Урусов рассовал по рукам котелки, ели кашу на ходу. С усталости и натощак от спирта все захмелели, и события минувшего дня перед каждым встали как живые. Охватов очень ярко увидел чернявого немца, которого срезал в числе четырех на прогалине: немец с узкими серебряными погончиками лежал на боку, и большая щека его и крупная скула остались розовыми и, тщательно побритые, слегка синели; височки, в проседи, были свежо и косо подбриты, а в нежной пухлой мочке небольшого уха темнел прокол для сережки.
– А мне теперь и умереть не жалко, – пьяненьким и потому бодрым голосом сказал Охватов Дымкову, шагавшему рядом.
– Это почему вдруг?
Охватов уж и не помнил то, что сказал, и ответил не сразу, обдумав свои слова и уловив связь между словами и своими чередом идущими в голове мыслями, оживился:
– Я их больше десятка уложил. Из ихнего же автомата. Думаю, десять голов стоят одной.
– Ты, Охватов, кем работал до армии?
– Да кем бы ни работал. Считаешь, если человек ученый, так голова его дороже десяти. А я не ученый. Я рабочий. Вот так. Слесарь я. На учебу у меня не хватило тити-мити. Зато уж ты ученый. Скажи, не так?
– Не так, Охватов. Учитель я.
– Ученый все равно.
– Ну предположим. А ты вот не ученый, но знать бы тебе, Охватов, следовало, что ты русский и голова твоя дороже всей Германии.
– Что-то дорого ты меня оценил.
– Не я тебя оценил. Время. Русская сила, русский человек всегда изумляли мир своими делами. Ведь не кто-нибудь, а именно российский пролетариат сумел создать первое на свете свое рабоче-крестьянское государство, которое не дает фашистам спокойно жить. Немец, он, сука, с молоком матери всосал, что рожден командовать и повелевать, что он лучший продукт земли, а все остальные дерьмо, рабы, быдло. А тут на тебе, Россия! Но нет, фриц, не твоей арийской спеси тягаться с нашей великорусской гордостью. Ты должен знать, Охватов, что деды оставили нам великий язык, великую Родину от моря до моря. Нам оставили – нам ее и защищать. Это понять надо, Охватов, и гордиться этим во веки веков. Видишь ли, Охватов, в нашей многоликой стране мы, русские, – самая многочисленная нация, и только уж одно это обязывает тебя показывать всем народам пример мужества и любви к Отечеству. А ты вот бежишь… – Охватов, уставший и под хмельком, рассеянно слушал Дымкова, даже сердился на его надоедливость. Но тот наседал: – Ты, Охватов, когда-нибудь задумывался, что ты русский?
– Чего же мне задумываться, когда я на самом деле русский.
– Потому, Охватов, мы и петляем по своей родной земле как зайцы, что ни ты, ни я, ни старшина Пушкарев и все прочие не задумываемся, кто мы есть. Забыли, кто мы есть…
– Я что-то, Дымков, плохо тебя понимаю.
– Гад ты ползучий, тля безродная! – Дымков сжал вдруг железными пальцами запястье Охватова, заскрипел зубами, дохнул в щеку теплой сивухой. – Чтобы все вы, гады, поняли, я бы вас выкосил из пулемета! Всех! Ведь это же позор – убегать со своей родной земли!..
– Отцепись ты. – Охватов еле вырвал свою руку. – Отцепись, а то задену. – И, разминая затекшие руки, успокаиваясь, проговорил: – Хватил лишний глоток – и понес.
Дымков, тяжело дыша, откачнулся от Охватова и пошел стороной.
«Он вообще-то прав, – подумал Охватов. – Удираем как зайцы. Заяц, говорят, не трус, а спасает шкуру. И мы так же: не трусы вроде, а шкуру спасаем… – Николай вспомнил вдруг Клепикова, вспомнил, как тот, прижатый немцами в канаве, остервенился и заорал дурным голосом: “Да вы что, в душу, крест, Богородицу! Да на нашей же земле!..” – Почему же они, старше-то которые, знают, что такое родная земля? Знают! А я не знаю, и Петька не знал… Петька, дружок милый, бросили мы тебя. Бросили». Охватов поглядел на согбенные плечи Дымкова и понял его горе: «Извинюсь потом, пусть остынет».
Направился мелкий холодный дождь, какой обычно исподволь берет насквозь. Шли по мелколесью, малоезженым проселком, тоскливо и сосредоточенно месили жирную грязь, шаркали мокрыми рукавами по мокрым бокам. Иногда, перекладывая винтовку с плеча на плечо, бойцы ударялись прикладами или задевали свои же котелки, и тут следовал ленивый окрик шепотом:
– Отставить!
Николай Охватов шел шаг в шаг за кривоногим Урусовым, видел его темную угрюмую спину и навязчиво, с проклятием думал только о своих трофейных сапогах: они были велики ему, хлябали на ноге, и приходилось их волочить по дороге, чтобы вывернуть из грязи и не потерять.
Шли вразброд по двое, по трое в ряду, оскальзываясь и оступаясь, толкали друг друга, озлобленные усталостью. Перед ротой Филипенко верхом на конях ехали подполковник Заварухин, его ординарец Минаков с карабином за спиной и щеголеватый старший лейтенант Писарев, который то и дело уезжал вперед, возвращался и что-то говорил Заварухину. Иногда останавливались без команды, натыкаясь один на другого, переминались с ноги на ногу, не зная, то ли привал, то ли так, вышла заминка, и эта неопределенность порождала в душе каждого тревожное подозрение: заблудились. Только подполковник Заварухин и окружавшие его командиры знали, что полк успешно оторвался от немцев и шел форсированным маршем своим путем. Когда смолкали чавканье множества ног, шарканье мокрой одежды и неосторожное шлепанье конских копыт по грязи, было слышно, как где-то в хвосте колонны стучат ступицы телег, отставших и растянувшихся по дороге. Все слева и слева накатывали орудийные, грозные раскаты. А на одной из остановок стрельба вдруг загремела впереди и справа: полк, видимо, круто изменил свой путь. И сколько ни шагали солдаты, гремучий вал, обложивший горизонт, ни капельки не приближался, он вроде пятился от них, а за ним, за этим валом, еще гудело, только уж гудело совсем далеко и как-то очень миролюбиво, словно отдаленный гром ворочался в ласковую сенокосную пору.
За минувшие дни боев люди так много пережили, что их, казалось, уже ничем нельзя было испугать, однако сознание оторванности от своих вселяло в их сердца робость и даже страх: отдаленный бой каждому грозился недобрым.
Близко к полуночи вышли на опушку лесочка, и в лицо пахнуло ветерком, простором, свежестью, и дождь, к которому привыкли и притерпелись, как-то незаметно унялся: ночь поредела, измоченная пашня впереди густо чернела, а за нею – неведомо почему – угадывались большая дорога и деревня.
На опушке объявили привал, и солдаты, не выбирая места, ложились в ров, видимо вырытый вдоль всей опушки. Приникнув к сырой земле, чувствовали сладковатый запах увядших трав и прелого листа, приходила на ум родная сторонка, но подумать о ней не хватало сил: сон валил заживо. Николай Охватов сел на мосточек, перекинутый через ров, разулся и долго с наслаждением шевелил одеревеневшими пальцами. Затем складным ножиком обрезал полы своей шинели и сукно намотал на ноги вместо тонких и прожженных на кострах портянок. От устроенности ног вдруг сделалось хорошо, и он решил не спать, потому что привал так и так подходил к концу. Под мостиком укрылись и домовито, не спеша, утайкой смолили крепкий табак Урусов и Минаков, двое вятских, обнаруживших друг друга еще на марше. «Эти стариканы, черт бы их побрал, всюду устроятся, умостятся», – с легкой завистью подумал Охватов, и его потянуло к ним, к сугревному огоньку цигарки. Одолев апатию и вздрагивая под сырой остывшей одеждой, он спустился в ров и полез под мост. В сухой тесноте иссеченные студеным дождиком лицо и руки обдало враз теплом лежалой пыли, гнилью дерева и сладкой горечью махры.
– Некуда здесь, не видишь?! – Урусов непреклонно уперся в грудь Охватова. – Сдай назад.
Охватов на четвереньках полез обратно, задохнувшись обидой и такой острой жалостью к себе, что не нашелся, как ответить.
– Это ты, что ли, Охватов? – спросил Урусов, узнав своего товарища по взводу.
– Да ладно уж.
– Иди давай, чего ладно. Дымок небось учуял. Иди, говорят.
Охватов, все еще сердясь и не зная, надо ли ползти под мост, полез, однако, и лег рядом с Урусовым, который потеснился и, ударившись головой о балку, ласково изматерился:
– Хорошо на печке, да повороты круты. На, курни. – И прижал к лицу Охватова дохнувший дымом обтрепанный рукав шинели. Охватов нашел губами мокрый конец цигарки, опалил глубокой затяжкой всю грудь. – Сапани давай, сапани, – заботливо подсказывал Урусов и еще совал в нос солдату огонек, спрятанный в рукаве.
Затянувшись сам раза три или четыре, скрадывая цигарку, передал ее Минакову, и тот тоже из рукава, красным накалом освещая большие надглазья, стал докуривать, неторопливо причмокивая губами.
– Вот парня ранили, а он снова пришел, – вяло говорил Урусов, и Минаков понимал, что речь идет об Охватове. – Молодых ребят секли, как траву…
– Молодые, которые уцелели, сами в ротные годятся. Академия. Погоди, обстреляется народ. Озвереет, – неторопливо рассуждал Минаков и, поднеся огонек к самым губам, чвыркнул на него, потом еще на потухший сухо поплевал. Скосил голос до шепота: – Комполка сводку вчера подписывал: на каждого нашего убитого по три немца приходится. Россия.
– Я ротного, старшего лейтенанта Пайлова, понес в санроту, – заговорил своим вяжущимся голосом Урусов, то к Минакову, то к Охватову поворачивая голову, – понес его и спустился с ним в овражек. Спустился и прилег вот так-то. Отдыхаю. Грудь, скажи, как ремнем перепоясало. Лежу. А рядом три минометчика жарят и жарят – вся краска на трубе сгорела. Скажи, посинел самовар ихний. Один с наводкой управляется, а двое мину за миной, мину за миной садят и садят, садят и садят. А потом вдруг один-то мину бросил в трубу, а вышибной патрон, должно, подпорчен был, не сработал, а другой-то солдатик от лотка да свою мину туда же – откуда он знал, что такая штука…
– Разнесло?
– Одна плита уцелела.
По мосту кто-то пробежал, оступился и упал в ров. Тотчас же тишину порвал выстрел, и с опушки началась дикая, беспорядочная пальба. Там, где был хвост колонны, зашелся ручной пулемет. С краю моста заученно часто затокал автомат – теплые гильзы посыпались на колени Охватова. Над рвом, наверху, лейтенант Филипенко требовательно и громко командовал:
– Огонь! Огонь! Прямо перед собой! Огонь! Огонь!
С пашни густо рокотал МГ – немецкий пулемет, – пули густо чиркали и кропили лес, накоротке хлестали деревья, сучья, кусты, рикошетировали и с дурным воем, визгом уносились куда-то вверх. В лесу все звенело, трещало и лопалось, будто туда вошли дроворубы и взялись рубить крепкие дубы и клены острыми и звонкими топорами.
Автомат на мостике вдруг смолк, и кто-то начал звать больным и вялым голосом:
– Паша, Паша, что это со мной? Паша…
На шею Охватова упала холодная капля, за нею другая, третья, и солдата пронзила догадка, что это не вода; он сунул руку за воротник, и пальцы связало густым, липким. Охватов вылез из-под моста, брезгливо вытер суконным рукавом шею, но долго не мог заставить себя подняться наверх: стоит только высунуть макушку, как тотчас же сотни пуль со свистом вонзятся в нее. Он жался к мокрому скосу, ждал чего-то. А на дороге лейтенант Филипенко все командовал и командовал, будто заговорен был от вражеских пуль или проводил на Шорье занятие по тактике, отрабатывая тему: рота в наступлении ночью.
– Вперед, ребята! Вперед! – со всхлипом заорал вдруг Филипенко, и Охватов выскочил из рва и побежал через дорогу на черную вязкую пашню. Слева, запыхавшись и кашляя, бежал Урусов и остервенело рвал затвор винтовки после каждого выстрела. Охватов не стрелял – берег патроны. На косогоре в темноте метались одиночные слепые огоньки, иногда они вспыхивали набором, а через гребень, из-за увала, гнул крутую огненную россыпь немецкий станкач – над полем тягуче свистели пули: «ттиу, ттиу, ттиу, ттиу».
Русские стреляли редко, на угор вырвались упрямо, безмолвно, и тихая атака так ошеломила немцев, что они, сминая друг друга, бросились к машинам и угнали, не отстреливаясь и не включая автомобильных фар.
…Примерно за полчаса до этого разведвзвод полка, выходя на встречу с полком, пересекал грейдер и обнаружил себя. Немецкие маршевики, ехавшие к фронту на сорока автомашинах, вмиг всполошились и, веселые, смелые, горластые, бросились за разведчиками. Заварухин, опасаясь за обоз с больными и ранеными, отдал приказ сперва обстрелять фашистов, а потом ударить по ним в штыки. Расчет был верный: жидкий огонь русских только разъярил и увлек молодых и неопытных немцев, они опрометчиво-лихо бежали к опушке леса, пока откуда-то с земли не поднялись черные молчаливые тени и не пошли навстречу – неумолимо и страшно.
Охватов запыхался и перешел на крупный шаг, стиснув в руках ловкую тяжесть автомата. Впереди с мягким хлопком разорвалась граната, и в мгновенном всплеске ее Охватов увидел убегавшего немца, простоволосого, в одном мундире, и выстрелил уже в темноту с разворотом, заранее зная, что не промахнулся. И верно, шагов через двадцать наткнулся на труп, почему-то стороной обошел его, но потом вспомнил, что надо забрать у немца снаряженные магазины, и повернул обратно. В этот момент над дорогой взметнулось и с буйным шумом заплескалось ослепительное пламя, осветившее и дорогу, и высокий бурьян на обочине, и людей с оружием в руках, и неровную, всю в тенях пашню, и сидящего на мокрой земле немца в полурасстегнутом мундире. Охватов растерялся, увидев перед собой живого немца, и хотел ударить по нему, но понял, что стрелять не надо. Солдат сидел, откинувшись назад и опираясь на обе руки, отчего плечи его были высоко подняты, а голова беспомощно уронена на грудь. Когда Охватов подошел близко, немец поднял голову: вся нижняя часть лица его была окровавлена, и раздробленная челюсть, вывернутая ударом пули, отвисла и кровоточила – по грубому сукну, по оловянным пуговицам мундира текла черная струйка, маслянисто блестя в сполохах огня. Немец вытаращенными глазами не мигая глядел на русского солдата, и мольба, и страх, и смертельная тоска светились в его глазах. Охватов отвернулся, чтобы не видеть эти глаза и искалеченное лицо, начал оглядывать землю и ничего не мог разглядеть: все вокруг было залито колеблющимся кровавым светом, от которого еще более темнела и слепла ночь. Автомат, однако, увидел в сторонке, но магазина в нем не было, и это сразу помогло Охватову определить свое отношение к немцу. С преувеличенной грубостью, чтобы подавить ворохнувшуюся на сердце жалость, Николай закричал, все так же не глядя на раненого:
– Скотина арийская, гад ты вислогубый, расстрелял все! Расстрелял! Ну погоди, скотина! Погоди!
Бессознательно выкрикивая свою угрозу «погоди» да «погоди», Охватов побежал к дороге, постреливая одиночными выстрелами. Низко над его головой бил светящимися очередями немецкий пулемет, широко рассеивая по фронту огонь. «Качнет пониже и угробит», – будто не о себе подумал Охватов и, не собираясь падать, упал. Уже лежа на земле, понял, что лежит почему-то навзничь, с порожними раскинутыми руками, и очень испугался: «А где же мой автомат?» Но в то же краткое мгновение испуг прошел, и Охватов четко и ясно подумал: «Кто же о Петькиной-то смерти напишет?..» Этот вопрос, мгновенно возникший и так же мгновенно угасший, и был сознанием его гибели.
За долгие часы по пути к фронту – потом уж некогда было – Охватов частенько подумывал о смерти и боялся не самой смерти, а сознания своей кончины. Почему-то настойчиво думалось, что люди в свою последнюю роковую минуту вспоминают самое дорогое в жизни и не хотят расставаться с ним. Потому-то и был уверен Охватов, что в свой предсмертный час он станет думать о матери, о Шуре, о высоком майском небе над рекой Турой – оказывается, многое, не зная того сам, любил Колька Охватов – и вдруг поймет, что все это уже не для него, и забьется в безысходном рыдании, которое страшнее самой смерти. В действительности же все произошло очень просто. Он успел лишь мельком, отрывочно вспомнить о друге Петьке и тут же перестал чувствовать себя, даже не осознав, куда его ранило.
А на проселке, у мосточка через ров, лейтенант Филипенко собирал роту и недосчитался еще двоих; из ночного боя не вернулись Дымков и Охватов. К бойцам пятой стрелковой роты тяжелым шагом подошел капитан Афанасьев, и Филипенко доложил ему о потерях.
– Пойдете следом за первым батальоном, – не обратив никакого внимания на доклад Филипенко, распорядился Афанасьев и, ожидая возражения, скомандовал непререкаемо строго: – Шагом марш!
Филипенко не повторил команду. Он сам да и все бойцы переживали сложное противоречивое чувство: им хотелось скорее и подальше уйти от опасного места, и в то же время солдатский долг понуждал не бросать своих товарищей, а отыскать их в темноте и вынести.
Капитан Афанасьев, уже отошедший было от роты, вернулся и закричал лютым шепотом на Филипенко:
– Команду разве не слышали? Хочешь, чтобы все остались здесь? Шагом марш!
– Своего бросать-то несвычно, товарищ капитан.
– Это кто язык распустил? – Капитан Афанасьев угрожающе подступил к самому строю. – Спрашиваю, кто распустил язык?
– Это я, товарищ капитан. Рядовой Урусов.
Капитан Афанасьев подскочил к Урусову, взвизгнул в каленой ярости, хватаясь за кобуру:
– А ну из строя!..
Все замерли, ожидая крутой расправы. Оробел и сам Урусов, ноги в коленях дрогнули, чего и в бою с ним не бывало, однако сказал, что думал:
– Вы же учили: сам погибай, а товарища выручай.
– Вот говорок, а, – сердито всхохотнул капитан Афанасьев и, охладевая, осудил себя: «Солдат о долге помнит, а что я гну?..» И строго, будто не сдав своих позиций, сказал взводному: – Лейтенант Филипенко, если твой говорок такой храбрый – отпусти его…
Мимо проехал медлительной, оседающей рысью старший лейтенант Писарев, как-то угадал в темноте Афанасьева, придержал коня – солдат опахнуло густым лошадиным потом.
– Капитан Афанасьев, вы все еще здесь? Броском. Броском через грейдер. На Свининово. В бой не ввязываться. Не ввязывайтесь в бой, – еще раз повторил Писарев и той же тяжелой рысью поехал вдоль полковой колонны. А из темноты по дороге уже выступали обкусанные ротные колонны. Бойцы шли спешным шагом, в котором явно чувствовалась подступающая тревога. Эта торопливость и тревога мигом передались Филипенко, и ротный тоже спешно, совсем не по-уставному бросил:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?