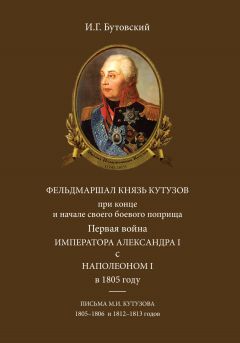
Автор книги: Иван Бутовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
До Ольмюца от боевых линий считали с небольшим две версты. Император Александр часто навещал нас, не только днем, но даже по ночам, в сопровождении одного казака. Кроме ночного времени, император Франц всегда сопутствовал нашему Государю. Великий Князь Константин Павлович почти не оставлял биваков ни днем, ни ночью; если же отлучался, то на самое короткое время. Как часто он сиживал у наших огней, разговаривал с нами, шутил, и если готова была наша похлебка, отведывал, прихваливая, что вкуснее французского бульона, понравилась бы и нашим московским дамам!»
Михайло Ларионович Кутузов назначен был главнокомандующим всех, и новопришедших войск русских и австрийских, Армия простояла в ольмюцком лагере дней шесть. Наполеон находился в Брюнне, авангард его в Вишау. Говорили тогда, что от него прислан был к нашему Государю нарочный с письмом (генерал Савари), в котором, поздравлял его с приездом. Кроме этой рыцарской вежливости, во все время нашего роздыха под Ольмюцем, Наполеон нас не задевал; точно, как будто его там не было.
Позиция, занимаемая нами на высотах ольмюцких, была превосходная; нам можно было бы продолжать стоянку, выжидая корпус Эссена, армию Беннингсена и австрийцев, предводимых эрцгерцогами Карлом и Иоанном, если б очень важное обстоятельство не помешало этому намерению, а именно недостаток в продовольствии. От самаго Браунау, мы никогда досыта не наедались, а соединясь с имперцами, близки были к совершенному голоду. Немцы, рассерженные нашим возвратным шествием, отказывали в доставлении съестных припасов, и наши, заодно с австрийскими солдатами, часто силою добывали себе прокормление в придорожных деревнях. Жители, из страха, хлопотали более о сбережении своих запасов для французов, и прятали от нас и от своих все что могли; достать что-либо съестное нельзя было ни за какие деньги, в которых однако не нуждались: император Франц нередко дарил нашим войскам по два и по три гульдена на человека. В ольмюцком лагере, случалось, кричат из средины за хлебом, и тут поротно наряжают людей: нам, в ожидании, как будто здоровее на душе; но проходил целый день, и посланные возвращались к вечеру с пустыми руками. Иногда притащат, бывало, на весь баталион полбочки муки, и с какою радостию мы получали в полу шинели отпускаемую дачу: подбежав к огню, в той же поле растворяли ее водою, месили и пекли в золе, без соли, лепешки, которые ели с неизяснимым наслаждением. Изредка отпускались печеные хлебы; на роту доставалось десятка по два, по три; фельдфебель и каптенармус, стараясь выгадать для себя получше кусок, чертили мелом эти продолговатые небольшие хлебы по числу людей с особым искусством, и, поставив в ранжир роту, начинали выдачу перекличкой, отделяя каждому, ломтик по черте: каждый, приняв его, целовал, перекрестясь, и прятал за пазуху в шинель: в такой редкости был насущный хлеб! Говядина отпускалась в полки живьем; за неимением вчастую и картофеля, несколько кусков мяса сожигали в уголь и заедали им вареное мясо; винную порцию в ольмюцком лагере ежедневно раздавали по манерочной крышке на человека: я всегда менял свою порцию на то, чтоб во время сна, подле пылающаго костра, меня оберегал от огня тот, кто ее выпьет, охотников было довольно, и, как водится, очередовались. Повелительный голос «за соломой и дровами» многих очень веселил, и я, при первом зове, бывало, первый на ногах являлся с командой не в очередь, не смотря на опасность. Два разные чувства побуждали меня к тому: не допускать людей до разорительного грабежа, и удовлетворить ненасытимую страсть к воинским приключениям. Команды эти, при одном офицере от каждого полка, обыкновенно размещались по хуторам и окрестным деревням, где часто сталкивались с французскими фуражирами, что наиболее и подстрекало молодых людей пускаться на подобные похождения. Кутузов, именно поэтому, уже с Цнайма, отдал приказ отлучаться командам с ружьями и примкнутыми штыками, тем более, что и самые жители нередко встречали нас железными вилами и рогатинами, от чего и бывали убийства: недаром говорят, что голод и замки рвет.
Одно только большое село, в полторы версты от праваго фланга наших линий, было вне опасности, потому что запрещали его штурмовать; но дня за два до выступления, когда уже все окольные места были опустошены, запрещение, повидимому, было снято, и наши фуражирные команды быстро разлились по улицам. Невдалеке от меня я услышал женские вопли: гренадеры моей команды разрывали место, над которым видно ненапрасно трудились; старые и молодые немки целовали мне руки и умоляли со слезами остановить дальнейшее разрытие; я потребовал от них дать солдатам пищу, и они принесли несколько хлебов, мешок муки, картофель, яблоков и 15 кусков шпику: один молодой парень притащил жбан красного туземного вина, ведра в три. Поблагодарив, я уже хотел уйти с солдатами; но старуха, видя кротость людей, за несколько минут до того неукротимых, просила остаться пока кончится набег и защитить ее от других, рыскавших по домам с невероятным ожесточением; я согласился, и команда моя расположилась довольная у входа в жилище. Немцы живут вообще большими домами, в несколько покоев; многие из них, особенно по хуторам, в два этажа, обнесены высокими бревенчатыми стенами; надворные постройки в порядке и везде строгая опрятность. Хозяйка ввела меня в комнату, и молодыя женщины и девушки!обступили гостя с любопытством… Старуха внимательно рассматривала мою одежду, распахнула шинель на груди, потом растегнула несколько мундир, и удивилась, что под мундиром, кроме рубахи, ничего нет теплого: тут подала ей, одна из моравских красавиц, совсем новую душегрейку, и старуха предложила мне надеть. С большою благодарностью принял я этот дорогой подарок человеколюбивой почтенной женщины, и тотчас его надел. В признательность за спасительную душегрейку, я выпросил у нашего полковаго командира, Н. С. Сулимы, охранный караул из трех гренадеров, для ограждения старухи от беспрестанно возобновлявшихся поисков: так, во все время стоянки под Ольмюцем, добрая хозяйка была под защитой. Перед выступлением, я забежал проститься с нею; она благословила меня на дорогу прекрасным хлебом. Этот хлеб я доставил подполковнику П. П. Шамшеву, моему баталионному командиру.
Не смотря на постоянную во всем скудость, и в особенности чувствительный недостаток в хлебе, наше отступление от берегов реки Инн часто оживлялось забавными сценами. Так, например: миновав Шпремберг, когда позади нас ревела канонада и трещал ружейный огонь, австрийские артиллеристы, наловив у одной мызы с десяток крупных свиней, и вдобавок некоторых с поросятами, привязали маток к орудиям, которые тянулись по высокому шоссе; свиньи упрямились, упираясь и озираясь на своих детенышей, пронзительно визжали. Это возбудило всеобщий хохот в войсках, шедших по сторонам дороги густыми колоннами. Вдруг наскакал дежурный генерал Инзов и стал строго выговаривать; артиллеристы, соскочив с седалищ, устроенных по бокам лафета в роде линеек, принялись душить неугомонных свиней; но дюжие животныя, сорвавшись с привязи и разбежавшись с поросятами по сторонам, произвели колебание в ближайших колоннах.
Скоро однако, среди уморительного шума, все это свиное племя исчезло: слышались только из среды русских колонн выразительные благодарности немцам за ужин.
Под Амштеттеном, где французы, не дав нам и кашу сварить, завязали жаркую перестрелку, наши фуражирные команды еще не возвращались из поисков. Кутузов посылал торопить людей сперва офицеров, а потом князя Урусова, шефа Вятскаго полка. Пока собирали команды между домами и по огородам, в одном промежутке, где случился и Урусов, человек двадцать солдат разного оружия, и в числе их полковой причетник, гнались с пронзительным криком за огромным сытым кабаном: скоро одолели животное, и там же на месте принялись тесаками делить его на паи; к этой алчной проделке подъехал князь, и, увидев причетника, который, держа заднюю ногу животного, и ничего не замечая, твердил: «это мне», с улыбкою сказал ему: «Как! и ты здесь?» Причетник, не выпуская из рук, кабаньей ноги, отвечал очень скромно: «Человек бо есмь, Ваше Сиятельство, голод не тетка!» Когда случалось напасть на яму с картофелем или с капустой, радость наша была выше слов, и тут-то у нас начинался гомеровский пир… Вообще все лишения переносились с духом веселым, даже с некоторою гордостью: всегдашнее присутствие любимых начальников и нашего славного вождя заставляло забывать голод.
Лазутчики Наполеона давали знать жителям вперед, когда вступят к ним французы, назначали даже в какую пору, утром или вечером, и мы ровно три недели находились в беспрестанном движении. Ночлеги наши были слишком короткие, всегда в открытом поле, и редко проходили без тревог; случалось даже целые ночи проводить под ружьем, без огня, или на марше. Ни один из нас до Ольмюца не расстегивал ни шинели, ни мундира, и вместо сапог, почти у каждаго были поршни, даже у многих офицеров; шинели наши почти у всех были обожжены бивачными огнями, а у некоторых исстреляны пулями; лица грязные, испачканные порохом, небритые, и при всех трудах и недостатках, каждый солдат держался бодро, с видом страшным, привыкшим к бою, как некогда, на родине, к знакомому плугу. В строе были люди, прослужившие слишком 20 лет, опытности дивной, спокойные в огне как на охоте. Никакие бедствия не потрясали их: все они переносили с твердостию. Случались дни, что армия не имела и времени сделать привал. Наполеон так усердно преследовал наши войска, что некоторые его отряды, стараясь опередить нас стороною, спешили на переменных форшпанах, а французская кавалерия забирала у жителей лошадей, на которых нередко являлась в бой. Наша конница всегда брала верх над французскою, не смотря на то, что у любой лошади во всю ширь седла было садно: просушивать им спины недоставало времени. Французы же имели перед нами то преимущество, что в преследовании могли свободнее заменять свои передовые отряды вновь подошедшими, и могли скорее оправиться от потерь; их не затрудняли ни отвоз раненых, ни доставка провианта и фуража; свежая пища для них и корм для лошадей были всегда готовы с избытком; короче – все им было с руки; пугливые жители помогали им во всем и жертвовали последним, чтоб их не озлобить. Нашим случалось частенько заглядывать в ранцы пленных французов, где непременно находили почти у каждого, кроме хлеба, или зажареную птицу, или лакомый кусок шпику, а у некоторых бутылку вина или ратафии. Можно вообразить себе голодного русского, когда нападал на пресыщеннаго с запасом француза: тут уже не было пардона, и всегда верная смерть последнему… Казаки в набегах добывали много поживы у неприятеля; они налетали внезапно на французских фуражиров, и нередко забирали их в плен вместе с добычею. Для пехоты, вообще, труднее было доставать прокормление, и мы часто постничали по целым дням[13]13
Офицеры особенно много терпели нужд. Тогда не было в обыкновении отпускать для них порцию натурою; им выдавались рационные деньги, которые всего чаще были в кармане ненужною мебелью, кроме разве для игры в карты; ничего съестного нигде нельзя было купить, запасов же иметь невозможно; брать телегу для клади запрещалось; дозволяли, и то не всегда, вьючную лошадь – одну на всех ротных офицеров. Благодетельная перемена – отпускать для офицеров порцию натурою – последовала в царствование блаженной памяти Императора Николая, в войну с турками 1828 и 1829 годов. Эта мера принесла великую пользу и тем уже, что на биваках между офицерами почти уничтожилась картежная игра, что было очень заметно при обложении Варны, в эту эпоху, славную для российского оружия. Прежде, от избытка рационных денег, частенько, на досуге, голодные офицеры резались в фаро, и многие проигрывались в пух, так что где и можно б было отогреть и поправить желудок, так уже не на что было: в кармане не оставалось и гроша… В прусскую войну 1806 и 1807 и шведскую 1809 и 1810-го годов, я не раз был свидетелем горестных сцен решительного проигрыша, довольно забавного, впрочем для лиц посторонних. Но в кутузовскую кампанию 1805 года не было времени ни гулять, ни играть в карты…
[Закрыть]. Знаменитый вождь наш умел, однако, мастерски смягчать это жестокое положение: при всяком движении войск, он непременно станет на самом видном месте и непременно встретит каждый полк несколькими ободрительными словами. Чтоб более ознакомить солдат с собою и утешить их голод, он тут же, на походе, входил с ними в короткую беседу и вливал в русских воинов непобедимую твердость духа.
Для многих из нас, и в особенности для немцев, странным казалось, что обозы наши, и казенные, и офицерские, на всем отступлении до Ольмюца, как будто и не существовали при армии. По распоряжению главнокомандующего, вся эта хозяйственная часть находилась всегда впереди, на расстоянии двух, а иногда и трех переходов, и войска на марше не встречали и самомалейших препятствий: все движения совершались без замешательства, в удивительном порядке.
После жестокой сечи при Мельке, где, к общему всех сожалению, мы лишились двух храбрых полковников: Мариупольского гусарского, Ребиндера и Киевского гренадерского, Щербинина, русская армия подошла к Санкт-Пельтену, и впотьмах, вблизи города, стала на позицию. Большая часть городов Верхней Австрии построена из камня, и вообще живописной наружности; у каждого дома ворота с калиткой, окованы железом и всегда на запоре; улицы вымощены и во многих с тротуарами. Квартира одного только главнокомандующего была в городе; все прочие генералы находились при своих местах. По городам запрещалось производить обычные поиски, да и было невозможно: все домы настоящие крепости. Едва люди воротились с дровами и соломой, едва развели огни, как меня потребовал Дмитрий Сергеевич Дохтуров. Он дал мне горсть червонцев и приказал купить для него в городе белого хлеба, вина и что только можно из съестного; для переноски велел взять с собою несколько гренадеров, примолвив: «Постарайся достать хоть что-нибудь: совсем отощал». Я доложил генералу, что в ночное время, может статься, ничего нс найду, и что в таком случае обращусь на кухню главнокомандующего. «Хорошо, только спаси от голода», – отвечал он. Взяв с собою шестерых гренадеров, я исходил все закоулки небольшого города, однако безуспешно; ворота везде были на запоре, ставни в нижних этажах закрыты; в верхних во многих домах светилось. Один из них, довольно огромный, освещен был ярче прочих: я решился атаковать его; велел людям подойти к воротам как можно тише, и объявил им, что когда успею заставить дворника отодвинуть засов, то в ту секунду они должны навалиться сильно на дверь, чтоб, увидя нас, он не прихлопнул опять на запор. Осторожно, негромко я постучал в дверь и раздался голос: «Кто там?» Применяясь к их наречию, я отвечал тонким, дрожащим полуголосом: «Отворите». Несколько раз повторялся вопрос, но ответ мой был все тот же. К счастию, я услышал движение засова; конечно, он счел меня за женщину. Гренадеры, затаив дух, тихо приставили к калитке свои геркулесовские кулаки, и едва щелкнул дверной замок, как калитка и привратник с шумом полетели в сторону. Ужас объял немца при виде солдат. Я приказал запереть калитку, и, оставив при ней двух гренадеров, с остальными четырьмя пошел по широкой освещенной лестнице прямо вверх. Появление наше в пространной зале произвело в доме сильное волнение. Хозяин, средних лет, богатый негоциант, встретил меня с испуганным лицом; но мои объяснения и горсть червонцев, положенная мною на стол, совершению его успокоили; он отказался от денег и угостил нас радушно, не забыв нагрузить моих спутников всякого сорта богатым запасом. Меня усадили особо, и, в продолжение этого неожиданного ужина, выбежали из других комнат множество пригожих дам и девиц: пристально рассматривали они русских воинов, и, переглядываясь между собой, любовались молодечеством сынов прибрежий Волги и Днепра. Расставшись с дамами, хозяин повел меня по коридору в просторные сени, из конца в конец увешанные тушами телят, баранов, свиней и всякой живности: выбирайте любое, сказал он; я взял теленка, двух баранов и две индейки, но он прибавил еще две свиные туши, говоря: «Это для солдат, а у вас же есть кому и дотащить», потом, сняв с высшей жерди двух фазанов, и подавая мне, примолвил: «Для его превосходительства». Заметив мое удивление, при виде такого большого заготовления, хозяин, потряхивая головою, сказал: «Неволя заставляет нас, отказывая своим, делать эти жертвы для врага[14]14
Русские, в 1812 году, так не угащивали у себя французов: вместо приветливых слов и заготовления всякой снеди, они, чтоб торжественнее их встретить, оттачивали ножи и вострили секиры, и бестрепетно, с железом и пламенником в руках, ожидали прихода незваных.
[Закрыть]. Уже с вечера получено через наполеоновских лазутчиков строгое от него повеление, чтоб здесь приготовились принять французов к утру наступающего дня (28-го октября); и мы дивимся, продолжал он, что ваш главнокомандующий так покоен здесь: нас пугают слухи, что он намерен тут сразиться». – Все может быть, отвечал я; но французов, при Мельке, наши шибко поколотили, и, конечно, это задержало их, они еще далёко отсюда. Добрый немец видимо был доволен, и, как кажется, еще более обрадован тем, что имел дело с русскими, а не с своими, которые, не смотря на его бескорыстие и вежливый прием, вероятно забрали бы у него весь этот лакомый запас. Он провел меня до калитки; с чувством пожали мы друг другу руку, и едва я переступил за порог, как, живо прихлопнув калитку, задвинули ее чуть ли не двумя засовами, чтоб, наконец, избавиться новых посещений. Опрометью, сколько позволяла мне моя ноша, пустился я в обратный путь обрадовать моего начальника, которого мы любили как отца.
Наши командиры, без исключения, не смотря на возможность ни в чем себе не отказывать, подавали первые пример терпения, и не позволяли себе ни малейшей неги, или чего-либо похожего на довольство и роскошь: заодно с рядовыми грызли сухарь, или, и по нашему, голодали, отдыхая на той же соломенной постилке, среди поля, под открытым небом, во всякую непогоду и слякоть. При этом как могли и мы роптать на скудость?
Не доходя Мелька, при одном ариергардном деле, версты за четыре от армии, неприятель пробрался к нам на марше во фланг. Кутузов, по первому известию, лишь только миновали небольшой город, остановил войска, чтоб выждать ариергард и дать отпор идущему на нас со стороны неприятельскому отряду. Пока дожидались развязки, главнокомандующему кто-то донес, что в костеле, против котораго мы остановились, заготовлена от жителей большая пропорция печеного хлеба для французов. Время не позволяло отыскивать и ожидать надзирателя, войска же наши дня три даже не нюхали хлеба. Михайло Ларионович подъехал к костелу и приказал отбить дверь. Свежепеченый хлеб точно найден в большом количестве, и для раздачи по полкам тотчас потребовали приемщиков. Кутузов слез с лошади и сел на поданную скамью, у самой дороги; мимо его носили хлеб, кто в мешке, кто в поле; одного из солдат он остановил, вынул из полы продолговатенький хлебец, разломал на куски, и, разделив между окружавшими его генералами, ел кусок свой с большим аппетитом, похваливая заботливость немцев о наших врагах… Нам, голодным, тут же роздали этот прекрасный хлеб, так внезапно ниспосланный самим Провидением; мы тоже ели каждый свою дачу, громко превознося нашего вождя и благодетеля. Тем временем ариергард подошел ближе, а отряд гусаров и казаков, с одной конной батареей, остановил обходных недругов.
В продолжение всего отступления только раз нам довелось, так сказать, перевести дух, после перехода через Дунай, у Кремса. В первый день кремского отдыха, Дохтуров потребовал к вечерней заре барабанщиков со всей дивизии. Ватага этих шумил, человек сто, собравшись к урочному времени, подле дома, занимаемого главнокомандующим, приударили вечернюю зарю, пройдя по главной улице взад и вперед. Эта грохотня, не доходившая до ушей Наполеона на всем пути до Дуная, вероятно изумила его, убедив, что мы ничуть не запуганы преследованием. Более суток мы поджидали здесь маршала Мортье, и не даром: седины нашего вождя украсились в этом деле новыми лаврами, искусно отнятыми у торжествующих французов. Наполеон, стоя на противолежащем берегу Дуная, скрежетал от досады, что не мог пособить Мортье, и называл Кремское сражение воловьей бойнею.
Кремс запечатлелся в моей памяти еще по одному странному случаю. Полковник Сулима, утром 31-го октября, послал меня в госпиталь, где производилась перевязка, составить раненым Московского полка поименный список, с обозначением и самых ран. Госпиталь устроен был на главной улице, во втором этаже обширного здания; широкая лестница с пространной площадкою вела в покои. Большая передняя наполнена была всякого возраста немцами и немками; стоя рядами с жбанами и ендовами туземного вина, они предлагали его желающим из человеколюбия безденежно. Около них теснились жаждущие, и веселый говор оживлял эту фламандскую картину. Две другие комнаты заняты были медиками, фельдшерами и разных полков офицерами: последние находились здесь с тою же целию, как и я, чтоб узнать о числе и состоянии своих раненых: эти раненые лежали в двух огромных залах. Прошло много времени, пока я обошел. всех страдальцев и насчитал человек до тридцати пяти нашего полка. Составив им поименный список с отметками, я пробрался далее, где производились операции; там нашел из наших, кроме семнадцати мушкетеров из рот Маркова, Пробста и Данилевского, еще из знаменных рядов четырех гренадеров, так бывших мне близких во весь поход; в последний раз беседовал я с ними, и долго не мог от них оторваться. Распростясь, я перешел в следующую комнату и меня удивило большое число французов с ужасными ранами: они лежали рядом с нашими: эти раны, по большой части от штыка, приобретены ими на длинной насыпи, где защищались храбро против москвичей и ярославцев. Поднятые, по приказанию Дохтурова, они были помещены в общем с русскими госпитале, и число их далеко превосходило наших ранепых. Многим, и французам, и русским, отняты уже были кому рука, кому нога; других продолжали пилить. От жестокой духоты и тяжкого зрелища у меня закружилась голова, и я вышел освежиться обратно к парадной лестнице, на площадку. Скоро одолел меня сон, я присел в угол; сколько времени проспал – не знаю, но было уже поздно, когда, впросонках, я услышал крик: «Выходи вон!» Хочу подняться, не могу, чувствую, что завален спящими людьми. Но какой объял меня ужас, когда я убедился, что загроможден не спящими; а мертвецами: в продолжение моего сна, умирающих от ран и ампутаций выносили на эту площадку и складывали друг на друга. К счастию, я уселся в самом углу, и трупы не могли задавить меня; однако же без помощи казаков мне не вылезть бы. Это происшествие не обошлось без шуток. На голос мой, удалые сыны Дона шумно отвечали: «Полно, вправду ли жив, не морочишь ли нас!», и, разваливая покойников по сторонам, добрались до меня и вытащили. Потом, чтоб не быть в ошибке, не призрак ли какой вынули с того света, подвели меня к фонарю, и, смеясь, осматривали с головы до ног: вдруг вышел из комнат наш полковой адъютант Прегара, до крайности обрадованный, что, наконец, отыскал меня. Когда мы спустились с лестницы на улицу, на дворе уже было темно, лил дождь и все войска в движении. Одни только легко раненые были отправлены к Цнайму и далее: все же трудные, вместе с французами, оставлены в Кремсе, при двух или трех фельдшерах[15]15
В это ненастное время, у нас по рядам разнеслась радостная весть о победе английского адмирала Нельсона над французским флотом при Трафальгаре. «Ништо ему! – бормотали промеж себя солдаты, – вишь, забияка, со всеми рассорился; задел и заморских попугаев! Да, ведь правду сказать, Бонопартия-то и молодец хоть, все-таки несдобровать же ему. – Оно так, ворчали другие, а пока что – меси грязь… Эх-ма! подхватили старики, уж и осовели, ребята. Нам ли тужить, братцы! Трудись, терпи, так и будешь енерал. Мы видали не такое горе: в Туретщине и у персов всего перебывало, а Бог миловал; бусурман уняли: задали такого трезвона, что и дедам их не в память!
[Закрыть].
После нашей достопримечательной прогулки от реки Инн и Браунау, мы порядком отдохнули в Ольмюцком лагере; но дальнейшее стояние в нем угрожало армии решительным голодом. В военном совете почти все изъявили желание обратиться на неприятеля. Кутузов был противного мнения: он объявил, что затрагивать Наполеона еще рано, и предложил отступать. Его спросили, где же предполагает он дать ему отпор? Кутузов отвечал: «Где, соединюсь с Беннигсеном и пруссаками[16]16
На всем пути нашего обратного шествия, носились слухи, что Пруссия отлагается от союза с французами и пристает к нам. Еще до Дуная, вокруг бивачных огней, из разговоров между генералами, можно было расслушать не один раз похвалы прусским войскам, и что Фридрих-Вильгельм уже давно недоволен диктаторским тоном Наполеона Бонапарте, и разрыв неминуем.
[Закрыть]; чем далее завлечем Наполеона, тем будет он слабее, отдалится от своих резервов, и там, в глубине Галиции, я погребу кости французов». Немцам показалось это странным, и мнению русского военачальника не последовали. Многие шептались и болтали даже, что Кутузов помешался на ретирадах… Император Александр, уверяемый императором Францем и его первенствующими генералами в несомненном успехе, отдал приказ – идти на неприятеля, и, 15-го ноября, двинулись на Вишау.
Можно представить себе радость Наполеона, видя решимость союзной армии действовать наступательно; он крайне опасался оборонительной системы Кутузова, и кто знает, какие средства были им употреблены для того, чтоб не последовали совету нашего русского Фабия, будущего решителя судьбы французов, который и тогда готовился погребсти их кости. Уже со дня соединения Кутузова с Багратионом, Наполеон не напирал на нас с привычною ему быстротою, а с занятием нами ольмюцкой высоты, он вовсе утих и показывал вид, что намерен держаться в оборонительном положении; словом, с его стороны употреблены были все хитрости, чтобы вызвать нас на бой, и австрийские генералы, уже столько раз им битые, как будто в угождение завоевателю, усердно рвались против него вперед.
Да немцам и кстати было чужими руками жар загребать: главные армии их находились вне опасности, а вся сила ольмюцких войск заключалась в русских; следовательно, нечего было дорожить мнением Кутузова.
К довершению невзгод, ожидавших нас на полях аустерлицких, император Австрийский упросил нашего Государя предоставить составление плана и диспозиции для сражения австрийскому генерал-квартирмейстеру Вейротеру, так что Кутузов, оставаясь при своем звании главнокомандующего, играл во время сражения простую роль исполнителя приказаний, объявляемых австрийскими генералами.
У Вишау, 16-го ноября, наши атаковали французский авангард; упорство неприятеля длилось недолго; его опрокинули и гнали через город штыками, в присутствии самого Императора Александра, ободрявшего людей под неприятельскими выстрелами. Едва французы скрылись за город с потерею эскадрона драгун, и приутихла на улицах смертоносная буря, как народ тысячами показался у раскрытых окон, дверей, ворот и на крышах, приветствуя Государя восторженными криками радости. На этот раз немцы ничего не жалели для русских: бочки с виноградными винами, огромные корзины съестного, появились у домов, и горожане радушно угощали наших солдат.
На другой день, после дела под Вишау, я чуть не попал в беду. Мы подавались к Брюнну; в одиннадцатом часу утра нам дали привал для завтрака, по левую сторону шоссе; наш Московский полк примыкал к нему на расстоянии не более тридцати сажен; направо, у самой дороги, стояла каменная гостиница и подле нее большой колодец, крутом обставленный преогромными чанами, на чугунных колесках. Скоро развели огни и принялись стряпать, причем воспользовались соломой и дровами, заготовленными для неприятеля; вода также была под рукой, и команды бросились к колодцу. Чтоб избавить людей от лишней ходьбы за водою, мне вспало на мысль наполнить один из чанов и дотянуть его артелью до места. По совету моему, гренадеры тотчас принялись за дело: уже они передвигали налитой чан через шоссе, как поднялся вокруг него большой шум. Пробравшись сквозь толпу, я увидел, что гренадеры спорят с каким-то роскошным кучером, который силится напоить из чана двух прекрасных лошадей, запряженных в дрожки: ничего не понимая что за кучер и чьи дрожки, я оттолкнул его, сказав: «Это для людей вода, а лошадей можешь поить из колодца», – и приказал гренадеру дать ему котелок. Кучер хотел что-то говорить, но я махнул гренадерам, и чан покатился с шумом. Не прошло и полчаса, как полковник Сулима начал разыскивать, кто из унтеров был при чане: указали на меня, и я был потребован к ответу. Тут с изумлением узнаю, что экипаж и кучер Царские; но испуг мой рассеялся великодушным вмешательством князя Долгорукова, который, узнав как произошло дело, сказал мне очень благосклонно: «Вы правы», и отпустил. Пять дет спустя, я познакомился в Петербурге с знаменитым Ильей Ивановичем[17]17
Лейб-кучер Императора Александра, сопровождавший Государя во все его походы, вояжи и частые разъезды по России. Эго историческое лицо особенно замечательно по своему уму и примерной преданности. Во время пути, Государь любил беседовать с Ильею, которого сановитость и сладкая речь увлекали слушателя до очарования. Редкое достоинство Ильи Ивановича и в том, что он никогда никого не оговаривал, а если что и объяснял любознательности Монарха, то по сущей справедливости; прямой души и чистый сердцем, Илья часто делал добро н никогда не злословил.
[Закрыть]; он часто напоминал мне о чане, хвалил мою привязанность к солдатам, а я не мог его слушать не совестясь…
Наш солдатский завтрак продолжался недолго; скоро раздалась команда: к «ружью!» Армия приняла влево и направилась прямо к Аустерлицу, полями и виноградниками; один князь Багратион с авангардом преследовал неприятеля по большой дороге к Брюнну. Часа два гул пушечных выстрелов, обличая его шествие, доходил до наших ушей; но когда удалились от главного шоссе, до нас перестала долетать авангардная пальба, и мы шли вне всякой тревоги.
На следующий день дали роздых, подле двух небольших деревень; в несколько минут улицы наполнились солдатами, не смотря на то, что оба Императора и генералитет занимали некоторые дома; на главной, где проходило шоссе, разных полков нижние чины, гурьбой, ловили кур, и одна из них порхнула вверх и разбила окошко: там были Александр и Франц. Люди испугались: Милорадович, выбежавший оттуда, стал их стыдить, называя нахалами. Лишь начали солдаты расходиться, как показались у двери с веселым видом оба Императора. Вместо ожидаемого наказания людям, что, в виду своих Венценосцев, так дерзко полевали; император Франц приказал, чтоб тотчас отпустили во все полки винную порцию. Спустя час, места куриного погрома остались впусте: все колонны были на марше.
Все время оба Императора находились при армии; войска шли побригадно колоннами, в несколько линий, и представляли великолепное зрелище. Кавалерийские отряды, живописно разбросанные версты за полторы впереди, открывали дорогу; команды пионеров держались почти на том же расстоянии, и где встречались ручьи или рытвины, неудобопроходимые для артиллерии, тотчас их поправляли, строили мосты или накидывали понтоны. Погода стояла ясная, кроме туманных утренников, начавшихся с 18-го ноября. Император Александр на марше всегда был верхом; по крайней мере нам не случалось Его видеть в экипаже; беспрестанно Он появлялся перед нами, переезжая от одной колонны к другой, или, опередив всю массу войск и став на возвышении, он любовался нашим прохождением. Полки армии Кутузова были размещены между новопришедшими, и своею темною одеждой слишком резко отъявляли испытанные трудности похода. Шествие Российской гвардии, в челе которой ехал верхом Великий Князь Константин Павлович, имело вид высокого торжества: смотря на нее, каждый из нас уверен был в победе.
С той поры, как свернули с брюннского шоссе; музыки, песенников, барабанного боя не слышно было нигде; казалось по всему, что движение наше хотели скрыть от неприятеля. Однако, в продолжение этих наступательных маршей, наши ночлеги, начиная с Ольмюцкого лагеря, обозначались бивачными пожарами: едва трогались мы с места, показывались на двух или трех пунктах расположения австрийцев густые клубы дыму, и вскоре огонь, охватив один по другому все шалаши, пожирал их дотла. Император Александр, видя такое опустошение, и не менее того довольно изобличающее направление наше, спросил Кутузова на марше третьего перехода: «Зачем эти пожары, Михайло Ларионович?» – «Не наши причиной, Ваше Величество, – отвечал главнокомандующий, – я строго приказал наблюдать осторожность от огня; но австрийцы, вероятно с досады на скупость своих земляков, жгут их последнее добро. Таких сигналов у меня не было во всю ретираду, а у цесарцев, по видимому, в обычае освещать свое наступательное движение». Вслед за этим разговором, казачьим партиям приказано, чтобы, по выходе войск с бивака, заливать огни, и пожары прекратились. Вообще на этом походе жители более потерпели от своих собственных войск: я видел не раз как австрийские солдаты таскали в лагерь, кроме разной домашней утвари, большие перины, одеяла, тюфяки, подушки, и, устилая ими шалаши, спали на них, или, как водится, из отчаяния, в ожидании смерти, роскошничали; потом, с намерением или от небрежения, все истребляли огнем. Во многих деревнях, за неимением дров, разобраны ими для бивачных огней целые дома, на выбор, лучшие, и жители провожали своих и нас с проклятиями… Можно побожиться, что наши солдаты от самого Браунау нигде не жгли бивак. Случалось, что, по недостатку топлива, разрушали по деревням хилые домики, и то редко; но жечь шалаши и без строжайшего на то запрещения у наших не хватило бы варварства: австрийские командиры – настоящие виновники этих походных фейерверков.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































