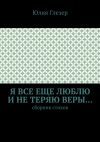Текст книги "Россия. Путь к возрождению (сборник)"

Автор книги: Иван Ильин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 48 страниц)
12. О мироотвергающей религии
Одним из самых знаменательных последствий всей этой морально-нигилистической установки является то своеобразное практическое миронеприятие, которое служит для «непротивляющегося» последним и самым надёжным убежищем и прикрытием. Это отвержение внешнего мира проистекает, по-видимому, из моральных оснований, но в действительности коренится в смутной и сбивчивой религиозной концепции внешнего мира.
Моралист, как уже установлено, ведёт жизнь, завернувшуюся в себя, и вследствие этого он оказывается отвернувшимся ото всего, что не есть его собственная душа, с её то греховными, то добродетельными наслаждениями.
Понятно, что весь «внешний мир» отходит для него на второй план и блёкнет в своей реальности. Имея в своём внутреннем мире верховную и единственную ценность (добродетельную жалость и жалеющее наслаждение), моральная душа не ценит и не культивирует центробежного уклона жизни; ей трудно выйти из своей установки и обратиться к «внешнему миру», и если она бывает вынуждена «брать» что-нибудь «внешнее», то она соглашается на это лишь постольку, поскольку этот материал имеет характер умилительный, сентиментальный, идиллистический; всё же остальное осуждается, отвергается и обрекается на исключение как «безнравственное».
Именно этим объясняется то обстоятельство, что у Л. Н. Толстого имеются два прямо противоположных воззрения на «природу» и на «человеческое общество» – на эти две великие части «внешнего мира».
Согласно первому воззрению, природа божественна и благодатна. Она создана Богом; она связана с ним настолько, что её закон есть Его закон, так что религия устанавливает связь человека не только с Богом (первопричиной), но и с «вечным, бесконечным миром», от него происшедшим. Воля Бога не только не расходится с «вечными, неизменными» законами природы, но прямо совпадает с ними: исполнение этих законов есть исполнение Его воли. Этот мир движим любовью, и даже животные живут в нём мирно и не обижают друг друга. Понятно, что и плоть человека, созданная Богом и вводящая его в состав внешней природы, не осуждается, а приемлется: человеку дан «закон труда» и «закон рождения детей», закон «вечный, неизменный» – это «закон Бога и воля Бога», пославшего в мир, и женщина, рождая детей, не грешит, а «служит Богу». Связь с природой признаётся прямым условием счастия и добродетели; трудовое одоление её стихий является первой и несомненной «обязанностью человека»; единение людей друг с другом объявляется высшим благом, «доступным людям» «в нашем мире».
Этому идиллическому воззрению на внешний мир, по которому всё покоится на любви и «насилие» просто не нужно, – противостоит второе, обратное понимание. Согласно ему, «внешний мир есть мир розни, вражды и эгоизма», он «лежит во зле и соблазнах», в нём царит «неотразимый» «закон борьбы за существование и переживание способнейшего»; этот закон «руководит жизнью всего органического мира, а потому и человека, рассматриваемого как животное»; это – «вечный для всего живого» «закон эволюции», который в то же время «противен закону нравственности». Моралист не приемлет этого мира розни, состязания и конкуренции; этот мир живёт вне морали и против морали, движимый естественным, жадным, безжалостным, бесстыдным инстинктом, который ищет наслаждения в грехе и окаянно грехом наслаждается. Как бы человек ни разукрашивал эту рознь и этот грех, «борьба всегда останется борьбой, т. е. деятельностью, в корне исключающей возможность признаваемой нами христианской нравственности». И потому все формы и разновидности этой борьбы людей друг с другом предосудительны и запретны: и хозяйственная конкуренция, развивающая технику и материальную культуру, и борьба, возгорающаяся из-за половой любви, и общественно-политическая борьба за право и за власть.
Именно это воззрение на внешний мир как на среду глубоко противоморальную ведёт к проповеди аскетизма, опрощения и непротивления.
Моралист есть существо испуганное и подавленное непомерною, навязчивою, претенциозною реальностью своего «тела» и его инстинктивных влечений. Эти влечения он переживает как направленные во внешний мир, как наступательные, нападающие: начиная от борьбы за пищу и кров, за собственность, богатство и власть и кончая агрессивностью полового инстинкта и его борьбою за обладание. Всё это влечёт к «насилию»; всё это ставит на «путь диавола» и тянет к смертному греху, всё это будит в человеке его «животную личность» и превращает его в жестокого зверя; всё это идёт от «внешнего мира» и тянет во «внешний мир»; всё это должно быть сведено к минимуму и в идеале совсем подавлено.
Так, в природе разлито некое с моралью не считающееся сладострастие, не только вчуже беспокоящее человека, но живущее в нём самом и то и дело восстающее в его душе в виде «греховной похоти». Эту греховную похоть моралист воспринимает в самом себе как начало зла, как вечно и ненасытно шевелящегося в душе врага добродетели. Понятно, что моральный закон категорически требует его подавления. Предаваться этой «похоти» – «недостойно человека», «унизительно», постыдно и грешно: «добродетель» требует, чтобы человек жалел человека, а не вёл его ко греху через стыд и боль, наслаждаясь его страданиями. Добродетель требует «целомудрия», «полного целомудрия»; вступление в брак «не может содействовать» «служению Богу и ближнему», и «плотская любовь» – это «служение себе самому» – должна быть заменена «чистыми отношениями сестры и брата»; пусть прекратится от этого род человеческий – люди всё равно уже свыклись с этой идеей, одни в порядке религиозного верования, другие в порядке научного прогноза. Рождение детей было бы допустимо для сострадательного моралиста разве только в том случае, если бы он увидел, что «все существующие жизни детей уже обеспечены»…
Аскетически отвергая в самом себе начало «плоти» и «инстинкта» как начало «внешнее», «противодуховное», «насильственное» и злое, моралист категорически требует, чтобы человек как можно меньше предавался своей телесности, чтобы он свёл её потребности к самому необходимому и вложил всю свою телесную энергию в единственный достойный человека, морально-честный и почётный, никого не обижающий и не эксплуатирующий физический труд. Трудится только тот, кто работает физически; всякий иной, «умственный» труд есть мнимый: это пустословие и обман. Чтобы быть морально на высоте, человек должен забыть всякую распущенность и прикрывающие её обманы; он должен упростить жизнь и опроститься. Упростить жизнь надо и внутренне и внешне настолько, чтобы совсем не возникали ни потребности, ни отношения, уводящие человека в «мир насилия». Надо упростить культуру, общественную организацию, хозяйство, обстановку, одежду и стол, исключая и вытравляя отовсюду элемент внешнего насилия и пользования чужим трудом; надо упразднить собственность на землю, наём и аренду, досуг, необходимый для духовного творчества, власть и законы, половую любовь и роскошь, фабричное производство и деньги, охоту и мясоедение, вмешательство в чужую жизнь и армию – словом, всё то, что навязывает человеку «внешний» – природный и общественный мир. Надо опуститься на тот уровень первобытной простоты, который «доступен всем людям всего мира», так, чтобы все делали только то, что все могут делать, и всякий обслуживал бы сам себя, не одолжаясь у других и не мешая им делать, что хотят.
Именно в связи с этим мироотвержением вырастает и требование воздерживаться от активной, пресекающей борьбы со злом: внешний мир лежит во зле и в познании его человек крайне ограничен; поэтому он должен последовательно извлечь из него свою волю, предоставляя совершаться неизбежному.
«Вопрос о том, – пишет Л. Н. Толстой, – что я должен делать для противодействия совершаемому на моих глазах насилию, основывается всё на том же грубом суеверии о возможности для человека не только знать будущее, но и устраивать его по своей воле. Для человека, свободного от этого суеверия, вопроса этого нет и не может быть»: «полезно ли, не полезно ли, вредно ли, безвредно будет употребление насилий или претерпение зла – я не знаю, и никто не знает»… Положим, что «злодей занёс нож над своей жертвой, у меня в руке пистолет, я убью его, но ведь я не знаю и никак не могу знать, совершил ли бы или не совершил бы занёсший нож своё намерение. Он мог бы не совершить своего злого намерения, я же наверное совершу своё злое дело»… Что бы ни происходило во внешней общественной жизни, человеку надо помнить, что каждый управляет собою и только собою; надо помнить это и самому не грешить, а о последствиях не думать, ибо они никогда не могут быть нам доступны.
Такова концепция внешнего мира у графа Толстого во всех её последствиях. Он созерцает мир или как богоустроенную идиллию и тогда отвергает принуждение как абсолютно ненужное; или же он созерцает мир как некое царство страстей, греха и лжи, в котором принуждение, может быть, было бы и нужно, и целесообразно, но от которого человек должен именно вследствие этого отвернуться, с тем чтобы не участвовать в его жизни. Оба эти истолкования внешнего мира связаны одним: отвержением «насилия»; и, психологически говоря, оба они, может быть, прямо вырастают из моральной потребности отвергнуть его. «Насилие» не нужно, если мир со всеми его законами благодатно изошёл от Бога; «насилие» есть недопустимый грех, если мир лежит в зле. Сентиментальный моралист то утешает себя космической идиллией, то бежит от мира, предоставляя его своей судьбе. Однако он ищет успокоения и в бегстве – и, обосновывая правоту этого бегства, как бы в ограждение своей пассивной добродетели и своего внутреннего наслаждения, прикрывается и обороняется ссылкою на «волю Божию».
Согласно этим успокоительным указаниям, «внешний мир», хотя и лежит «во зле и соблазнах», хотя и правится безнравственным законом борьбы, тем не менее ведается и «Божией волей». Она состоит в том, чтобы люди жалели друг друга и не думали о том, что из этого выйдет. Надо самому «следовать только тем указаниям разума и любви, которые Он вложил в меня для исполнения Его воли», и предоставить последствия такого делания на Божие усмотрение, ибо эти последствия суть «дело Божие». Это от Бога устроено так, что каждый человек отвечает только за себя и что никто не имеет ни «права», ни «возможности устраивать жизнь других людей»; «дело каждого устраивать, блюсти только свою жизнь»; и потому при виде злодейства человек должен «ничего не делать», предоставляя согрешившему «каяться или не каяться, исправляться или не исправляться», не мешая и не вторгаясь в его внутренний мир, в эту сферу Божьего ведения. Такое вторжение, такое «выхождение за пределы своего существа» означало бы попытку присвоить себе Божии права, узурпировать Божию власть, «святотатственно» заместить волю Божию, как якобы недостаточную, но такая попытка всегда равносильна «отрицанию Бога». Поэтому всё, что я могу сделать в защиту убиваемого ближнего, – это предложить злодею удовлетвориться убиением меня; если же он не заинтересуется моим предложением и предпочтёт убить свою жертву, то мне остаётся усмотреть в этом «волю Божию»…
Таково практическое миронеприятие, к которому приходит Л. Н. Толстой, отправляясь от своей сентиментальной морали, двигаясь вперёд со всею своею нигилистическою прямолинейностью и не замечая ни затруднений, ни противоречий. Близорукий и мнительный, моральный суд вламывается в самую сущность живого мировосприятия, судит, критикует и отвергает, не давая ни испытать, ни увидеть, ни осмыслить, не позволяя ни зародиться, ни расцвести иному, не специфически-моральному, – религиозному, или научному, или духовно-нравственному испытанию и увидению. И вот духовный нигилизм восполняется столь же нигилистическим отношением к инстинкту, к чувству любви и деторождению. Моралист учит относиться к жизни инстинкта, к его живой тайне, к его здоровой и духовно-значительной глубине, к святыне брака, отцовства и материнства – с тем же отрицанием, как и к жизни духа. Жалость, отвернувшаяся от духа и изнемогшая при виде чужого страдания, отвергает и основную силу жизни, как греховную и злую, ибо она усматривает некую «безжалостность» в природе и в инстинкте, не усматривая его таинственной мощи и его удобопревратимости в духовное благо. Верный себе, сентиментальный моралист требует от «природы» того, чего она дать не может и не хочет, и не может взять от неё то, что составляет её богатство и глубину. И так как он привык измерять всякое совершенство моральным мерилом и усматривать веяние Божественного только в жалости, то ему остаётся осудить «внешний мир» и освободить себя от волевого участия в нём. Да и что же другое могла бы сказать «добродетель», не усматривающая Божественного ни в чём, кроме самой себя? Если тяга во «внешний мир» есть тяга к насилию, уводящая от добродетели, то этим уже произнесён приговор не только «внешнему миру», который вовлекает душу в грех, но и тому существу, которое влечётся к насилию. И отсюда неизбежное требование: отвернуться от «внешнего мира» и постольку, поскольку он вне человека, и постольку, поскольку он скрыт в самом человеке, хотя бы для этого пришлось низвести человека до уровня первобытного варварства, духовной слепоты, физической нечистоплотности и повального вымирания.
Если внешний мир «лежит во зле» и «вечный», неотразимый закон, правящий им, «безнравствен», то не следует ли, в самом деле, отвернуться и бежать от мира, спасаясь? и вот моралист освобождает человека от призвания участвовать в великом процессе природного просветления и в великом историческом бое между добром и злом; он избавляет его от задания найти своё творчески-поборающее место в мире вещей и людей; он снимает с него обязанность участвовать в несении бремени мироздания; он даёт ему в руки упрощённый трафарет для суда над миром и ставит его перед дилеммой: или идиллия, или бегство; и этим он научает его морализирующему верхоглядству и безответственному духовному дезертирству. И наставляя человека к такой мнимой мудрости и праведности, он, по-видимому, совсем не даёт себе отчёта в том, что его учение насаждает в душах противорелигиозное высокомерие и ослепление.
Именно это отсутствие верного религиозного самосознания и позволяет ему прикрывать своё слепое бегство ссылкою на «волю Божию». В самом деле, если мир создан Богом, то почему же он «зол» и «безнравствен»? А если он «безнравствен» и «зол», то как же может он находиться в «воле Божией»? Если мир создан Богом, то какое право имеет человек призывать к мироотвержению? А если он бежит от мира, как управляемого безбожным законом борьбы, то откуда же эти успокоительные ссылки на волю Божию, правящую миром?
Однако сентиментальный моралист не считается с этим и выдвигает идею «воли Божией» каждый раз, как ему необходимо прикрыть своё собственное морализирующее безволие. Волевое участие человека в несении бремени мироздания он объявляет «грубым суеверием»; «истинная» же вера состоит в том, чтобы отнести всё, беспокоющее его душу, «внешнее» общественное зло к воле Божией. Эта «истинная» вера утверждает, что всякая неуговоримая злоба и все её злодейские проявления посланы Богом и что всякая попытка пресечь эти злодейства была бы сущим святотатством. Если принять это учение, то окажется, что Бог «хочет» не только того, чтобы все люди любили и жалели друг друга, но ещё и того, чтобы очень многие люди, не поддаваясь на жалостливые уговоры других, свирепствовали и злодействовали, физически насилуя и убивая добродетельных и духовно растлевая слабохарактерных и детей; и, далее, окажется, что «Бог» совершенно «не хочет» того, чтобы деятельность этих свирепых негодяев встречала организованный отпор и пресечение. Уговаривать злодеев «Бог» позволяет; расширять объём их злодейства предложением себя в жертвы «Бог» тоже разрешает; но если кто-нибудь, вместо того чтобы предоставлять злодеям всё новые беззащитные жертвы и отдавать им младенцев в духовное растление, вознегодует и захочет пресечь их неуговоримое злодейство, то Бог осудит это как кощунство и безбожие. Когда злодей обижает незлодея и развращает душу ребёнка, то это означает, что это «угодно Богу», но когда незлодей захочет помешать в этом злодею – то это «Богу не угодно». «Воля Божия» состоит в том, чтобы никто не обижал злодеев, когда они обижают незлодеев, ибо «по Его воле» все дети, все слабохарактерные, все добрые люди отданы в непререкаемую и бесспорную добычу растлителям и злодеям, свирепость которых остаётся неприкосновенною святынею для всех остальных людей. И тот, кто этого не понимает или не соглашается с таким толкованием и «берёт меч», предпочитая лучше погибнуть самому «от меча», чем предательски соучаствовать в торжестве зла, тот объявляется безнравственным и безрелигиозным человеком, злодеем, не верующим в Бога.
Прикрывая своё сентиментальное безволие и свой близорукий нигилизм таким чудовищным религиозным построением, приписывающим Богу волю ко злу и к свободе злодеяния, моралисты, по-видимому, не замечают, как всё это обывательское богословствование и морализирование приводит их к целому гнезду религиозных противоречий и нравственно-фальшивых положений. Так, с одной стороны, Бог есть «любовь» и хочет от людей взаимного «сострадания» и «единения»; с другой стороны, он хочет злодейства, свободы и безнаказанности для злодеев. С одной стороны, только добро соответствует воле Божией и человеческая воля получает недостижимый для неё идеал морального совершенства; с другой стороны, всё, что совершается, совершается по воле Божией, и злодей, злодействуя по Его воле, не имеет никаких оснований воздерживаться от своих злодеяний, но всегда может прикрыть их тою же ссылкою, которою моралист прикрывает своё безволие. С одной стороны, человек должен принять волю Божию как свою («совесть», «сострадание») и исполнять её в жизни; с другой стороны, человек обязан извлечь свою волю из той сферы («внешний мир», «чужая свобода»), где начинается «воля Божия». Но это означает, что всё учение о соотношении Божией воли и человеческой воли становится жертвою противоречия и произвола. Сентиментальный моралист то «приемлет» волю Божию, когда это приятие ведёт его к пассивному наслаждению жалостью, то не «приемлет» её, когда это приятие повело бы его к героическому волевому служению. Это объясняется тем, что он обращается к Богу, Его дарам и исходящим от Него испытаниям и заданиям не «всею душою, и не всем помышлением, и не всею крепостью», а только сентиментальностью своего ищущего наслаждения и безвольного «сердца». Именно поэтому он оказывается религиозно слепым в обращении к «внешнему миру», с его таинственной сложностью, с его трагедией разъединения и волевыми заданиями, с его сущностью, не сводимою ни к идиллии, ни к богопротивному окаянству. Религиозный опыт моралиста – бездуховен, безволен, односторонен и скуден; его «религиозное учение» есть порождение самодовольного рассудка, пытающегося извлечь Божественное Откровение из беспредметно умилённой жалостливости. Вся религия его есть не что иное, как мораль сострадания. Но эта мораль и её сострадающий подход даёт человеку не опыт Божьего совершенства, а только опыт человеческого сострадания: она видит мучающегося человека и сводит всё Откровение к сочувствию этой муке. Но это значит, что он воспринял не человека через Бога, а осмыслил Бога через человека и не человека осветил лучом любви к Богу, а восприятие Бога затемнил состраданием к мучающимся людям; именно поэтому он нашёл страдающего человека, но не нашёл ни его отношения к Богу, ни своего отношения к Богу, ни отношения Бога к нему, страдающему, и к себе, безвольно и сладостно жалеющему. И всё это недоразумение он попытался выдать за учение Христа.
Если это религия, то религия, связующая не человека с Богом, а человека с человеком, и притом связующая неверно и некрепко: не дух с духом перед лицом Божиим, а душу с душою перед лицом земного мучения; эта связь творится не всею душою и не волею, а лишь аффектом внутреннего умиления; она слагается во взаимном сочувствии к тягостям личной жизни, но распадается в безвольном отвержении общего бремени при первом же дуновении подлинного зла. Настоящая религия начинает от Бога и идёт к мироприятию, а это учение начинает от человека и идёт к мироотвержению. Настоящая религия приемлет мир волею, но цельно не приемлет восстающего в нём зла и потому ведёт с ним волевую, героическую борьбу, а это учение не видит мира из-за гнездящегося в нём зла и потому отвёртывается и от зла, и от мира, и от волевой борьбы с ним. Настоящая религия есть творческое горение о добре, т. е. о духе и любви, а это учение утверждается как практическое безразличие к работе зла в мире, к духовности человека и к её судьбам на земле. Настоящая религия приемлет бремя мира как бремя Божие в мире, а это учение отвергает бремя мира и не постигает того, что это мироотвержение таит в себе богонеприятие…
Таковы религиозные основы этой сентиментальной морали. Последнее слово её есть религиозное безволие и духовное безразличие, и в этом безволии и безразличии она утрачивает предметность и силу религиозной любви и не постигает ни её земных заданий и путей, ни её видоизменений и достижений в мире.