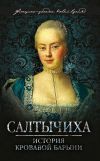Читать книгу "Салтычиха"

Автор книги: Иван Кондратьев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава VI
Последствия
То, что случилось в лесной сторожке Никанора во время посещения ее Салтычихой, имело последствия довольно мрачного характера.
Никанор, обходивший дозором лесные чащи, возвратился в сторожку только тогда, когда Салтычихи там уже не было.
Салтычиха, расправившись по-своему с Галиной, в сопровождения тех же своих приспешников, Акима и Сидорки, поскакала уже в Подольск с намерением во что бы то ни стало отыскать Тютчева.
Тютчева она там не нашла.
По дороге в Подольск молодой человек весьма благоразумно рассудил, что Салтычиха в покое его не оставит, будет преследовать и, чего доброго, снова заберет в свои руки. Во избежание чего-либо подобного вместо Подольска он направился прямо в Москву и всю дорогу обдумывал план, как бы ловчее, не попавшись самому впросак, сделать донос на Салтычиху.
В сущности, Тютчев довольно сильно побаивался Салтычихи, и донос его на нее мог иметь для него, маленького человека, весьма неприятные последствия. Салтычиха была богата, ей уже многое сходило с рук, и, кроме того, у нее были по родству и связям покойного мужа сильные покровители. Родной племянник ее мужа, Николай Иванович Салтыков, впоследствии светлейший граф и знаменитый главнокомандующий Москвы, на служебном поприще подымался уже в гору и имел всюду значение. Родная племянница покойного Глеба Алексеевича Салтыкова была замужем за А. П. Мельгуновым, очень сильным лицом того времени, другом знаменитого И. И. Шувалова. Тютчеву хорошо было известно, что хотя эти родственники и с некоторым пренебрежением относятся к неродовитой Салтычихе, но тем не менее ради ее богатства и детей вели с ней переписку, посещали ее изредка в ее лубянском доме и, во всяком случае, не прочь будут за нее вступиться. Все это молодой инженер знал по опыту, так как ему уже раза два приходилось отстаивать пред московской полицией темные дела Салтычихи. Какие-нибудь маленькие записочки ее родственников были лучше всяких доказательств и выводов. Небезызвестно было Тютчеву и то, чем расплачивались доносчики: их били кнутом и ссылали в Сибирь. Положим, это были крепостные Салтычихи, которым в таком случае не доверялось. Но ведь и он птица невелика, хотя и дворянин, – в то время с такими дворянами, как он, не особенно-то церемонились. Ввиду таких обстоятельств донос его, Тютчева, мог быть мечом обоюдоострым. Взволнованный молодой человек склонялся то в одну сторону, то в другую: то ему хотелось проучить Салтычиху на страх всем подобным помещицам, то грозная Салтычиха являлась перед ним каким-то неуязвимым зверем. В конце концов он остановился на доносе.
«Что будет, то будет, а я донесу… – рассуждал он. – Не сошлют же меня в Сибирь, кнутом не побьют, пытать не будут, хотя я и не докажу всех ее зверств, – все-таки я дворянин и человек служащий, меня кое-кто и из высокопоставленных особ знает, и я приношу пользу своему отечеству. В сем деле, может статься, помогут мне и сей мужичонка молодой и та девица». Вспомнив о Галине, Тютчев забыл уже все остальное и остановился мыслью на образе этой дикой, но прекрасной девушки. «И какая смелая! Дворянина – и за шиворот! Да и сильная какая, здоровая, словно кобылка молодая, так вся и пышет кровью! Удивительно! У мужика, у какого-то грубого полесовщика, – и такая прекрасная дочь, такая, можно сказать, красивая во всех отношениях особа! Еще удивительнее, что этакой дрянной мужичонка, дворовый какой-то, Сидорка там, что ли, его звать, – и имеет счастье быть любимым такой красавицей! Фи, как все в жизни сей несообразно! И как все несообразно распределяется! Я вот, к примеру, я… я самый, к примеру, неудачливый человек! Ищу, как говорят люди, ложки, а попадают мне одни плошки!.. Несуразно!..»
Обдумывая и рассуждая таким образом, Тютчев въезжал в Серпуховскую заставу. Хмуро и уныло глядел на город осенний полдень. Накрапывал дождик, и все под его частой туманной сеткой казалось серым и неприветливым; особенно печально выглядели пригородные хибарки мещан и огородников, все мокрые, все облезлые. Две поджарые, худые собаки сиротливо рылись и вынюхивали что-то в навозной куче у самой заставы. Штук пять вороватых ворон и галок прыгали тут же в надежде поживиться. Собаки не обращали на пернатых внимания, хотя те подскакивали почти к самому их носу. Въезжая в заставу, Тютчев почему-то искоса загляделся на этих ворон – и ему как-то сразу стало грустно. Какая-то давнишняя беспомощная тоска охватила его сердце, смутила вконец его душевный покой.
В тот же день, однако, поселившись близ Самотеки, Тютчев занялся кое-какими предварительными справками относительно задуманного. Прежде всего он побывал у отца Варфоломея, священника церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, надеясь найти в нем надежного союзника по доносу. Но молодой человек в этом отношении горько ошибся. Отец Варфоломей, человек относительно умный, старый, рассудительный, сдержанный, много мирволивший Салтычихе и поэтому щедро получавший от нее даяния, был, понятное дело, на стороне своей благодетельницы-прихожанки. Он был очень удивлен и поражен, даже испуган предложением Тютчева.
– Нет-нет, вьюноша, нет, дело твое неправое, дело твое кривое! – говорил он серьезно и сосредоточенно Тютчеву.
– Почему же, отец мой, неправое? Каким образом? – спрашивал Тютчев.
– А потому, что ты млад еще, сын мой… И по младости лет дело такое затеваешь, затеваешь по злости…
– Но ведь все то правда, что я сказал.
– Неправда, неправда и великая неправда! – замахал отец Варфоломей руками. – Добродетели Дарьи Николаевны, ее посильные жертвы для храма, ее благодеяния для бедных прихожан мне доподлинно известны… Злых же дел за ней я никаких не видывал, не слыхивал и, думаю так по простоте своей, по своему разуму стариковскому, не увижу и не услышу. Бросьте, бросьте все cиe, вьюноша! Бросьте, советую вам! По младости можете сами бедствия испытать, и немалые.
– За что же, отец? – наивно спрашивал молодой человек.
– За тщету, за суету мирскую.
– Стало быть, злые дела надо скрывать, потакать им?
– Не говорю сего, вьюноша, не говорю! – отделывался отец Варфоломей от навязчивого посетителя. – Злые дела всегда будут наказуемы – всякому воздастся по грехам его, всякий получит свое: злой – злое, добрый – доброе. Будет испытание в помыслах нечестивого, и слух слов его возойдет ко Господу в обличение беззаконий его.
– Так вот, отец, нам бы и следовало указать беззакония Салтычихи, – ухватился за библейское выражение отца Варфоломея Тютчев.
– Берегись злоречия языка, вьюноша! Клевещущие уста убивают душу, – продолжал поучительным тоном отец Варфоломей.
– Но ведь я не клевещу! – доказывал свое Тютчев.
– Клевещешь! – сурово произнес над ним отец Варфоломей и еще раз посоветовал бросить cиe дело, непременно бросить. В конце концов он намекнул даже о том, что он может примирить его с Дарьей Николаевной, отчего ему, Тютчеву, будет не в пример большая прибыль.
Тютчев ушел от отца Варфоломея злой, расстроенный и бранил себя за то, что позволил себе обратиться к нему с таким щекотливым вопросом, как борьба с Салтычихой. Беседуя с отцом Варфоломеем, Тютчев пришел к заключению, что почтенный старец большой защитник Салтычихи и что он даже сообщит ей о задуманном им, Тютчевым, доносе.
Тютчев в зтом отношении не ошибся. Всю наступившую ночь отец Варфоломей, небезгрешный в делах с Салтычихой относительно умиравших в ее доме людей, не мог заснуть и не мог забыть того, что затевает Тютчев. Старику, человеку совсем не злому, миролюбивому, вовсе не хотелось, чтобы дела Салтычихи, о которых ему хорошо было известно, выплыли наружу. Вместе с обнаружением своевольств Салтычихи, само собой разумеется, обнаружатся и те «умалчивания», которые допускал старик относительно Салтычихи. Не минует, понятно, кара закона и его, хотя он и умалчивал о делах Салтычихи как человек по тому времени весьма незначительный из боязни к ее силе и значению. Да и что бы значил перед Салтычихой какой-либо протест какого-то никому не известного, бедного священника! Она бы его просто стерла с лица земли, уничтожила бы, как пылинку. Отцу Варфоломею очень хорошо было известно, как поступала и поступает грозная барыня и не с такими людьми, как он, маленький и беззащитный. Скрепя сердце он должен был ладить со своей богатой страшной прихожанкой и должен был делать то, что ей угодно. Старик сознавал, что Тютчев прав, что он должен сделать то, что хочет сделать, что это будет справедливо, но в то же время и не хотел, чтобы Тютчев так поступил. И сердце у старика ныло и болело, что он по необходимости должен стоять головой за Салтычиху. Много отец Варфоломей прожил на свете, ему уже лет около семидесяти, много он бед перенес, много горя пронеслось над его головой, пока он не попал священником в церковь Введения. Не хотелось ему кривить душой на старости лет, а необходимость покривить являлась. Не суда боялся старик – боялся позора.
К утру отец Варфоломей немного вздремнул, но скоро проснулся и тотчас же принялся составлять письмо к Салтычихе. Как на доносчика на Тютчева старик не указывал, совесть не позволяла ему клеветать на человека. Он просто-напросто сообщал ей, что в Москве слухи о ее деяниях усиливаются и что ей поэтому нужно быть настороже. В тот же день письмо с нарочным было отправлено в сельцо Троицкое. Но Салтычиху в сельце оно не застало.
Салтычиха весь тот день сновала по Подольску, отыскивая бежавшего инженера. Разумеется, она его там не нашла и возвратилась к ночи в сельцо страшно утомленная и разбитая. Письмо отца Варфоломея еще более расстроило ее. Она снова принялась было за допросы, потом допросы бросила и начала советоваться с Фивой, как бы ей поймать Тютченьку и проучить его так, чтобы он долго помнил ее науку. Фива весьма благоразумно заметила, что Тютчев непременно удрал в Москву, непременно что-нибудь против нее, барыни, затевает, и что поэтому ей самой надо поторопиться в Москву и там уже ловить «злодея и изменщика».
– Быть так! – решила Салтычиха. – Завтра же с утра мы и выберемся в Москву. Только, Фивка, не забудь захватить с собой и Никанорову потаскушку, Галинку. Я у этой приворожницы в Москве попытаюсь еще раз порасспросить кое-что о Тютченьке, как он к ней попал и зачем. А то она в сторожке-то своей не больно много порассказала про свои и Тютченькины проказы.
– Захвачу, золотая моя, захвачу! – отвечала Фива.
В сторожке между тем и накануне и в этот вечер происходило совсем иное. Когда Никанор возвратился в сторожку, то застал дочь бледной, страшно взволнованной, дрожащей, но не плачущей.
– Галя!.. – только и мог произнести он, взглянув на дочь.
– Была барыня… тут… сегодня… – каким-то тихим, чуть хриплым голосом сообщила Галина не глядя на отца.
– Чево ей?
– Барина все того ищет, что ночевал у нас.
– Ну?
– Не нашла, вестимо, – уныло постаралась улыбнуться Галина.
– А расспрашивала о нем… о барине-то?..
– Вестимо, расспрашивала… по-своему… – отвечала дочь, потупившись.
Старик побледнел и дрогнул. Он знал, как Салтычиха расспрашивает по-своему, как она расправляется.
– Кто ж был с нею… Акимка?.. – спросил Никанор дрожащим голосом.
– Двое были, Акимка и Сидорка… – ответила дочь и вдруг начала истерически хохотать.
Никанора этот смех резнул по сердцу, как ножом.
– Галя! Галя! Чего ты?
– Да уж больно чудно, батюшка! – проговорила девушка, не переставая хохотать. – Сперва меня Сидорка… да тихо, жалеючи… парень добрый… А потом его Аким, а он Акима… Такие чудные!.. А Салтычиха-то ревет, а Салтычиха-то гогочет… «Породнились, – говорит, – все! Кумовья не кумовья, – говорит, – а кашу одной ложкой черпали!..»
Девушка залилась хохотом еще более. Но зато Никанор, отец, стоял перед нею словно к смерти приговоренный и тупо глядел на валявшиеся всюду по полу какие-то длинные прутья…
Глава VII
На майдан
Через час Никанора в сторожке уже не было. Он для чего-то пробирался лесом на майдан, то есть на место, где когда-то гнали деготь.
Никанору хорошо была известна пустынность этого места, и там на него всегда производила впечатление одна высокая, необыкновенно кудрявая сосна.
На это у него была своего рода причина.
Немало лет, когда Галина была еще ребенком, он, Никанор, под этой кудреватой сосной навсегда распрощался со своей дорогой женой Василисой, кровной цыганкой, выданной за него по каким-то видам покойным троицким барином Глебом Алексеевичем Салтыковым. Как она, Василиса, попала к покойному барину, откуда она, почему барин выдал красивую Василису за него именно, а не за кого-либо другого, – Никанору не было известно, и он в течение трех лет, которые прожил с Василисой, никогда не старался об этом разузнавать ни от самой Василисы, ни от дворовых. Василиса почему-то и сама умалчивала обо всем этом, да и вообще была на всякую речь скупа, держала себя с Никанором хотя и не холодно, но довольно сурово. Часто куда-то отлучалась из сторожки, а иногда и пропадала по целым дням. Только один раз, всего только один раз, Никанор как-то и позволил себе спросить у нее:
– Васена! Ты была где-то? Аль у меня нудно?
– Нудно не нудно, – отвечала спокойно Василиса, – а только о том, где я бываю, ты у меня, муженек, вдругорядь не спрашивай – тебе того знать не надобно.
– Отчего бы так, Васена?
– Не скажу! А хочешь следить – следи.
– Следить мне нечего! – нахмурился Никанор и с тех пор уже ни разу не начинал подобной речи с Василисой.
Следить за ней он не думал. В этом Василиса была уверена.
Никанору же какое-то странное чувство подсказывало, что в отлучках Василисы ничего нет дурного.
Василиса не переставала пропадать почасту, когда родилась у нее и дочка. В это время она уже уходила с малюткой на руках, с нею же на руках и возвращалась и при этом нянчилась с нею по целым дням. Видимо, она любила малютку горячо и страстно.
Один случай подтвердил это Никанору как нельзя более.
Василиса ушла как-то с утра, по обыкновению с Галиной на руках.
Скучно стало Никанору без молодой жены, вышел он из сторожки и побрел по лесу, скучая и тоскуя. Вдруг в небольшом березнячке, разросшемся на довольно обширной полянке, он услышал какой-то странный голос. Прислушался: голос его жены. Любопытство взяло верх над благоразумием, и Никанор стал осторожно пробираться к тому месту, откуда слышался голос жены. Когда он приблизился, то увидел следующее: Василиса сидела на траве с венком на голове из березовых прутьев с листьями, качалась из стороны в сторону с ребенком на руках и диким, заунывным голосом пела чисто цыганскую песню на чисто цыганском наречии.
Затаив дыхание Никанор слушал и не отводил глаз от красивого лица Василисы и качающейся, видимой ему только сзади, головки его дочери.
Василиса пела:
Ай, кэрдя же о чаиоро
Трин биди глощыны:
Перва беда тэлэ чидя
Пэскире окарбаса,
А о вавир тэлэ чида
Пэскорэ гадяса,
А э трито тэлэ чидя
Пэокирэ ромняса[1]1
Ай, сделал же пареньТри беды, три уголовья:Первую беду долой сбросилОн своей казною,А вторую беду долой сбросилСвоим умом-разумом,А третью беду долой сбросилСвоей молодой женой.
[Закрыть].
После своей необычайной песни цыганка быстро встала и, не выпуская малютки из рук, закружилась с нею, точно в пляске, направо и налево, прикрикивая гортанно: «Ага-ага-ага-ага-ага! Хоп-хоп!»
Малютка, довольная такой проделкой матери, смеялась во все свое детское горлышко и махала в воздухе своими пухлыми ручонками, как бы подражая движениям матери. Мать и дочь, видимо, наслаждались этой незамысловатой забавой, полной наивности и чарующей прелести посреди окружающей их массы зелени, под куполом этого ясного, знойного неба.
При виде всей этой картины отцовское сердце Никанора дрогнуло радостью, и он, совершенно забывшись, шагнул к своей жене и дочери, шумно раздвинув чапыжник, в котором прятался.
Лицо Василисы вдруг стало сурово, когда она увидала мужа. Она нахмурила брови, сжала губы и вытаращила глаза на приближавшуюся к ней фигуру дюжего Никанора.
– Ты? – сказала она внезапно охрипшим голосом.
– Аль помешал? – отвечал Никанор, останавливаясь перед ней шага за два.
– Ни-ни! – произнесла жена. – А только иди куда шел, не трогай нас, иди от нас… Иди, иди!
Никанор постоял с минуту, молча глядя исподлобья на пылающее от зноя лицо жены, и побрел далее, полный смутных чувств – и безотчетной радости, и безотчетной грусти. Он теперь был уверен, куда именно уходит его жена и что делает. Для него не было сомнения, что ее дикая, привыкшая, может быть с детства, к бродячей жизни натура требовала в известное время своеобразной воли и своеобразного веселья.
Вскоре после этого случая Салтычихе почему-то вздумалось взять Василису снова на барский двор. Это повеление было передано Никанору через управляющего, и Василисе приказано было явиться через день.
– Ладно, приду… – сказала на это Василиса посланному, а мужу шепнула: – Пойдем на майдан – я кое-что скажу тебе там… надо мне…
Когда посланный ушел, Василиса взяла на руки Галю, некоторое время нянчилась с ней, ласкала, целовала, а потом уложила ее спать.
– Спи, – сказала она, – пока не приду. А приду – припаси для Салтычихи камень: она отняла у тебя мамку…
Никанор не слыхал этих загадочных слов: он искал что-то в сенях, роясь там в хламе.
На майдане Василиса немного сказала мужу.
– Ну, прощай, дядя, – сказала она, – не поминай лихом, не кори, не брани.
Никанор удивился:
– Не навек же мы расстаемся с тобой, Васена!
– Как знать! Может, и навек. У Салтычихи жить – с огнем дружить. Прощай!
Муж и жена поцеловались. Затем Василиса, низко надвинув на глаза платок, быстро исчезла в частом сосняке, начинавшемся на окраине майдана.
Никанор долго стоял под той кудрявой сосной, где он распрощался с Василисой, стоял угрюмый, недовольный, потом тихо побрел в сторожку и только тут дорогой начал соображать: «Как же так она одна, без дочки, ушла на барский двор? Кто же будет ходить за дочкой?»
У самой же сторожки он решил, что, вероятно, Василиса еще возвратится к нему, возьмет с собой Галю, свою дочку, и будет с нею жить на барском дворе.
Василиса, однако, не возвращалась – не возвращалась день, не возвращалась другой. Никанор как умел возился с малюткой – кормил ее, убаюкивал, играл с ней. На третий день от Салтычихи пришел посланный с грозным приказом, чтоб Василиса немедленно явилась на барский двор.
– Да она ушла! – заявил Никанор.
– На барском дворе ее нет, – сообщил посланный и заметил, подумав: – Да уж не ушла ль она у тебя, Никанор, совсем… куда ни на есть… А?
Тут только Никанор понял загадочность прощания с женой, на которую он тогда не обратил внимания.
– И то, не ушла ль… – сказал он глухо после долгого молчания.
И сердце его защемило страхом неизвестного будущего, и оно сильно заныло…
Когда все объяснилось, Никанора, за «недосмотр за женой» сводили на конюшню, а затем оставили его в покое. Относительно же сироты-девочки, его дочери, Салтычиха сказала:
– Пусть кормит как знает… не околеет, чай: цыганское отродье живуче… они что кошки: убей, перетащи на другое место – и оживет…
Девочка в самом деле пережила все те невзгоды, какие только пали на ее детскую головку. Бог уж весть каким путем, но Никанор завел у себя козу и ее молоком вскормил свою дочку. Когда девочка подросла и стала ходить, то нашлись сердобольные дворовые девушки, которые нет-нет да и притаскивали что-нибудь для малютки с барского двора.
Вспомнила наконец о девочке и сама Салтычиха.
– Жива, что ли, еще эта цыганская замарашка? – спросила она как-то у Фивы.
Та справилась и дала утвердительный ответ.
– Ну вот, я говорила, что не околеет, переживет.
По этому поводу Никанору кое-что прибавили на харчи.
В это же время какая-то нищенка оставила в Троицком четырехлетнего мальчика. Мальчика взяли на барский двор, но там он никому не понравился, и поэтому решено было отдать его для воспитания в Никанорову сторожку.
«Коль сумел взрастить девчурку, мальчонку взрастит и подавно», – решено было на барском дворе. И маленький Акимка очутился у Никанора, которого появление в сторожке нового живого существа весьма обрадовало, тем более что и на долю Акимки было прибавлено кое-что на харчи. Была рада появлению в сторожке Акимки и маленькая Галя.
И вот дети зажили вместе, пока не выросли и пока Акима не взяли на барский двор и не сделали из него известного уже нам любимого кучера Салтычихи и любимого ее приспешника Акима-живодера, по выражению дворовых.
Все это, пережитое и передуманное в течение нескольких лет, пронеслось в голове Никанора на пути к майдану, хотя он и шел туда в каком-то странном полузабытьи. Чем более он приближался к майдану, тем более ему становилось тяжело. Он шел и уж чуть не падал на землю. Подобно человеку, ошеломленному ударом по голове и устоявшему на ногах, он находился в состоянии какого-то умственного оцепенения, мешавшего ему и здраво чувствовать и здраво рассуждать…
Но вот и майдан, вот и знакомая ему кудрявая сосна, высокая, печальная в своем одиночестве. Он подошел к сосне, остановился и посмотрел мутными глазами вокруг. Все то же, что он давно знал и видел. Вон грудами лежат остатки сухих кореньев. Вон несколько выкорчеванных сухих пней, оказавшихся непригодными к делу, с серыми боками и длинными, тонкими и крючковатыми кореньями, похожими на какие-то гигантские ноги паука. Вон яма, покрытая дерном, с черным отверстием, заросшая теперь изумрудно-зеленой плотной травкой. Вон какие-то разбитые кирпичи, вон мусор, остатки костров, вон покинутый срубик рабочих. А вокруг на довольно большом пространстве – все пни, пни и пни…
Зачем он здесь?.. Зачем оставлена эта одинокая сосна, свидетельница его давнишнего горя?..
Никанор как будто что-то вспомнил. Он начал что-то вытаскивать из-под полы, что развевалось и падало на землю, а он торопливо подбирал, как будто боялся потерять…
Зачем он здесь?.. Он не знает, он не помнит, зачем он здесь, на этом пустынном майдане, под этой одинокой сосной. Он помнит только одно – он помнит только те слова, которые он говорил дочери, Галине. Он говорил: «Удерживай меня, Галя! Удерживай!» Но Галя не слушала его, все хохотала. И он ушел…
Вскоре тишина леса нарушилась хриплым криком старого ворона, который зорким хищным оком своим увидел что-то качающееся на суку старой, одинокой среди майдана сосны… Затем прибавился еще крик, и еще, и еще… Хищники нашли добычу, хищники ожидали пира… И будет им пир… а где-то и много горя горького и много горючих слез!..