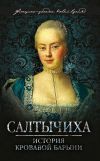Читать книгу "Салтычиха"

Автор книги: Иван Кондратьев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Сказав это, он презрительно обернулся, вполне уверенный, что то словцо, которое он произнес, не раскусить никому из дворовых, стоявших возле Галины изумленной толпой.
Глава XIII
Калмычка
Что-то совершенно новое, не сразу поддающееся объяснению свершилось с Салтычихой с тех пор, как она приблизила к себе Галину. Галина стала для нее все: без Галины она не садилась за стол, без Галины не вставала и не ложилась спать, с Галиной прогуливалась и с нею же непременно ездила по своим надобностям в город, и при этом Галина помещалась не где-нибудь на передке или на запятках, а рядом со своей госпожой, и только одно делала, что помогала госпоже выйти из кареты и держала в руках ее ридикюль. Изумленная дворня не понимала, почему такое счастье выпало на долю именно Галины, а не какой-нибудь другой девушки, которых так много было в доме Салтычихи и которые и по праву усердия, и по красоте, да и по уму, пожалуй, могли бы быть замечены и избраны госпожой в приближенные калмычки. (А калмычками, надо заметить, в то время, по моде, назывались в барских домах все те из крепостных девушек и женщин, которые так или иначе близки были к господам.) Но так как счастье выпало все-таки на долю Галины, которую все прежде называли не иначе как «леснушкой», всем в доме приходилось примириться с этим и волей-неволей даже заискивать у счастливицы. Все как-то смирились перед Галиной, почувствовали себя и ниже и слабее. Более опытные начали искать с ней сближения, льстили ей, задабривали, видя, какое она имеет влияние на грозную Салтычиху. В числе этих опытных дворовых, и даже одними из первых, были и знакомые нам кучер Аким и заносчивый повар Качедык. Последний до того довел свое заискивание у Галины, что начал даже род какой-то своеобразной войны с остальной дворней, доказывая ей кстати и некстати, что все они, то есть все дворовые, против Галины Никаноровны свиньи, и больше ничего, и что такая калмычка была бы ко двору и у такого вельможи, каким был его прежний, покойный барин, царство ему небесное. Разумеется, дворовые мало обращали внимания на доводы Качедыка, но уважать Галину все-таки уважали и немало побаивались ее, так как от Галины действительно многое уже стало зависеть, и Галина много уже раз доказала и свое значение и свою силу. Значение это и эту силу она не употребляла, однако, во зло, и многие из дворовых в последнее время были обязаны ей своим спасением и от кнута, и от побоев, и от других истязаний, щедро и немилосердно сыпавшихся прежде на всех провинившихся в чем бы то ни было. В этом отношении Салтычиха часто даже советовалась со своей новой любимицей. Подзовет, заведет речь:
– А Стешку Горюшкину надо бы сегодня в баню…
– Да сегодня, барыня, середа – баню не топим, – хитрит Галина, точно не понимая, о какой бане для Стешки Горюшкиной говорит Салтычиха.
Салтычиха смеется, ее забавляет немудреная наивность. Галины, и она, смеясь, поясняет:
– Аль позабыла, какова наша баня?
Галина недоумевающе и плутовато смотрит на барыню. Она видит, что Салтычиха в хорошем расположении духа и есть надежда, что Стеша Горюшкина может избежать салтычихинской бани.
– Что глазами-то моргаешь? – продолжает барыня. – Баня-то Стешке надобна! Глянь-ка, как она, чертовка мохнорылая, чинчиры мне выстирала!
Галина знает, что чинчиры (часть тогдашнего женского одеяния) точно выстираны плохо, но все-таки старается как-нибудь оправдать провинившуюся девушку:
– Ах, барыня, барыня! – соболезнующе говорит она. – Вы и не знаете, как она хворала в позапрошлую неделю!
– Кажись, ты, Галька, врешь! – уличает девушку в наивной лжи барыня. – Я сама видела, как она и в позапрошлую, и в прошлую неделю по двору шлюндала да с Киркой Крючконосым под топольками перешептывалась. Так сама своими глазами из окна и видела. Я тогда еще хотела охолодить ее маленечко, да как-то запамятовала. Теперь бы ей и за то и за другое.
Галина берет грех на душу: она начинает божиться, что Стешка Горюшкина действительно была больна, что она хотя и ходила, но ходила через силу, а что касается Кирки Крючконосова, то она, может, с ним советовалась по поводу хворости, так как Кирка Крючконосый давно уже слывет среди всей дворни за знахаря.
Плохо верит Салтычиха словам защитницы, хотя и знает, что Кирка Крючконосый точно знахарь, но все-таки поддается влиянию Галины, защита берет перевес: Стешку Горюшкину барыня прощает, но предупреждает:
– Пусть бережется, шлюха этакая! Попадется еще раз – все припомню, за все разы отдубашу, рубеля не пожалею!
Иногда подобная защита была не у места и могла на виновницу навлечь еще большее наказание. Тогда добрая девушка пускалась на новую хитрость.
– Зинку Смольячку вздуть надо! – решала строго и сурово Салтычиха, хмуро поводя глазами.
По выражению лица Салтычихи Галина ясно видела, что Зинке Смольячке вздутья не избежать. Вероятно, вина Зинки была велика и у барыни давно уже накипела к ней злость непомерная. Надо было выручать Зинку, иначе Зинка благодаря усердию Акима-кучера и Анфима-дворника не встанет с постели недели две, а то и совсем не встанет никогда.
Галина хищно и злостно сверкает глазами, хмурится, почти задыхается от какого-то обуревающего ее сердце озлобления (у нее это выходило, как у цыганки, весьма натурально), и она тоже почти натурально коварствовала перед Салтычихой:
– Уж и давно стоит с Зинкой с этой, со Смольячкой, как следует посчитаться! Уж такая-то носотыка – не приведи господь: везде-то она хвостом вертит, везде-то нос свой сует, везде-то языком, что помелом, метет! Не по нутру она мне, барыня… уж вот как хотите, а не по нутру! И сплетница-то, и привередница-то, и девок других смущает всегда и всюду! Уж я бы ее, барыня!.. Попадись она мне только!..
Галина в азарте защиты играет в плохую игру: она подливает масла в огонь. Малейший каприз Салтычихи, малейшая запальчивость – и бедная Зинка Смольячиха считала бы на своем теле не только рубцы, но и кое-что похуже, ее могли бы снести и на ближайший погост. Но Галина знает, с кем имеет дело, она уже успела изучить нрав Салтычихи, успела уже приноровиться к ней и действовует почти наверняка.
Хитрость доброй девушки достигает своей цели. Зинка Смольячиха, минуя Акима-кучера и Анфима-дворника, головой выдается Галине с правом не церемониться с бестией и поступать так, как найдено будет удобным и возможным, в том духе, какой обыкновенно в таких случаях практикуется в доме Салтычихи.
Салтычиха, топая ногой, кричала:
– Бери ее, баранью башку, дурову! Да хорошенько этак… хорошенько… по-своему!..
Под словом «по-своему» Салтычиха разумела то почти зверское чувство, какое нередко проявляется у враждующих женщин и делает из них таких озлобленных фурий, о которых гадливо даже подумать. Салтычиха в этом отношении судила и по себе, и по тем примерам, кaкиe ей случалось встречать в жизни. Она вполне была уверена, что ни Аким-кучер, ни Анфим-дворник не сумеют додуматься до тех жестокостей, до каких додумается озлобленная (она была в том уверена) против Зинки Смольячихи Галина. Салтычиха заранее уже радовалась той расправе, какую придумает ее новая любимица. Все говорило в пользу ее предположения: и цыганская, дикая порода Галины, и ее пылкий, озлобленный нрав, и ее хотя и девичьи, но здоровые руки.
Выданная Галине головой Зинка Смольячиха отделывалась, конечно, пустяками, но кричала, стонала и жаловалась на все людские и даже показывала какие-то странные и сомнительные пятна на руках и шее. Салтычиху это тешило, и она, похваливая свою любимицу, смеялась от души, вовсе не подозревая, что она хотя и неискусно, но была одурачена молодой девушкой. Само собой разумеется, что подобные проделки были хорошо известны дворовым, и так как дело шло о их собственных спинах, то и держались они, эти проделки, в большой тайне, и всякому, кто бы осмелился донести о них Салтычихе, неминуемо грозила домашняя, может быть, еще более жестокая расправа, чем та, которая совершалась по приказанию Салтычихи. По крайней мере, в таком роде был случай, и девушка, пригрозившая было в какой-то злобе донести обо всем барыне, была так проучена своими же подругами, что закаялась когда-нибудь даже вспоминать о своей угрозе.
Более всех довольна была Галиной Агаша. Девушка эта чуть не молилась на свою подругу, так неожиданно попавшую в фавор к Салтычихе, и много предвидела от этого добра. В этом отношении она не ошибалась. Галина действительно хотела всем добра и в глубине души беспрестанно лелеяла одну и ту же мысль, как бы всех избавить от Салтычихи. Но сделать это было нелегко, да и не по ее уму было бороться с такой госпожой, какова была Салтычиха. Девушка очень хорошо знала, что доносы на Салтычиху не действовали. А между тем только одно это средство и могло быть действенным. Ей об этом твердил и Сидорка, твердила и Агашка. Галина слушала их, соглашалась и все чего-то выжидала. «Подожду, мол, авось Господь и вразумит меня на какое либо дело. Авось и помогу чем либо горемыкам и выведу дела Салтычихи на свет божий».
Ожидание не обмануло девушку. Как-то раз под вечер Салтычиха призвала Галину, вручила ей письмо и сказала:
– Отвези-ка это моему Тютченьке на Самотеку да подожди ответа. Ответа непременно подожди – он мне надобен, и, я знаю, ты получишь его! – заключила с особенной отчетливостью и выразительностью Салтычиха.
Странно и как-то особенно зло и глухо звучал в это время голос Салтычихи, и что-то зловещее сверкало в ее глазах.
Когда Галина вышла и торопливо пошла по Лубянке, направляясь к Сухаревой башне, ее догнал Сидорка.
– Галя, я знаю, куда ты!.. – остановил ее на мгновение Сидорка. – Ты к барину, к Никол Афанасьичу.
– К нему.
– Пойдем вместе. У меня до барина дело есть.
– Пойдем.
По дороге Сидорка, то и дело осторожно оглядываясь, начал что-то нашептывать Галине, и та слушала его, но ничего не отвечала. Только по неровной походке ее было заметно, что то, о чем говорил Сидорка, сильно волновало ее, занимало, тревожило. Она по временам даже вздрагивала и на мгновение остановилась, точно желая перевести дух. Почти у самого пруда на Самотеке, когда надо было повернуть в переулок, где в доме Панютиной жил Тютчев, Галина твердо и решительно произнесла:
– Погубим Салтычиху! Так тому и быть!
– Так тому и быть! – повторил Сидорка.
И оба при этом, точно затевая доброе дело, набожно перекрестились на видневшиеся в морозном сумраке золоченые кресты Троицкой митрополичьей церкви.
Глава XIV
Неприятная весть
Давно уже очерствевшее ко всему сердце Салтычихи никогда не было так возбуждено, как в тот вечер, в который она с Галиной отправила к Тютчеву письмо. Она почти с лихорадочным нетерпением ждала ответа, и хотя была уверена, что ответ получит непременно, но какой это будет ответ, в чем он будет состоять, она не знала и не могла догадываться, и потому вопрос этот сильно занимал ее и сильно тревожил.
Невозможные и безрассудные мысли лезли почему-то в голову Салтычихи, и она то и дело вставала со своего тяжелого кожаного кресла и нервно ходила из угла в угол своей громадной комнаты-спальни. Все ей казалось ненавистным и угрюмым – и этот зимний, длинный вечер, и эти полузанесенные снаружи снегом окна, и даже эта комната, к которой она давно уже привыкла и которая осталась неизменной в течение чуть ли не двух десятков лет.
В комнате этой, войдя в дом покойного мужа, она впервые почувствовала, что она в нем полная хозяйка, полная распорядительница всего того, что в нем находится, не исключая даже и самого его владельца, бывшего ее покорного мужа. В этой же самой комнате и на том же самом кожаном кресле, на котором она сидит, он и умер, муж ее, Глеб Алексеевич, нелюбимый ею на закате дней своих почти до ненависти. Смерть нелюбимого мужа не принесла ей, однако, того, чего она ожидала, – жизнь потекла и скучно и однообразно. И вот тогда горячая и суровая натура ее начала находить наслаждение в истязаниях приближенных к ней людей. Она вздурила, ожесточилась, сама чувствуя это, но и сама же не в силах обуздать свою взбеленившуюся натуру. Появление в ее доме Тютчева несколько успокоило ее, примирило с чем-то, с чем она почему-то считала нужным враждовать и драться. Тютчева не стало, и не стало по ее же вине. Не стало потом и Фивы, к которой она так привыкла и с которой так прекрасно провела два года в малиновом домике на Сивцевом Вражке. Воспоминания детства и юности повеяли своим благотворным влиянием на ожесточенную против кого-то и чего-то душу Салтычихи, проскользнули какой-то сверкающей струйкой и чуть было не вызвали слез из ее когда-то красивых, а теперь злых и подозрительных глаз. Но это было только мгновение. Салтычиха, как бы что-то вспомнив, сильно стукнула кулаком по столу, закричав:
– Да что же нейдет эта черепаха Галька?!
Гальке в это время было вовсе не до Салтычихи. Девушка в это время сидела в уютной, теплой комнатке Николая Афанасьевича Тютчева и внимательно слушала то, что он говорил.
Молодой инженер медленно ходил в своей любимой венгерке по комнатке и так же медленно и наставительно говорил, часто останавливая глаза на сидевшей, потупившись, Галине.
– Сам я не могу-с, – говорил Тютчев. – Мне теперь-то нет резона заводить с Салтычихой дела: у меня невеста и я скоро еду в ее орловскую вотчину. Не могу-с. А вы, ее холопы, вы можете. Вам cиe дело статочное, допустимое.
Галина подняла голову.
– Да ведь подавали – ничего не выходило, окромя того что доносчиков били и ссылали в Сибирь.
– Без того не можно-с, так уж давно заведено: холопы на господ доносить не могут-с, и теперешние законы не допускают показаний холопов на господ. Не допускают-с.
– Так тогда как же? – спросила недоумевающе Галина.
– Кое-как можно-с, – подумав, начал Тютчев, медленнее заходив по комнатке. – Можно-с… и даже оченно-с. Как тебе ведомо, ноне с двадцать шестого декабря прошедшего года царит император Петр Феодорович Третий. Сей достойный внук великого Петра (Тютчев произнес это многозначительно) весьма добр к своим подданным и весьма жалостлив: он отменил уже Тайных розыскных дел канцелярию, отменил также в войсках бесчестные наказания батогами и кошками и сыщикам и всяким другим фискалам указал не быть. Может статься, он и вас, холопов, взыщет своей милостью. Подавайте самому императору, в Питер. Подавайте-с.
– Да разве это можно – самому императору?! – изумленно и с некоторым испугом спросила Галина.
– Можно-с. Говорят, много доступен император и много добр. Оченно-с много добр.
– Так как же это, барин? Научите! Скажите! Мы люди темные.
– Пусть кто-нибудь едет туда, в Питер-с. Беспременно ехать надобно-с, и с просьбой-с, и за подписью всех-с, и чтоб все это досконально, верно, без утайки и без клеветы-с. Особенно без клеветы-с.
– Ах, уж, барин, какая клевета! – воскликнула Галина. – Чай, сами знаете, видели, какова она, Салтычиха-то наша, наша-то барыня грозная!
– Потому и говорю, что знаю. А что касаемо доноса: так и сделайте, как говорю.
– Да кто ж нам напишет-то его, донос-то этот?
– Напишет всякой. Кто угодно напишет-с. А я сам не могу-с: мне несподручно теперь-то с ней дела заводить. Пусть пишет, кто раньше писал.
– Да раньше у нас на дворе, говорят, Ермил-дворовый писал. Грамотный он был.
– Пусть Ермил и теперь пишет.
– Нету Ермила: Салтычиха его давно уже со свету сжила. Помер Ермил.
Тютчев помолчал, походил, потом, видимо принимая участие во всем том, что так сильно занимало девушку, заговорил:
– Впрочем, на примете у меня такой человек есть. Приходи-ка через денек-другой, вот о такую же пору, может, что и надумаю для вас. А сам я не могу-с, мне теперь не до того-с. Прощай, однако, любезная, мне недосуг, – проговорил Тютчев в заключение, заслышав в соседней комнате неопределенный кашель.
Галина торопливо поднялась.
– Прощения просим, барин! – произнесла она с низким поклоном и тотчас же вышла.
У ворот ожидал ее Сидорка, которого Тютчев не счел за нужное впустить к себе.
– Ну что? – спросил он.
– Обещал, – коротко отвечала Галина.
– Обещания мало, – сомнительно заметил Сидорка. – Он и ране мне в Троицком еще пообещал кое-что, когда я его из погребицы выпустил, а что-то из этих обещанков ничего не вышло. Да и у тебя тогда, в сторожке ночуя, городил и то, и се, и такое-этакое. Барин болтун!
– Где ж нам найти лучше-то?
– Найдем! – самоуверенно тряхнул головой Сидорка.
– Где ж это?
– Да он самый, Никол Афанасьич-то, по нашей дудке запляшет. Право слово.
– Эк ты, парень, говорить-то востер! За углом – рублем, а до дела пришлось – повесил нос!
– Зачем вешать! – не унывал Сидорка. – Я уж, у ворот-то стоя, кой-что обдумал. Право слово!
– Ну?
– Не ну, а стой! Что тебе говорил барин-то… касаемо нашей Салтычихи-то?.. Что говорил?..
– Говорил мало. Говорил, мол, что я зла не помню, а что касаемо старого, то пусть позабудет, я-де теперь жених и прочее такое. Пусть, мол, позабудет.
– Ну а ты скажи совсем другое, и скажи вот что…
Сидорка наклонился почти к самому уху Галины и начал что-то шепотом передавать ей. Та шла и слушала.
Сомнения Сидорки относительно Тютчева тоже были весьма основательны.
Как только Галина вышла, Тютчев торопливо вошел в соседнюю комнату. Там ждала его, сидя у маленького столика при двух восковых свечах, тоже очень маленькая девушка, на вид лет шестнадцати, бледная и болезненная. Это была невеста Тютчева, Анастасия Егоровна Панютина, довольно богатая орловская помещица.
Встретила она своего жениха совсем-таки неласково и с заметной брезгливостью начала пенять, что он принимает у себя всяких дворовых девок и делает им всякие обещания.
– Того не должно быть! – сказала она пискливым утомительным голосом, в нос, растягивая каждое слово, и в этом пискливом «не должно быть» слышалось столько властного и презрительного, что за бедного Тютчева становилось грустно.
По-видимому, молодой человек, как говорится, попал из огня да в полымя.
Тютчев перед своей невестой оправдывался тем, что это весьма необходимо, это имеет некоторую связь с его прошлой жизнью и необходимо для настоящего, что эта дворовая девушка спасла его однажды от самой верной погибели, и потому он должен был принять ее и выслушать.
– Ну дал бы золотой и выгнал! – пропищала Панютина.
– Того нельзя было учинить, – ответил Тютчев.
Панютина презрительно улыбнулась, причем ее маленькое личико, бестолково утыканное мушками, превратилось в какое-то печеное яблоко.
– Нельзя?!
Она некрасиво повела плечами и тонким-претонким пальцем правой руки дотронулась для чего-то до своих штопором завитых висков, а потом до флеровой беседочки (род тогдашней домашней девичьей шляпы) на голове, на которой целый день «месили тесто», как выражался тогда народ о напомаженных и напудренных головах.
Тютчев мялся.
– Ну да, ну да, я знаю, что тебе для меня всего нельзя, – продолжала пищать Панютина. – Я знаю, от кого эта девка – от Дарьи Николаевны Салтыковой. Я кое-что слыхала про эту госпожу. Про нее бог весть что говорят, но я этому не верю, все вранье и ложь. Говорят, что она жестоко обращается со своими крепостными. Я и этому не верю, и это все вранье и ложь.
Тут говорившая начала несколько задыхаться, почему Тютчев нашел необходимым ее успокоить:
– Анастаси, будет… довольно… успокойся…
– Не могу, я не могу! – уже почти стонала и охала Панютина. – Эти дворовые, я их знаю, на все пойдут, они и на доносы готовы.
Тютчева передернуло.
«Неужели она все слышала? – подумал он. – Ежели слышала – быть сегодня домашней передряге».
– Да-да, готовы! Уж и эта девка не затем ли приходила? И уж не просила ли она тебя донос писать? Да-да, говори! Говори, я требую! Я слышала, салтычихинские не раз донос в Юстиц-коллегию подавали. Да-да!
– Анастаси! Анастаси! – как-то бессмысленно только и произносил молодой человек и был весьма рад, что и Анастаси ничего, вероятно, не слышала или не поняла, о чем он говорил с Галиной.
– Говори же! Успокой меня! – настаивала Панютина, все хватаясь за свои штопоры на висках.
Тютчев успокаивал свою невесту и наконец преуспел в этом, солгав, что девушка приходила просить благодарности, и что он ее поблагодарил, и что она больше никогда не придет к нему.
– Так бы ты и говорил, Николай, так бы и говорил! – томно, как-то успокоившись сразу, заключила Панютина, подавая Тютчеву для поцелуя свою маленькую ручку.
Тютчев поцеловал поданную руку и решил не пускать к себе более Галину ни в коем случае.
«Пусть возятся как хотят, у меня и своих дел пропасть. Еще, пожалуй, с невестой рассорят. A cиe для меня не резон!»
И он так же успокоился, как и его невеста, надеясь на спокойствие и в будущем. Он по-своему все-таки был счастлив.
Но над этим счастьем его вдруг нависла туча в образе той же самой Салтычихи, от которой он с помощью Сидорки так благополучно бежал.
Поздно с ответом от Тютчева пришла к Салтычихе Галина.
– Ну, что пес сказал-то? Где цидулка? – встретила Салтычиха Галину вопросом, уже лежа в постели.
– Цидулки нет… а велел сказать…
Галина замялась, переступая с ноги на ногу.
– Что велел сказать?
– Ах, страшно и вымолвить, барыня!
Салтычиха поднялась на постели:
– Ври, что сказал? Не бойся!
Галина торопливо начала рассказывать, как она вошла в дом, как ее принял Тютчев, как она передала ему письмо, а затем весьма смело брякнула:
– «А пошли ты, – сказал он, прочитав письмо-то, – пошли ты, говорит, ее, свою барыню-то, к черту на рога! Пусть она на них и околеет, окаянная!»
Салтычиха как полулежала на постели, так и застыла в том положении. Застыла на месте и Галина. «Господи, не далеко ли я зашла?» – только и мелькнуло в ее голове.
Минут пять ничего не говорила Салтычиха. Только пыхтела и что-то рвала под одеялом. Наконец она глухо, точно не своим голосом, спросила:
– А ту… сирену-то его… видела?.. Какова она?..
– Нету… не видала…
– Ну так она меня увидит, бестия! – произнесла так же глухо Салтычиха и обернулась лицом к стене.