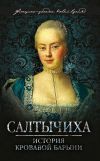Читать книгу "Салтычиха"

Автор книги: Иван Кондратьев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава XVII
Грозная домоводка
Родственники Глеба Алексеевича Салтыкова действительно горячо восстали против его женитьбы на дочери какого-то сержанта. Они составили между собой совет, разузнали хорошенько, кто такая Дарья Николаевна Иванова, и пришли в неописуемый ужас от полученных сведений. Но Глеб Алексеевич был человек независимый, имел большое независимое состояние, и влиять на него было трудновато. Решено было повлиять на девушку. С этой целью один из родственников, человек пожилой, решительный и холодный как лед, явился к Ивановой и заявил ей, что если она не откажется от Глеба Алексеевича, то ей на Москве несдобровать. Девушку это возмутило.
– Черти вы мазаные! – загорячилась она. – Да на кой мне черт ваш барин! Я и без него проживу как захочу! А коль он сам ко мне навязывается, так мне не стать же гнать его по шеям, как мошенника какого! Возьмите сами да и не пускайте его ко мне!
Пожилой и решительный человек, находившейся, однако, уж несколько лет под влиянием своей супруги, несколько мгновений смотрел на девушку испытующим, любопытным взглядом и почему-то сравнивал свою супругу с сидевшей перед ним девушкой.
А та не выдержала и вдруг брякнула:
– Что бельма-то выпучил? Аль, думаешь, неправду говорю?
Дальнейшие объяснения были бесполезны, и потому решительный человек поторопился уйти. Совету родственников он прямо и точно заявил, что Глебу быть женатым на такой чертовке и что, по его мнению, даже бесполезно отговаривать его от подобного супружества; пожалуй, может случиться с ним что-нибудь и похуже женитьбы.
Глеб Алексеевич между тем ежедневно посещал свою дорогую Доню, как он начал называть Дарью Николаевну, и с каждым днем привязывался к ней все более и более. Ему даже особенно начала нравиться эта бесшабашность в ней и это совсем не женское удальство. Его уже не смущали более те слова и выражения, которые нередко сыпались из ее хорошенького ротика. Он находил в этом своеобразную оригинальность, простоту, и ее звучные и резкие слова казались его слуху чем-то весьма очаровательным. Нравились ему и ее манеры, размашистые, мужские, с примесью грубости. В особенности же он находил прелесть в ее глазах. А между тем ни одной мысли не светилось в ее бархатистых, темных глазах, тонувших как будто в бесконечном созерцании. Они блестели спокойствием хорошего пищеварения, как у животного, отражением счастливого дня – и только. При всем этом идеал Глеба Алексеевича был страшно груб и от малейшего сопротивления приходил в ярость.
Говорят, что крайности в жизни сходятся. В отношении Ивановой и Салтыкова это подтверждалось как нельзя более. Сам Салтыков, молодой человек, хорошо воспитанный, был притом же и человеком хорошей души, деликатным, уступчивым, всегда сдержанным.
Свидания их всякий раз имели довольно своеобразный характер. В то время как деликатный Глеб Алексеевич меланхолически предавался наслаждению быть наедине с милой девушкой, эта милая девушка часто являлась к нему из кухни с засученными рукавами, простоволосая, красная, и рассказывала о том, как она только что выругала Фиву, которая не умеет хорошенько поджарить баранины, и при этом тут же распространялась о качествах и ценах на этот мясной продукт. Затем она при женихе начинала одеваться и чесать свои волосы, нисколько не стесняясь его присутствием и перекидываясь с ним кое-какими фразами. Жених при этом имел удовольствие видеть вполне развившуюся и здоровую фигуру невесты, ее здоровый стан и здоровую шею. Он из деликатности отворачивался, но невеста прикрикивала:
– Чего отвернулся? Аль на двор-то веселей глядеть, чем на меня? Чай, мы теперь не чужие!
Глеб Алексеевич слушался своей невесты и все время при ней находился в каком-то опьянении. Она поражала, она изумляла его, она приводила его в какой-то одуряющий восторг.
По вечерам при огне, когда они сидели вдвоем, она делалась нежнее, но и в этой нежности слышалась вместе со страстью какая-то дикая необузданность.
Обнимет она жениха, поцелует его крепко, чуть не укусит, и спрашивает:
– Ну что, ладно так-то, черт этакий?
– Ах! – вздохнет жених и примется шептать ей те речи, те горячие, бестолковые слова, которые так хорошо известны всем влюбленным, и при этом он более всего повторяет: – Ах, Доня! Ах, милая Доня! Как ты мне стала дорога! Как обожаю я тебя!
– Все-то ты врешь, Глебка! – вдруг обрежет его милая Доня и захохочет во все горло.
Глеб Алексеевич растеряется, молчит и думает: «Гибну, гибну…»
И точно, в свое время он погиб. Он сделался мужем женщины, которая с первых же дней замужества явилась перед ним в таком виде, что он пришел в ужас.
Поселились они в собственном доме Салтыкова, на Лубянке, в приходе церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Дом этот для своей молодой жены Салтыков отделал со всей роскошью тогдашней моды, но сразу оказалось, что та, для кого все это делалось, вовсе не поклонница прихотей. Она, захватив весь дом в свои руки, быстро уничтожила роскошь и обратила все свое внимание на кухню и на прачечную. По всему дому с утра до вечера начал раздаваться ее звонкий, резкий голос, и в то же время начали по всем углам дома раздаваться и звонкие пощечины, а на конюшне – крики и вопли. Весь дом, наполненный мужской и женской прислугой, вдруг притих, присмирел, и все вдруг зашептало и начало прятаться по темным уголкам, боясь встречи с той, которая так грозно начала царить в доме.
Робел перед нею даже сам муж. Богатейший, блестящий московский аристократ превратился в подобие какой-то угнетенной овцы. Все родство его покинуло, дома его никто не посещал, и он быстро осунулся и начал седеть, сам не понимая, как все это могло совершиться, и совершиться так быстро, так печально. Перед женой он даже боялся пикнуть и не смел даже заступиться за своих любимых слуг, которых жена часто без всякой причины подвергала наказаниям.
На лето супруги перебрались в сельцо Троицкое, Подольского уезда. В сельце Дарья Николаевна завела те же порядки. Пошла та же строгость, тот же крик, тот же гам, те же пощечины и побои слуг чем попало. Глеб Алексеевич захирел еще более. Не унывала одна героиня всей этой кутерьмы. Она по-прежнему была здорова, весела, хорошо ела, хорошо пила, спала превосходно и весело беседовала со своей прежней любимицей Фивой, которая стала теперь у нее правой рукой и без участия которой не обходилась ни одна расправа. Слава о жестокостях новой помещицы быстро начала распространяться в окрестностях, и она в устах народа получила название не помещицы, не барыни, а просто Салтычихи, и это название так упрочилось за ней, что иначе ее нигде и никак не называли как Салтычихой. Слухи о ее жестокостях дошли, конечно, и до подобающих властей. Сделано было негласное расследование, но результат благодаря ее богатству и предупредительности получился весьма благоприятный. Все дворовые в один голос отозвались, что никаких жестокостей от барыни они не видят, а ежели она иногда и наказывает их, то наказывает по-матерински и за что следует. Один из дворовых, по недомыслию заикнулся было о чем-то, но зато он долго потом помнил и кулаки и скалку Салтычихи.
Природа между тем делала свое дело: в свое время Салтычиха родила сына. Это нисколько не обрадовало захиревшего отца, и он с грустью встретил появление на свет первенца. Не особенно была рада первенцу и сама мать, Салтычиха.
– Эк, поросенок-то какой вышел! – смеялась она с Фивой, когда показали ей ее детище.
Однако мать сама кормила «поросенка», а Фива от «поросенка» была просто без ума.
«Поросенка» назвали Федором.
Грустный, усталый, всеми позабытый, а родственниками просто презираемый, Глеб Алексеевич нашел себе, наконец, маленькое утешение. В числе его дворни была простая девушка, дочь кучера, по имени Хрися. Маленькая, румяная, тихая, она обратила на себя внимание Глеба Алексеевича, и он привязался к девушке, как привязался когда-то к жене своей, Дарье Николаевне.
Само собой разумеется, что это не укрылось от зоркого взгляда Салтычихи, но по какому-то странному капризу она не преследовала за это мужа и даже как будто поощряла его в его привязанности.
– Ты, Глебушка, не стесняйся, – говорила она ему наедине, – живи себе с Хриськой, потешайся, только смотри, чтоб она не стала у тебя за барыню! Тогда и ей и тебе плохо придется!
– Ах, Доня! Что ты, что ты! – как мог, оправдывался Глеб Алексеевич. – Ты видишь мое здоровье… мне вовсе не до шалостей…
– Да зато до девичьего личика румяного! Все, дружок мой, знаю, не оправдывайся. Только еще тебе скажу: не забывай подчас и меня, старуху, все ж я жена тебе, не чужая.
Хрися была до того без всяких претензий, что о желании ее стать барыней не могло быть и речи.
Все же Салтычиха нашла нужным предупредить и ее.
– Ты, с косами русыми, на шее с бусами! – позвала она к себе девушку. – Ты у меня шали, да не зашаливайся, а не то и с лозою спознаешься! Вон у меня ее сколько по речке растет: хватит на твою спину-то на девичью.
Девушка бухнулась Салтычихе в ноги:
– Барыня!.. Да за что!.. На все твоя барская воля… что повелишь, то и сделаю…
– То-то! – пригрозила милостиво Салтычиха.
Однако не прошло и трех месяцев, после того как Глеб Алексеевич обратил внимание на Хрисю, а уж Хрися начала отчего-то быстро вянуть и наконец увяла совсем.
Глеба Алексеича это сразило, как ножом, – он сам слег в постель. А супруга втихомолку посмеивалась с Фивой:
– Вот так-то, Фивка, лучше будет!
– Вестимо, золотая моя! – поддакивала Фива. – Без шума, без гама завсегда лучше.
Четыре года над домом Салтыковых прошли, как проходили они ранее. Грозная правительница оставалась той же, какой была. Сам Глеб Алексеевич несколько поправился и даже сделался снова отцом. Салтычиха снова родила, и родила опять мальчика, которого назвали Николаем и который почему-то пришелся по душе и отцу и матери. Старший сын, уже подросший и бойко бегавший по саду, по-прежнему оставался любимцем Фивы, которая как-то не старела, но зато сильно сохла и превращалась в тип настоящей ведьмы. Да ведьмой ее и звали все дворовые.
Но дни Глеба Алексеевича были уже сочтены. Ровно через два года после появления на свет второго сына он тихо угас в своем доме на Лубянке и был похоронен в родовом склепе в Донском монастыре.
Молодая вдова не проронила ни одной слезинки над могилой своего мужа, над могилой того, чью жизнь она загубила безвременно и бесправно и кто оставил ей все-таки все свое громадное состояние.
Сделавшись богатой, независимой и притом молодой вдовой, Салтычиха еще более дала простору своей необузданной, дикой натуре и уж не знала удержу тем кровавым, бесчеловечным поступкам, которые с ужасающими подробностями занесли ее имя в уголовные хроники и которая своими злодействами над крепостными людьми ужаснула XVIII столетие. В конце концов слово «Салтычиха» сделалось словом почти бранным.
Часть вторая
Две силы
Глава I
Оскорбленный дворянин
Никогда еще дом Салтычихи в ее сельце, в Троицком, не был так шумен и беспокоен, как в тот осенний вечер, когда сама Салтычиха возвратилась из сторожки Никанора в сопровождении молодого инженера Тютчева. Прежде всего всю дорогу она на чем свет стоит со свойственной ей грубостью бранила молодого инженера, называя его самыми поносными именами. На оправдания же его она кричала одно:
– Не ври, не ври, падаль московская! Я все видела и все заметила, чертов огузок!
– Фи, Дорот, как ты выражаешься! – брезгливо, но уступчиво отвечал на это чертов огузок.
– Сто раз тебе твержу, что я тебе за Дорот такая далась! Дарьей зовут – зови Дарьей и ты! Эк словцо отыскал и тычется им, как мужик с колом за скотиной! Дорот, Дорот, Дорот… Да песья нога тебе в рот, коли я Дорот!
– Фи-фи-фи! – мог только ответить на это порицаемый инженер.
Не успокоилась обозленная Салтычиха и дома. Когда они вдвоем сели за ужин, то она заметила:
– Тебе бы и жрать не надо, Тютченька! Люди говорят: на голодное брюхо дурь в голову не лезет!
Как ни привык молодой инженер к выходкам Салтычихи, но теперешняя придирчивость ее начала злить и его.
– Государыня моя, – сказал он сухим тоном, – пора бы и уважить меня хоть сколько бы то ни было из уважения к тому, что я все-таки такой же дворянин, как и вы! Прошу!
– Чего ты просишь-то, оглашенная башка?
– Того прошу, чтобы вы меня уважили несколько, государыня моя!
– Ну что ж, и уважу! – отвечала, помолчав с минуту, Салтычиха. – А теперь вот – кушай-ка щи! Говорят, без щей – будешь кощей! Не люблю я, Тютченька, кощеев-то!
– И в сих словах, государыня моя, – поднялся с места Тютчев, – я вижу тоже обиду своей особе!
– Эва особа какая нашлась! Много таких-то особ по Москве ходит, Христа ради просит. Таковский и ты, молодец.
Тютчев вспыхнул:
– Я служащий человек, я имею занятие и Христа ради по Москве не хожу!
– А не ходишь – пойдешь! – продолжала злорадствовать Салтычиха.
– Неправда-с! – вскрикнул Тютчев и нервно зашагал по комнате.
Потом он остановился перед Салтычихой, которая уже медленно и с аппетитом ела щи деревянной ложкой, остановился и с укором заговорил:
– Государыня! Для того ли я знакомился с вами, чтобы вы меня так позорить изволили? Скажите мне!
– И скажу! – отвечала Салтычиха, медленно пережевывая кусок черного хлеба.
– Что скажете?
– Скажу, что сама не знаю, не ведаю, для какого черта я встретила тебя, такого удальца-молодца!
– Немного-с сказали!
– Да немного и времени-то мы с тобой из одной миски щи хлебаем!
Действительно, Салтычиха познакомилась с Тютчевым весьма недавно, всего только месяцев пять назад.
Это было в мае. Охотница до прогулок на чистом воздухе, Салтычиха вздумала как-то прокатиться вместе с Фивой по опушке своего леса. В то самое время, как тележка Салтычихи медленно и бесшумно катилась по мягкой проселочной дорожке, в лесу, на недалеком от них расстоянии раздался выстрел из ружья.
– Это у меня откуда стрелки-то показались? – приостановив лошадь, крикнула Салтычиха.
– Может, Никанор, полесовщик? – скромно заметила Фива.
– Совсем не Никанорово ружье, я чую, – сказала Салтычиха. – Да тот и не посмел бы стрелять, зная, что я еду.
– Это точно-с, выстрел быдто господский, – согласилась Фива.
– Так подь-ка, узнай, кто таков стрелок-то удалой?
Фива соскочила с тележки и быстро скрылась в лесу. Не более как минут через пять она вышла из лесу уже не одна. Впереди нее шел молодой человек в каком-то странном, из серого грубого сукна, охотничьем костюме, с длинноствольным ружьем через плечо.
– А! Так это ты стрелок-то? – встретила молодого человека Салтычиха.
Стрелок несколько сконфузился, но тотчас же оправился и учтиво подошел к сидевшей в тележке Салтычихе.
– Прошу прощения, – начал он, – что позволил себе охоту в ваших владениях.
– А ты кто? – уставилась на него Салтычиха.
– Тютчев Николай Афанасьевич.
– Сосед мне?
– Не имею чести.
– То-то не помню никакого Тютчева-то по соседству. Помещик?
– И того нет.
– Так кто ж ты?
– Инженер.
– Ну, стало быть, птица невелика.
– Но, позвольте, государыня моя, – надумал наконец Тютчев, – с кем же я имею честь говорить?
– Салтыкова, молодчик, Салтыкова Дарья Николаевна.
– Салтычиха! – невольно сорвалось с языка молодого человека, и он даже отступил на шаг назад.
Салтычиха вдруг разразилась хриплым смехом:
– Вона! И тебе я, молодцу, ведома!
Тютчев растерялся:
– Ведома… точно-с… точно-с… Но… простите, государыня мою нескромность, ошибку… Мне вовсе не было известно, что вы, государыня моя…
– Будет болтать-то! – перебила его Салтычиха. – Чай, не зверя перед собой видишь-то – человека. Я, молодец, баба простая, хорошая. А что про меня худо говорят, так черт с ними! На чужой роток не накинешь платок!
– Это точно-с… точно-с… – бормотал все еще не оправившийся от смущения Тютчев.
– Да чего тебя так проняло-то, молодчик? Поуспокойся.
– Я ничего-с… Но… позвольте мне, государыня моя, вам низко и почтенно откланяться.
– Не торопись. Пожалуй ко мне сперва на миску щей, а потом и уходи.
Тютчев согласился, хотя отчасти и нехотя. Ему были известны проделки Салтычихи. В дом ее вошел он даже с некоторыми трепетом. Но вскоре как-то освоился, приободрился и, подвыпив порядочно салтычихинских наливок, разболтался и имел счастье понравиться самой хозяйке. К вечеру они уже были своеобразными друзьями. С этого дня Тютчев почти каждый день приезжал из Подольска, где жил, в Троицкое и проводил приятно время в сообществе Салтычихи.
Так время шло до того октябрьского вечера, в который между ними началась ссора,
Ссора эта теперь не прекращалась и готова была превратиться в настоящую бурю. Так и случилось.
Выслушав обидные для себя слова, Тютчев в угрожающей позе остановился перед Салтычихой.
– Чего встал? Чего бельма выпучил? – в свою очередь угрожающе произнесла Салтычиха.
– Наконец… наконец… наконец… – вдруг заговорил Тютчев презрительным, взволнованным голосом… и остановился.
– Чего наконец? Чего? – впилась в него глазами Салтычиха и стала ждать, что он скажет.
Тютчев, сделав несколько шагов по комнате, стал глядеть в упор на Салтычиху.
– То, государыня моя, наконец, что так поступать непозволительно! – выпалил молодой инженер и отступил на шаг назад от Салтычихи.
– Ты это чего же взъелся, чертов огородник? – было вопросом разгорячившемуся молодому человеку.
– Того, государыня моя, что вы, наконец, и со мной хотите поступать, как со своими дворовыми! Но это несуразно и совсем не по-дворянски!
– Хо-хо, какой дворянин отыскался новый! – злорадно засмеялась прямо молодому человеку в глаза Салтычиха.
– Точно-с, дворянин-с!
– Оно и видно!
– Смею вас уверить!
– Не уверяй! Сама вижу, что дворянин! Тельце прикрыто, а рыло глядит в корыто!
– От вас, государыня моя, только такие несуразности и слышать можно!
– Ты больно разговорчив! Язык что веник: только и знает, что сор заметает.
– Да-с, это точно-с! – заходил Тютчев нервными шагами по комнате. – У вас сору-с много, очень много сору-с! Пора бы этот сор и со двора долой!
– Уж не пора ли тебя самого со двора? – уязвила молодого человека Салтычиха.
– Я и сам уйду! А я не сор-с, государыня моя! Вам доподлинно самой известно-с, и известно хорошо-с, что я вас не искал, не навязывался на вашу благосклонность – вы сами нашли меня, сами первая искать моего знакомства начали! Ведь так-с, государыня моя?
– Запамятовала что-то, молодец! А вот про то хорошо помню, как я тебя, оболтуса голого, одела до обула! Про то помню хорошо!
– А про то забыли, как я о вас хлопотал в Юстиц-коллегии, бегал, просил и добился оправдания в том, за что бы вас, государыня моя, следовало… знаете куда?
Салтычиха вскочила.
– Молчи! – зашипела она как змея. – Молчи, щенок бесхвостый!… Не то…
Тютчев, взволнованный, раскрасневшийся, смело стоял перед лютой, взбеленившейся женщиной.
– Что – не то?
– Лозой попотчую!
– Дворянина-то?
– Дворянина!
– Не смеешь того сделать, мерзавка!
– Не смею?!
– Не смеешь!
Салтычиха захлопала в ладони и закричала что было сил:
– Акимка!.. Сидорка!.. Сюда!.. Скорее!..
Через минуту в дверях появились безмолвные лица наших старых знакомых: кучера Акима и дворового Сидорки, возлюбленного молодца Никаноровой Галины.
Глава II
Волчья погребица
Под таким своеобразным названием, волчья погребица, у Салтычихи в ее сельце Троицком, было известно всем и дворовым и всем крепостным длинное, низкое здание вроде склада, сложенное из громадных булыжных камней и крытое красной черепицей. Совсем отдельное, без всяких украшений, оно стояло далеко и от барского дома, и от других жилых и нежилых построек. С маленькой дубовой дверью и с какими-то отверстиями вроде отдушин, которые, однако, считались окнами, здание это производило необыкновенно тяжелое впечатление. Громадные булыжники, серые и темные, скрепленные беловатым цементом, казались иногда при закате солнца, когда красные лучи его ярко ударяли в стену, какими-то гигантскими головами, выглядывающими из огненного переплета. Во время дождей и хмурой погоды оно выглядело много серее и много печальнее всего окружающего и было так уныло и неприветливо, что даже вороны и те почему-то не всегда и неохотно садились на его черепичную щетинистую крышу, почерневшую от времени и в некоторых местах заросшую темно-зеленым мхом. Открытое со всех сторон, оно заносилось зимой снегом, и только в крайнем случае к нему протаптывали тропинку. Летом, в хорошие, ясные дни, оно как будто несколько оживало, принимало более приятный вид, и под его стены, всегда холодные, охотно шли полежать томимые жаром свиньи, козы, коровы и собаки. В лунные ночи, когда луна, бледная, стояла высоко на небе или висела, красная, низко на горизонте, волчья погребица представляла из себя нечто чисто фантастическое: игра лунного света на стенах и на крыше погребицы делала из нее нечто сказочное, хотя, в сущности, это было наипрозаичнейшее строение. Но назначение его было довольно мрачное. Это был своего рода острог, созданный Салтычихой для своих сильно провинившихся дворовых и крепостных. Туда запирали несчастных на хлеб и воду и держали иногда по нескольку недель в сообществе с волком, который в одном из углов был привязан на цепи. Вот почему и постройка получила название волчьей погребицы. Это была выдумка самой Салтычихи, и она очень много забавляла ее.
– Ты волк? – говорила она провинившемуся. – Ну так и посиди с волком: все веселей, чем одному-то.
Волк попал в погребицу совершенно случайно, и попал по милости полесовщика Никанора.
Как-то он высмотрел волчье логово. Волчицу он оставил в покое, а волчонка притащил к себе в сторожку, не имея духа покончить с хищным детенышем сразу. Несколько дней подряд осиротевшая волчица пробиралась к сторожке и унылым воем напоминала полесовщику о своем одиночестве.
– Кинул бы ты его, батька, за дверь! – предлагала Галина. – А то что за охота слушать этот самый вой-то?
Никанор уверял дочь, что это сделать невозможно, так как барыня приказала ему строго-настрого, ежели попадется какой-либо зверь, то живого или мертвого, но непременно приносить или приводить к ней.
– Так и отведи! – посоветовала дочь. – А то ведь у нас-то и есть ему нечего: где мы для него наберемся мяса-то? А молоком одним они сыт не будет.
Никанор привел волчонка к барыне. Маленький свирепый хищник понравился Салтычихе, и она стала держать его в комнатах, кормила из своих рук. Но волчьи наклонности, когда он подрос, проявились в нем во всей своей силе: он начал драть кур, поросят, трепать дворовых собак. Сперва было Салтычиха приказала застрелить его, но потом передумала и велела привязать его на цепь в погребице.
В тот же день один из дворовых парней, уличенный в воровстве, был брошен в погребицу. Парень был трус страшный, и волк пугал его более, чем само заключение в погребице. Голодный, не привыкший к цепи, волчонок рвался на цепи, лаял, выл, щелкал от злости зубами и грыз цепь. Все это так напугало парня, что он и сам взвыл волком. Салтычиху это забавляло, и она долго томила парня в погребице. Бедняк настолько был труслив, что, выйдя из погребицы, стал худ как щепка и даже поседел. Салтычиха думала, что присутствие волка в погребице будет и на других заключенных иметь то же влияние, какое оно имело на воришку парня. Но этого не случилось. Другие вовсе не боялись волка и даже находили своего рода удовольствие в его присутствии – все-таки живое существо. Некоторые даже умели как-то заигрывать с серым приятелем. Волка наконец с цепи спустили, но он так освоился со своей сытой неволей, что уж и не покушался бежать, а очень спокойно лежал в своем уголке или меланхолически бродил взад и вперед у стены.
С годами волк состарился, но все еще жил, не покидая своего угла. Дворня с ним так освоилась, что считала его за обыкновенную собаку.
В эту-то погребицу, в соседство к волку, неожиданно попал и Николай Афанасьевич Тютчев благодаря злой взбалмошности Салтычихи.
Как только лица Акимки и Сидорки появились у дверей, Салтычиха крикнула им:
– Засадите-ка этого молодца в погребицу!
Акимка и Сидорка с недоумением смотрели то на барыню, то на Тютчева и не решались приступить к выполнению ее приказания.
– Что ж стоите-то, оболтусы?! Живо!
Оба молодца ловко подхватили молодого инженера, и через пять минут он был уже в погребице, в совершенной темноте, охваченный с ног до головы сыростью. Все происшедшее с ним так поразило его, что он не кричал и почти не понимал, как все это произошло и почему именно. Придя несколько в себя, он понял всю безысходность своего положения и стал обдумывать план спасения, давая десятки клятв довести все это до сведения высшего начальства. Как, его, дворянина, служащего инженера – и засадить в какой-то холодный сарай! О нет, он никогда не простит этого злой женщине! Он поедет в Петербург, он подаст прошение самой императрице, и взбалмошная, своевольная помещица будет наказана примерно!
– Да-да, все cиe будет! – вел он речь сам с собою. – Всего сего я добьюсь непременно, непременно все cиe устрою! Как, меня, дворянина! – восклицал он далее и тысячу раз сожалел о том, что связался с подобной женщиной. – И как я мог! И как я поверил! О нет, погоди же, змея, погоди! Придет беда и на твою голову! Все открою, все докажу, все твои ужасные дела на чистую воду выведу! Осудят! В Сибирь сошлют! В кандалы закуют!.. Казнят смертью лютой!..
Между тем та, на голову которой сыпалось столько ужасных проклятий, спокойно сидела в своей комнате и вела беседу с Фивой, сидевшей на полу у ее ног.
– Пусть маленечко поохолодает там-то, в погребице-то, – говорила она. – Авось не так сердчишко-то его дурацкое стукотню поднимать будет, авось поуймется маленечко.
– Ах, поуймется, золотая моя, поуймется! – вторила, скромно опустив глаза, Фива.
– А потаскушку ту тоже надо бы проучить как следует.
– Галинку-то?
– Кого ж больше! Ее, лесную пташечку!
– Ах, следует, золотая моя барыня, следует!
– Ты придумай-ка, Фивка, что-либо такое, чтоб этой девушке-чернавушке, этой шитой рожице-то довелось расхлебать то, чего ей и во сне не снилось никогда, дуре!
– Подумаю, золотая моя, подумаю! – отвечала Фива. – Уж такая-то девчонка непокорливая – беда с ней просто! Как-то мне пришлось побывать по весне-то в сторожке-то Никаноровой. Сидит, словно барыня какая, и глаза этак чертом скосила. Так и скосила глаза чертом – ей-ей, не лгу!
– А ты бы ей палкой в эти в глаза-то чертовы! – сказала Салтычиха и зевнула во весь рот.
– Постелюшка готова! – заявила торопливо Фива.
– А готова – уложи! – еще раз зевнула барыня.
Вскоре Салтычиха была уже в постели. Фива сидела у ее ног, осторожно чесала ей пятки и рассказывала какую-то длинную, монотонную сказку, под которую наконец барыня мирно и заснула. Верная раба улеглась на полу и тоже вскоре чутко задремала.
Узнав, что барыня почивает, разбрелась по своим углам и вся дворня и тоже позаснула.
Не спал один бедный заключенный, Тютчев. Как он ни храбрился, как ни стращал кандалами Салтычиху, но холод и сырость погребицы давали себя знать: он умолк и стал искать место, где бы поудобнее и потеплее прилечь. В одном углу он нащупал солому и какой-то тулуп. Этой находке он обрадовался необыкновенно: тотчас же забрался под тулуп, повалился на солому и мертвецки уснул, позабыв и свое заключение, и Салтычиху, и все те проклятия, которые он посылал на ее голову.
Разбудил его в самую полночь какой-то странный вой. Высунув голову из-под тулупа, он чутко стал прислушиваться и разобрал, что вой раздается у самых его ног. Объятый паническим ужасом, он мгновенно вскочил на ноги и тут же увидел два сверкнувших перед ним огонька. Он, ничего не соображая, моментально шарахнулся в противоположную сторону и прижался спиной к холодной стене погребицы.
– Что это? Что это? – залепетал он, устремив глаза на огоньки.
Вой со стороны огоньков послышался явственнее, и тут только Тютчев сообразил, что он находится в обществе серого хищника.
Что было делать? Как поступить? Молодому человеку вовсе не было известно, что волк безвреден и что он сам испугался присутствия человека и потому завыл.
Совершенно машинально, двигаясь вдоль стены, Тютчев начал искать что-либо, чем можно было бы защититься от столь неприятного сотоварища. Под руки ничего не попадалось. Между тем он дошел до угла и тут остановился, решив, что поиски его бесполезны. Огоньки засверкали в противоположном углу: видимо, волк уселся на задние лапы и тоже выжидал, как поступит с ним тот, кого он видит перед собой. Так прошло с полчаса, но эти полчаса показались Тютчеву вечностью. Чего-чего только он не передумал в эти полчаса!
Родился он, Тютчев, недалеко от Троицы-Сергия, близ села Радонежа, в маленькой деревеньке отца, весьма бедного, не служащего дворянина, жившего у своего тестя. Первые нежные годы детства он провел в деревеньке, нисколько и ничем не отличаясь от крестьянских детей, с которыми он и играл в одной рубашонке. До десяти лет его ничему не учили, и он готов уже был остаться «недорослем». Но судьба, однако, распорядилась иначе. Как-то заехал в деревеньку дальний родственник его отца, восхитился способностями маленького Кольки, увез его в Петербург, сдал в одно из инженерных училищ… и совершенно о нем забыл. Да забыли о нем и сами родители. Когда Тютчев двадцатилетним молодым человеком вышел из школы и попытался узнать что-нибудь о своих родителях, то он узнал только, что они умерли. Сиротливо потянулись дни молодого человека – сперва в Петербурге, потом в Москве. Молодой человек считался на службе при московском главнокомандующем, как называли тогда теперешних генерал-губернаторов, получал скромное жалованье и жил тоже весьма скромно. В конце царствования императрицы Елизаветы Петровны задуманы были какие-то постройки близ города Подольска, и вот молодого инженера отправили на житье в этот город, где он и жил не у дел, ожидая приказаний из столицы. Приказания что-то не шли, дни тянулись скучно, и молодой человек ради развлечения занялся охотой по соседним полям и лесам. Дичи он убил мало, но зато наскочил на такого зверя, как Салтычиха. Грозная барыня произвела на него своеобразное впечатление и так же своеобразно понравилась. Он сошелся с ней близко – и вот эта близость довела его до того, что он теперь мерзнет и дрожит в какой-то погребице в сообществе зачем-то туда же попавшего волка…
Гнев и стыд душили Тютчева и волновали его страшно. Он был молод, здоров, и хотя ничто еще не улыбалось ему в жизни, но умереть под зубами хищника ему все-таки не хотелось, да и смерть такая позорная.
«Неужто, – думал он, – она решила сыграть со мной такую подлую штуку! О, это зверь, а не женщина! Зверь! Зверь!.. И отчего я сам не убил сию кровожадную тигрицу!..»