Текст книги "Глаголют стяги"
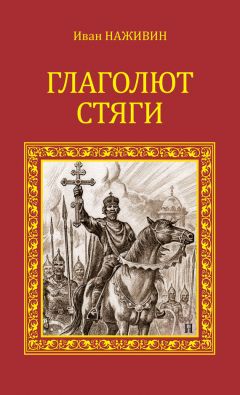
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
XXV. Зима в лесах
Коляда, Коляда,
Пришла Коляда.
В морозном небе над тёмным морем лесов искристо загорелась большая звезда из Золотого Плужка[8]8
Сириус.
[Закрыть]. И как только заметили её над лесом хозяйки Борового, так сразу же начались взволнованные приготовления к празднику. Отец Ляпы, старый Бобёр, внёс в избу беремя пахнущей морозом соломы и разостлал её по стоявшему в углу столу и по всему полу. Старуха покрыла стол поверх соломы чистым столешником. Затем Бобёр внёс с благоговением в избу необмолоченный ржаной сноп и поставил его в переднем углу за стол. Перед снопом старуха поставила угощение: пшеничную кашицу на медовой сыте и взвар. Молодуха тем временем ладила другой стол, про домашних, который устлала сеном, а поверх тоже столешником чистым покрыли. Перед каждым из семейных положили по головке чесноку для отогнания всякой нежити и болезней. Чеснок был в числе вещих трав, и держали его посели в большой чести. Цвёл он, как известно, в самую полночь Купалья. Обладавший этим растением мог творить всякие чудеса с нечистою силою и всякими чародеями и мог ездить на ведьме, как на коне, хотя бы и в заморские страны…
Бобёр оглядел, все ли готово, и, подняв к потолку обеими руками деревянный ковш с янтарной пшеницей, благоговейно забормотал святые слова молитвы к богам всемогущим…
– Ну, а теперь садитесь!..
Почётное место, в углу, занял плечистый, весь седой Бобёр, а за ним вся большая семья его, по старшинству.
За столом было тесно, в избе душно, но вкусно пахло едой и молодым пивом. Ляпа, старший сын, развертистый парень, от торга в Киеве однодерёвками богател, двор считался на весь посёлок первым, и в большие праздники у Бобра на столе было чего хочешь, того просишь. И если Ляпа втайне гордился, что все это от его ловкости и обходительности, то старик Бобёр на этот счёт своё думал. Всё дело было в том, что чур, хозяин, очень уж им добёр попался. Старик ясно видел, что домовой крал для скотины корм по соседним домам, но помалкивал. Ежели старатель одёжу хозяйскую когда надевал, то берег её и всегда вовремя клал на своё место. За приплодом всяким во все глаза заботник глядел и, ежели замечал в каком деле огрех, сейчас же поправлял всё. И старуха по приказу Бобра не жалела для хозяина ничего и всякую ночь ужин ему за печку ставила: кушай, батанушка, кушай, родимый!..
Разговоров лишних за столом не было: священна была эта ночь и священна трапеза – в этой тиши морозной рождается солнце… И под конец старуха подала всем такую же кашицу на сыте, как и Ржаному Деду, но тут же на столе часть её отделила на деревянную торель курам, чтобы неслись лучше. И когда управились с ужином и возблагодарили богов за щедрые дары их, Бобёр выдернул из Деда наудачу один колосок, и по избе пронёсся шёпот восхищения: колос был длинный и полный – значит, и урожай жита на лето будет богатый…
– А ну теперь ты, старуха!..
Баба, шепча что-то, вытянула из-под столешника былинку сена. И опять всеобщая радость: былинка была длинна. Значит, и сена, и льны будут хороши. В закопчённой избе точно посветлело. И вдруг в морозной ночи зазвенели под окном молодые голоса:
По Дунаю по реке, по бережку по крутому
Лежат гусли не налажены.
Коляда!..
Кому гусли налаживати?
Коляда!..
Налаживать гусли Бобру тороватому!
Коляда!..
Бобра стара дома нет,
Он уехал в Царь-город,
Суды судить, ряды рядить.
Коляда!..
Он старухе шлёт кунью шубу.
Коляда!..
Сыновьям-то шлёт по добру коню.
Коляда!..
Дочерям-то шлёт по черну соболю.
Коляда!..
И старики, выйдя к воротцам, щедро дарили колядчиков – и за то, что Коляду пропели, и за то, что подошли поперёд всех к Боброву двору, почёт оказали…
Чрез неделю Деда Житного обмолотили: святой соломой его с заговорами старинными скот покормили, а святое зерно смешали с посевным. В этот день хозяйки напекли гору пирогов и хлебов. Приготовив стол для вечери, Бобриха низёхонько старику своему поклонилась:
– Исполни закон, старик!..
Бобёр степенно сел в передний угол за пироги.
В избу вошли все домочадцы.
– А где же батько? – спросили они, как бы не видя старика.
– Или вы меня, дети, не видите? – отозвался он из-за пирогов.
– Не видим, батя…
– Ну, чтобы и на тот год боги даровали также вам меня за хлебами не видеть!..
И, всё разгораясь, шли по вечерам у молодёжи игры любовные и звенели песни старинные:
Уж я золото хороню, хороню,
Чисто серебро хороню, хороню.
Я у батюшки в терему, в терему,
Я у батюшки в высоком, в высоком.
Пал, пал перстень
В калину, в малину,
В чёрную смородину!..
Гадай, гадай, девица,
Отгадывай, красная!..
И часто игры любовные свадьбой весёлой кончались… И бабы на ложе брачное клали снопы немолоченые, а поверх них покрывала постилали, и круг стола всем поездом ходили, и осыпали молодых и житом золотым, и хмелем пьяным, и чёрную кашу кидали через плечо, и много других затей старинных творили. И все это песнями, точно узорами, расцвечено было:
С веном я хожу,
С животом я хожу —
Мне куда бы вена положить?
Мне куда бы живота положить?
Положу я вена, положу живота
Уж Запаве я на поволоку,
Раскрасавице на поволоку,
Красной девице на правое плечо…
И бедная Запава – она по осени сиротой круглой осталась и против сердца должна была за Ляпу идти – горько плакала, и в русалочьих глазах её стоял, не проходил милый образ Ядрея. А подруги пели:
Соболем Запава-свет в леса прошла,
Крыла леса, крыла леса чёрным бархатом.
И пришла свет Запава к морю синему, стала красна девица перевозчика кликать, и сейчас же с того берега отозвался ей сам Ляпа-господин:
«Я тебя, Запавушка, перевезу на ту сторону,
Я за тобою, за тобою корабль пришлю,
Корабль пришлю, судно крепкое, колыхливое!»
«Не присылай за мной судна крепкого, колыхливого,
Я у батюшки дитя пугливое, торопливое…»
«Я за тобою, за тобою сам прилечу,
Сам прилечу, под крылом унесу…»
А Запава рыдала навзрыд: зачем, зачем не бросилась она тогда в омут глубокий?!
И вдруг среди игр старинных и свадеб пьяных слух пронёсся по лесам: сам князь Володимир с дружиной своей на полюдье едет! И было любопытно поглядеть на людей чужедальних, и было здорово накладно встречать их, мало того что тиунам надо дань нести, а ещё и на братчины добра всякого сколько переведут. Мужики-лесовики всей пятернёй затылки свои скребли. А Муромец – для него эти полюдья диковинкой ещё были – все хмурился на грабёж дружинников да тиунов.
– Мужику-страдальнику доброхотствовать надо, – говорил он. – А вы словно вот вороньё на стерво кинулись. Пожаливать, пожаливать сирот надобно!..
Те скалили на богатыря лесного зубы белые.
– Эхма… – вздыхал он. – Видно, недаром вас ворягами-то зовут!
И когда встретили посели на околице князя, Ляпа, обращение с вящими людьми знавший, бил ему челом огромной медвежьей шкурой.
– Вот так зверь!.. – подивился Володимир, любуясь бурой, с черным почти хребтом шкурой. – Я такого чудища и не видывал ещё… Как это ты его, молодец?..
– На рогатину поднял, княже… – отвечал развертистый Ляпа. – Все для тебя стараюсь…
Он соврал, шкуру он выменял у дальних лесовиков за Десной.
– А, Муромец, каков зверюга-то?.. Управился ли бы ты с таким?
– Ништо… – отвечал тот. – У нас, в муромских лесах, их сколько хошь. Только я с рогатиной не уважаю – я все больше с ножом хаживал: леву руку обмотаешь чем-нито, да ему в хайло, а правой ножом под сердце – и вся недолга…
И все, предвкушая весёлую братчину, ахали над шкурой лесного великана, а лесовики-севера все на Муромца ужахались: и где только такие люди рождаются?!
XXVI. По Северщине
В день едут по красному по солнышку,
В ночь едут по светлому по месяцу.
Если пьяными свадьбами и братчинами и ссорами жестокими из-за дани шумели все лесные посёлки, то тихо-тихо было в до конька занесённой снегом избушке деда Боровика. Стареть он совсем остановился – только волосом все менялся, который из белого жёлтым делался, а потом и впразелень ударял.
– Да что ты, дед? – спрашивали его не раз удивлённые посели-родичи. – Ровно ты и помирать уж не будешь?!
Дед добродушно смеялся.
– Зачем мне помирать? – шамкал он. – Я ещё поживу. Я все легше да легше делаюсь – только что вот не летаю…
С ним по-прежнему жил Богодан. Он уже подрос, на верхней губе его уже пушок показался, и по-прежнему глубоки и загадочны были его тёмные, как лесные озера, глаза, и по-прежнему не любил он ронять слова зря. Старики его привезли ему как-то в гостинец из Чернигова гусельки непыратые, и Богодан навострился играть на них. И так у него выходило все звонко да нежно – точно вот капель играет весенняя! Дед в нём души не чаял: Богодан перенимал его вещьство тайное с великой охотой и тщанием и силами вещими души своей умилял, а иногда и пугал старика. Жила с ними в уголке за печкой и Дубравка. Она была по-прежнему не в себе: то была она баба как баба, работала что следует, говорила разумным порядком, а то вдруг вспомнит точно что, забеспокоится и давай повсюду бегать и везде заглядывать: Ядрея своего все ищет… А потом грохнется о мать-сыру землю, да в слёзы, да и лежит, мучится… В лесную избушку убежала она от преследований Ляпы, который подстерегал её везде, и здесь жила за стариком как за каменной стеной. Она обшивала обоих, обмывала, варила им еду. И тишь стояла в избёнке, точно никто в ней и не жил… Только когда Богодан гусельки свои возьмёт да играть начнёт, тогда Дубравка бросала всякую работу и, облокотившись, не сводила глаз с Богодана и слушала, слушала эти звонкие, нежные, как вешняя капель, звуки ненасытимо…
И каждый год, как только пригреет солнышко землю, как только дохнут впервые теплом из могилок родители, и брызнет иголочками на красных горках первая травка, и проснутся на Десне берегини-русалки, старый Боровик с Богоданом пропадают из избы целыми днями и ночами. По обогревшимся посёлкам звенят повсюду детские голоса:
Весна, весна красная,
Приди, весна, с радостью,
С радостью, радостью,
Великою милостью:
С льном высокиим,
С корнем глубокиим,
С хлебом обильныим!
А то по луговинам обтаявшим рассыплются, на коньки залезут и как пичужки звенят оттуда:
Солнышко-вёдрышко,
Выгляни в окошечко,
Твои детки плачут,
Пить-есть просят…
Солнышко, покажись,
Красное, улыбнись!..
И действительно улыбалось им солнышко, улыбался и дед Боровик в зелёную бороду свою, а Богодан, тот все тянет от людей дальше, в лесные трущобы, туда, где человеком не пахнет и где поэтому слышнее вещие голоса земли, голоса богов.
И по-за околице проходят они неторопливо, все примечая, к могучему дубу над Гремячим ключом. На ветвях дуба тихо покачиваются повешенные холсты, полотенца шитые, рубашки – то бабы понавешали для русалок в прошлогодний семик, в навий великий день. Русалки – голые, и грех не пожалеть, не приодеть их. И сколько раз видал их тут Богодан, белых, нежных, прозрачных, как они по ветвям качаются, аукаются и манят его за собой с улыбками загадочными… А от дуба овраги шли угрюмые, поросшие вековыми деревьями и папоротником вещим, перед которым бессильны злые духи, который отпирает любой замок, открывает всякий клад и даёт человеку возможность невидимкой войти в опочивальню любой красавицы… Посели и заглядывать сюда боялись, а дед с Богоданом и тут как дома были…
Тут Богодан и лешего не раз видал – остроголовый такой, мохнатый, в уровень с деревьями. Он любит качаться на деревьях, он свищет и хохочет так, что на многие вёрсты слышно. Он стонет, мяукает, трещит, плачет ребёнком, шумит лесным потоком. Все зверьё лесное находится под его покровительством, но особенно жалует он медведя и зайца. Он любит всякое озорство: собьёт путника с дороги, заведёт в трясину, в сугробы и ржёт, радуется. А то волком оборотится, филином, мужиком прохожим, тропой незнамой прикинется, деревом засохшим, чем хочешь… Но, если задобрить его, он добрый делается, ласковый: за пастуха стадо пасёт, охотнику в его деле помогает. А осенью, как лист спадёт и леший спать ложится, то перед сном бесится, ломает деревья, зверей без милости…
Так, медленно, все примечая, оврагом доходят оба до речки лесной. Десна – та светлая, ласковая, текущая и за собой манящая в неизвестное, а эта лесная речушка – точно ожерелье какое из чёрных жутких омутов, которое какой-то бог бросил в глушь лесную. Над ней веяние жизни иной особенно приметно, и душу человека, сюда забредшего, охватывает жуткий холодок, и чудится ему, что со всех сторон из чащи на него смотрят таинственные, жёлтые, круглые глаза духов неведомых… Но Богодану тут особенно любо было. Тут, склонившись к какому-нибудь тихому, тёмному омуту, он видел изукрашенные хоромы водяного и жены его царицы-водяницы. Сам водяной был нагой старик с большим брюхом. Волосищи на голове и в бороде длинные, зелёные, а брюхо поясом из трав подводных перехвачено. Иногда слоняется он и по земле, оборачиваясь мужиком, но тогда смысленные люди узнают его по мокрым полам кафтана. С левой полы вода каплет, а где сядет, мокро делается. Живёт он в омутах богато. Скотины у него сколько хочешь – из той, что утопилась как-нибудь. Ежели его хорошенько угостить, он может загнать в невод сколько угодно рыбы. Днём он спит в своих палатах подводных, а ночью, с закатом солнца, разгуляться выходит. Очень любит прокатиться верхом на соме. А то начнёт, озоруя, ладонью по воде звонко хлопать. Если вода в реке вдруг завертится, запылит, это опять водяной свои штуки разделывает. Просыпается он после зимы в ледоход, и тогда рыбаки возливают ему масло, а посели свинью чёрную приносят, а осенью, на прощание, дарят ему гуся, и только после этого и сами начинают гусей есть…
И любо всё это было деду и Богодану, и не было в этом ничего страшного: всё живое, всё святое, всё радость. Всё – огромный, бесценный дар богов пресветлых…
И вот все трое сидели они в крохотной избушке своей, занесённой снегом до конька. По крыше виднелись следы волчьей стаи, лазившей там ночью. Под потолком травы всякие веничками сухими висели. Дед на печи дремал своей лёгкой старческой дрёмой, которая позволяла ему все видеть, все слышать, все чуять. Дубравка, исхудавшая, но по-прежнему пригожая и огневая, тихонько пряла у оконца, а Богодан вязал сеть рыбачью и слушал в стене червячка: «Тик-так… тик-так… тик-так…» – и гадал, что это означать может, и тёмные глаза его были как лесные озера… И часто останавливались они на милом лице Дубравки, и тогда он незнамо почему весь каким-то огнём загорался незримым, и сладким, и мучительным, и ему становилось душно, и грустно, и одиноко…
И вдруг дед очнулся.
– Едут какие-то… – прошамкал он.
Действительно, по звонкому лесу слышались голоса людей, фырканье коней и брязг оружия. Дубравка прислушалась, забеспокоилась, заметалась и, накинув шубёнку овчинную, бросилась вон. Вышли и дед с Богоданом. По лесной дороге ехали гуськом всадники. Впереди всех, насупившись, ехал туча тучей какой-то великан. То был Муромец. Он был недоволен: только было вышли они всей дружиной из Борового, как к дороге огромная тура вышла, рогатая, с бородищей до колен, и остановилась, глядя на дружину: конных зверь лесной не опасается нисколько. Муромец ехал передом. Он так и ахнул: ну и зверь!.. Таких у них в муромских лесах и не видано… Схватился он за лук, наложил стрелу – и хрясь, лук пополам!.. Опять не поостерёгся… Он осерчал, нехорошо, по-суздальски, выругался и швырнул обломки лука в сугроб. Дружина захохотала, а тура поскоком в лес подалась…
И Дубравка, схватив за колено Муромца, впилась своими горячими глазами в его обындевшее, с сосульками на усах лицо, но сейчас же бросила его, к другому всаднику перебежала, перебрала так всех до единого, и вдруг с плачем великим пала она в снег и забилась, как подстреленная стрелою лебёдушка. Дружинники с удивлением сгрудились на узкой лесной дороге.
– Что такое? – спросил князь Володимир. – Что с ней, дед?
– Не замай, не замай её… – прошамкал старик. – С горя бабочка ума решилась… Не замай… Отойдёт помаленьку. А вы чьи такие будете?
– Киевские… – засмеялись дружинники на простоту лесовика. – То князь на полюдье едет…
– Сам князь? – удивился старик. – Вона что!..
Ну коли так, погоди, княже, и я тебе дары дам… Погодь маленько…
Богодан, склонившись над рыдающей Дубравкой, истово шептал какие-то слова над ней, и она потихоньку стихала.
– А хороша бабёночка-то!.. А?.. – говорили промежду собой дружинники. – Что бы вот старик её нам в дар принёс!.. Разве забрать в торока?..
– Не замай… – нахмурился Муромец. – Они тебя не трогают – и ты не вязни…
– А я бы приторочил… Ты, малой, отдал бы нам бабочку-то… – обратился Тимоня Золотой Пояс к Богодану. – Мы бы вам со стариком хороший выкуп дали…
Подросток поднял на него свои тёмные глаза.
– Не скаль зубы попусту… – сказал он, с удивлением чувствуя в сердце точно укус змеи. – Может, ты и до ночлега живой не доедешь, а плетёшь незнамо что…
Дружинники почувствовали в этих простых словах угрозу и смутились: они догадались, на кого они наехали… И напали на Тимоню… Но в эту минуту дед Боровик своей дробной походочкой вышел из избы и подошёл к Володимиру.
– Ну, вот тебе и от меня дань, княже… – прошамкал он. – В этом вот мешочке – смотри, не спутай только, – хорошая травка от кумохи, или, кто зовёт её, от трясовицы… А эта травка для княгинюшки, ежели дитенок ночью спокою не даёт, – пущай положит ему в изголовье, и все гоже будет… А здесь стрелы громовые: ежели в бою рану получишь, то поскобли стрелку ножом и песочком, что наскоблишь, рану и присыпь: враз затянет… Вот… А эти вот два мешочка тебе да княгинюшке на шее носить:
от дурного глаза помогает гоже…
– Спасибо, дед… – сказал Володимир. – И чем только мне отдарить тебя?
– Ничего мне, княже, не надобно… – ласково усмехнулся дед. – Я много, много тебя богаче!..
Дружинники смущённо переглянулись: ох, и к добру ли уж наехали они на ведуна?!
– Ну, поезжайте своей дорогой… – сказал старик. – А нам вот бабочку прибрать надо. А приедете ещё когда в наши леса, опять к старому Боровику заезжайте. Ничего…
Дружинники молча вытянулись по узкой между глубоких сувоев дороге. За ними обоз их заскрипел по снегу. И брязг оружия, и фырканье коней, и голоса постепенно стихли в глубине леса, и снова стало всё тихо, торжественно и умильно.
Ибо тишина – это и есть голос пресветлого Сварога, Бога богов…
XXVII. Рогнедь
Туга ум полонила…
С великим торжеством, песнями и плесканием спалили селяки на пожарах Зиму, колдунью злую, засиял в небе бездонном Дажбог благодатный, зазвенели яровчатые гусли капелей искромётных, сошли потоками бурными и весёлыми снега, и вдруг нежданно-негаданно над землёй мокрой, дымящейся, счастливой, бросая громами во все стороны, пронёсся Перун, бог высокий.
Из Ирия всё неслась тучами тёмными птица, и гомоном её счастливым радовалась земля. Витязи уже не раз по размокшей земле выезжали в луга тешить сердце потехою молодецкой, охотой и привозили к столу княжескому и лебедей белых, и серых гусей, а когда и жерава длинноногого, длинношеего, и утиц всяких…
Но не видела Рогнедь-Горислава из оконца своего этого торжественного шествия светлого Ярилы над Русской землёй. Точно тяжким и жгучим железом расплавленным были налиты её огромные, огневые глаза. Рядом с ней на ковре играл и смеялся только что проснувшийся, весь со сна румяный её первенец Изяслав, пятилеток, но она точно не видела своего любимца. В огневой душе варяжки все грознее бушевала гроза, не благодатная, как та, которую несёт Перун, а гроза сухая, бесплодная и потому особенно тяжкая, непереносная. С ней содеялось чудо чудное и диво дивное. Начала она с презрения к робичичу, потом, после Полоцка, возненавидела его так, что думала, что задохнётся в ненависти своей, а потом постепенно затеплилась вдруг в её сердце любовь. Умница, она видела насквозь этого, как она иногда про себя выражалась, простеца, этого молодого гусака, окружённого не только орлятами, но и орлами, и вот всё же к нему потянулось её сердце, и чем дальше, тем больше, а теперь было оно все объято багровым пожаром ревности. Она не спала ночей. Безумные мысли, как нежить какая, терзали её днями и ночами. А когда прорывалось все это у неё в словах и слезах бешеных, он смеялся бабьим причудам этим: вот напридумывает всего!.. Чай, его не убудет… Он как будто и любил её, но ему ничего не стоило прямо от неё поехать в Берестовое, в Вышгород или в Белгород – «град мал у Киева, яко десять вёрст вдале» – и там пить, и колобродить, и идти с девками в избу мовную…
Что она ни делала, сделать с собой она ничего не могла. И грозила она ему, и в ногах его гордая варяжка валялась, и пробовала ревность его возбудить – он только лениво смеялся всей масленой рожей своей, которую она в эти моменты ненавидела ненавистью смертной. И чувствовала Рогнедь, что подходит она к какому-то последнему рубежу. И потому сумрачно, налитыми пылающим железом глазами смотрела она на сияющий радостью разлив старого Днепра, на небо вечернее в облаках многоцветных и не видела ничего, кроме дум-нетопырей, жадно припавших к сердцу её…
– Княгинюшка, родимая…
Это была её чага Дарка, тонкая, красивая и хитрая, как змея, с кровавыми устами, с чёрными очами, которыми она свела с ума уже многих.
– Что тебе? – не оборачиваясь, отозвалась Рогнедь.
– Нянька говорит, княжичу заутрокать пора…
– Так возьми его…
– Слушаю. А ещё…
– Ну?
– Только ты уж не гневайся, княгинюшка… А я подумала, что лучше будет упредить тебя…
– В чём дело? – нетерпеливо обернулась Рогнедь.
– Уж не знаю, как и сказать тебе… Сейчас, сейчас, – заторопилась Дарка, заметив, что брови госпожи гневливо нахмурились. – Вчера, видишь ли, князь со старыми дружинниками в гриднице заперся и пить они зачали, а я – дай, думаю, послушаю, о чём говорят они… И вот, говорят дружинники князю, что жениться тебе, мол, надо на греческой царевне, что будет-де в этом для Руси великая честь и слава, что ты-де теперь с кем хошь честью равняться можешь, а тогда-де и ещё выше подымешься. А этих-де жён твоих распустишь – куды их тебе?
Не пара… И надо, как у других князей, делать нечего, христианку брать: так уж де повелось… А Володимир-князь смеётся: у меня уж и так-де Оленушка есть… А дружинники даже серчать стали: «А кто она, твоя Оленушка? Черница какая-то, полонянка, может, даже и из смердов…» И так напали на него заводчики всего дела – и Итларь, и Любомир, и Свень, и Борич, – что тот рукой махнул: «Делайте, как хотите!..» И большой крик потом был, и смех, и песня.
Рогнедь задыхалась.
– Иди… – едва выговорила она и, сняв с руки перстень с камнем самоцветным, передала его Дарке. – Возьми Изяслава…
Дарка, вся от радости зардевшись, повела княжича заутрокать, а Рогнедь исступлённо сжала кулаки:
– Ну, погоди: устрою я тебе свадьбу!..
И в мутно-багровом зареве души её, как нетопыри, поднялись новые мысли: «…и заодно за отца с матерью и братьев посчитаюсь… А может, сама править и володеть Русью буду: правила же Ольга после Игоря!.. Среди дружинников немало есть, которые не любят рогожу-князя и преданы ей. И больших дел можно наделать с ними. Как жаль, что этот бешеный Даньслав пропал куда-то: он за неё голову сложил бы… А главное, упьётся она кровью этого вероломного мелкого сердца, не отозвавшегося на муку её мученскую…»
И долго, как отравленная, металась она по хоромам своим и все гадала, как свершится мщение её… Убить – это мало, а надо так, чтобы он…
В сенях послышались его шаги. Забрызганный до бровей грязью, весёлый Володимир шагнул в горницу. От него пахло ветром, дымом костра, водяной ширью: он был на охоте.
– Здорова, Гориславушка!.. Вот и я… – весело и громко заговорил он. – Ежели бы ты видела, как я лебедь стрелой на полёте снял!.. Никто глазам своим не верил: из-под облаков спустил… И красавица какая – вроде тебя, моя лапушка… А Муромец опять лук сломал… – захохотал он. – Не везёт некошному!..
От него так и брызгало весельем весенним.
Ещё минута – и чаги уже хлопотали около него: одна сапоги от ног ещё отрешала, другая умыться несла, третья тут же на стол собирала: здорово проголодался князь!.. И, умывшись чистенько, испытывая блаженство во всём своём молодом, уставшем теле, князь уселся за стол. С полным ртом, блестя маслеными глазами, он рассказывал Рогнеди о своей охоте и подливал себе в чашу медку!.. Она едва слушала его и только старалась виду не показать, чтобы он не догадался: теперь или никогда… И, вынув из ножен остро отточенный нож его, она рассеянно пробовала пальцем лезвие…
Вмиг рабыни убрали стол, и Володимир, блаженный, повалился под соболье одеяло…
– Рогнедушка… горносталинька…
И скоро богатырский храп возвестил притихшей челяди, что князь киевский и всея Руси започивать изволил…
Сидя, согнувшись, на кровати, Рогнедь неподвижно смотрела перед собой своими тяжёлыми, полными чёрного огня глазами. Один удар – и все развяжется: и ненавистный, позорный плен сердца её, захваченного этим простецом-недорослем, и отмстит она ему за тот страшный день под стенами Полоцка, и, может быть, сядет она на столе киевском и подымет молодую Русь на дела великие. Он, увалень этот, через бабу возвыситься хочет, а она по следам Олега и Святослава госпожой-владычицей пройдёт туда и презрительно спихнёт ногой в сторону все это тамошнее гнильё, и займёт золотой трон Царьграда. Нет, нет, недаром Святослав так рвался туда!.. Ах, нет Даньслава!.. И куда, куда делся этот орлёнок бесстрашный?!
Володимир спал тревожно: чересчур поналег он на брашна вкусные да на мёды старые… И снились ему леса далёкие, тёмные, и слышал он весёлый поскок витязей-охотников и рогов пение, и надвинулась на него чёрная гора туры, которая, склонив рога, с глазами, кровью налитыми, стала перед его конём. Князь хочет бросить в загривок ей копьё своё, но рука не владает. А тура бросилась вдруг под коня, сбила его с ног и, окровавленные рога вниз, тяжко сопя, ринулась на упавшего и придавленного умирающим конём князя. С криком Володимир вскочил: над ним с ножом в руках стояла окованная последним ужасом Рогнедь…
– Что ты? – весь в поту ужаса, ничего не понимая, воскликнул он. – Ты в уме?!
Точно от сна проснувшись, она выронила нож на ковёр и обеими руками закрыла лицо.
– Что это ты?.. – схватив её за холодную руку, повторял он в испуге. – Да говори же!
– С горя лютого подняла я руку на тебя… – хрипло, с усилием выговорила она, уронив красивую голову свою на грудь высокую. – Моих всех ты убил за меня, землю отца полонил, а теперь… теперь на меня с Изяславом и смотреть не хочешь… Я, как девка, для тебя…
И по белому лицу её покатились крупные жемчуга. Но в душе Володимира тёмной тучей поднялась злоба: ты гляди что надумала, змея подколодная!.. Ну нет, погоди…
Он отшвырнул прочь нагретое одеяло и быстро встал.
– Оденься в наряд твой княжеский, как ты была в день свадьбы одета… – тяжело дыша и хмурясь, проговорил он. – И сядь на постели светлой[9]9
Богато убранной.
[Закрыть], и жди меня…
Решительными шагами он вышел из ложницы: из-за простеца впервые для неё выглянул муж твёрдый. Она поняла, что это конец. И, убрав постель покрывалом дорогим, она не спеша надела тяжёлый княжеский наряд свой из аксамита блистающего, и жемчугом обвила шею белую, и шитую золотом шапку надела на чёрные, тяжёлые косы свои. «Нет, – раздулись её ноздри, – не запугаешь, робичич, княжны полоцкой!» И бешеным огнём горели её прекрасные глаза… И вдруг с звонким смехом вбежал в опочивальню Изяслав, сияющий всеми своими ямочками по личику милому, точно сам светлый Ладо. И дрогнуло сердце матери: а он?.. А крошечный Ярослав, который в зыбке ещё лежит?.. А маленькая Мстислава? Что с ними будет?.. И вдруг торопливо опустилась она на колени к сынишке и что-то зашептала ему, вся красная. Он, стараясь удержать смех, кивал ей в ответ своей белокурой головкой. Он всё понимает, он ведь уже большой, он князь: давно ли были торжественные постриги его, когда дружина впервые на коня его посадила и поднесла ему тяжёлый меч?
За стеной послышались решительные шаги, дверь широко распахнулась, и через порог шагнул Володимир с обнажённым мечом в руке. Рогнедь выпрямилась… Чудно хороша была она в своём сияющем наряде!
Но сердце Володимира не дрогнуло. И вдруг увидал он из-за матери сына: с тяжёлым мечом в руке, из всех сил сдерживая смех, мальчугашка исподлобья смотрел на него строгими глазёнками.
– Ты что, отец?.. – прокартавил он строго. —
Или ты думаешь, что один здесь ходишь?
Володимир посмотрел на него несколько мгновений, расхохотался и – бросил меч.
– А кто же тебя здесь чаял?.. – сказал он и, подняв сынишку высоко к потолку, воскликнул: – Ай да Изяслав!.. Ай да сын!.. Вижу, что из тебя знатный витязь будет…
И если бы в эту минуту Рогнедь просияла одной из своих колдовских улыбок, Володимир забыл бы все. Но она молча и хмуро стояла поодаль, оскорблённая и униженная: гордая Рогнедь спряталась за ребёнком! И Володимир, минуту подождав, поцеловал Изяслава, повернулся и, ничего не говоря, вышел из горницы.
В гриднице зашумело. Князь за чашей рассказал все своим боевым товарищам: как рассудят они дело?
– Брось, княже, негоже… – сказал Муромец. —
Ты виноват, а не она. Коли разладье пошло, так устрой ей вотчину и отошли её с детьми туда, а не отымай у детей матери…
– Раз задумано дело большое, нечего в крови пачкаться… – сказал и седоусый Итларь.
– Ин быть по-вашему!.. – стукнул Володимир кулаком по столу. – Нет, а сын-то каков, а?.. – вдруг весело захохотал он. – Ну, Изяслав!..
– Воин будет!.. – смеялись дружинники. – Нам таких и надо…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































