Текст книги "Софисты"
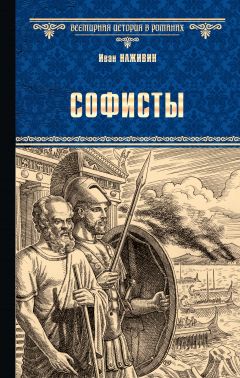
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Блистая, как всегда, Алкивиад, Феник с Антиклом, племянником, слонялся в толпах богомольцев и принюхивался к городу. Его все томили те мысли, которые он принес из Дельф. Ему все казалось, что под всеми этими пышностями скрыто какое-то жульство. Взять хотя бы этих озабоченных и торжествующих жрецов или даже Сократа: ходит босиком, без шляпы, одежда штопаная, а Аполлон сказал про него, что он – мудрейший. И подвыпив, он разговорился с Клеоном, кожевником, который усиленно рвался к общественной деятельности, ибо обладал он воистину луженым горлом и бесстыдством чрезвычайным. Гот, выпив изрядное количество чаш в честь великой богини, с недоумением посмотрел на простака и уронил:
– Экий дуралей, клянусь Афиной!.. Да что же ты не видишь, какие дела делают жрецы и торговцы?..
Феник опешил: ага, так вот тут в чем дело! А тогда нечего колебаться и надо скорее перебираться в город. Что, разве он лыком шит?.. А Клеон, уже забыв его, своим зычным голосом орал на какого-то захудалого софиста: всех их надо, клянусь Зевсом, вымести из города вон, а то так и поотрубать их головы с их богохульным языком…
– Халали!.. Эвоэ…
Фидиас, томившийся в своей темнице, слышал и эти веселые клики, и торжественные пэаны, и ему было больно. Еще больнее было бы ему, если бы болезнь не подтачивала его силы. Иногда он впадал в какое-то сонное состояние, когда вся земля и все дела ее становились ему совершенно безразличны…
Сократ же с близкими все ходил среди богомольцев и пользовался всяким случаем, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Он утверждал перед подгулявшими селяками, что добродетель тождественна со знанием – в противном случае нам пришлось бы признать добродетель за теми людьми, где о ней не может быть и речи: если, например, человек в припадке помешательства совершает геройские поступки, то какая же тут добродетель? Мы не можем считать хорошим математиком того, кто случайно угадал, что пятью пять двадцать пять.
Селяки одобрительно кивали головами. Добродетель их мало занимала на празднике Великих Панафиней, но им приятно было тонкое обхождение курносого афинянина: сразу видно, что столичная штучка!
И оглушали со всех сторон торговцы:
– А вот сандалии, граждане, из самой лучшей кожи: сносу нет!.. Вот оливки замечательные!.. Покупайте, граждане, рыбку солененькую с Понта, а то всю сейчас распродам – и вам ничего не останется…
XVI. Стих Пиндара
Фидиас умирал. Отцы отечества готовы были бы выпустить его, но не хотелось расписаться в своей нечистоплотности и дряблости: ни один из них не верил в его виновность. Но что же скажет тогда народ афинский? И его держали за решеткой. Тюремщикам же был дан тайно приказ не препятствовать его друзьям бывать у него сколько им только заблагорассудится. Первым воспользовался этим Гиппократ, который, осмотрев больного, сейчас же пошел к архонту-базилевсу и твердо сказал: тюрьма убивает Фидиаса – его надо немедленно выпустить на солнце и отправить в Эпидавр на поправку: «Ответственность огромная, архонт-базилевс: Фидиас – это Фидиас!..» Те смутились, забегали и не знали, что делать. Своя рубашка к телу все же ближе. За Гиппократом пришли и все, но Фидиас смотрел на них так, как будто они были стеклянные, насквозь, и не видел их точно и только с большим усилием поддерживал беседу с ними. Дорион чаще других бывал у Фидиаса, и Фидиасу было с ним лучше, чем с другими: Дорион и молчал как-то особенно хорошо. И тихим было его худощавое, задумчивое лицо с глазами, в которых ходили отсветы его больших дум…
И вот раз, в сиреневых сумерках, когда Дорион сидел так у больного, на каменной скамье, вырубленной в стене, а Фидиас лежал и смотрел в низкий, закоптелый, невыносимо тяжелый потолок и что-то перебирал в душе, за решетчатой дверью послышались потушенные голоса, шелест женского платья, и стражник – он был из скифов, короткий, кривоногий, с плоским и грубым лицом и прямыми волосами – отворил железную дверь и на пороге остановилась стройная женская фигура, закутанная в пеплос. Фидиас с усилием перевел на нее свои лучистые теперь глаза: кто это?.. Сердце трепетно уже подсказывало ответ, но это было невероятно. Он приподнялся на локте… А Дорион, вглядевшись в сумраке в это прекрасное, бледное лицо, быстро встал: вся его душа вдруг запылала пожаром, так, что, человек совсем непугливый, он перепугался: точно в яркой вспышке молнии, ему открылось сокровенное, что он давно прятал в сердце даже от самого себя, о чем он старался никогда не думать, а когда невольно думал, то страдальчески хмурил брови и все же думы обрывал.
То была Дрозис.
Своими огромными глазами она что-то читала на белом лице Фидиаса. Вдруг какая-то волна прошла по ее прекрасному лицу, точеный подбородок задрожал, неслышными шагами она быстро подошла к каменному ложу артиста, быстро опустилась на колени и положила прекрасную головку ему на руку. Рука сразу вся намокла. Улыбка раздвинула запекшиеся уста, и, сделав усилие, он нежно погладил трясущуюся от рыданий голову. Теперь он знал наверное, что это явь, что она вернулась к нему, и вдруг он, уже приучивший себя к мысли о скорой смерти, весь от ужаса затрепетал: нет, нет, все, только не смерть теперь!.. А Дрозис мокрыми, жаркими губами неотрывно целовала его сухие, горячие руки, то прижималась к ним щекой, то нежно-нежно гладила их и смотрела в его огромные, новые глаза, каких она еще не знала.
Она ничего не знала о том, что происходит тут, в Афинах. Затосковав в Милете, она вернулась к себе в Милос – поближе к Афинам – и там впервые увидала присланную им, им изуродованную Афродиту. И с первым же судном, отходившим на Пирей, она направилась в Афины. Она думала, что мучительное состояние, в котором она столько времени жила, кончится, как только она ступит на белую мостовую Афин, увидит его дом, ни слова не говоря, бросится ему на шею. Но уже в Пирее она с ужасом узнала, что он в темнице и что ему грозит смерть. Во всем этом виновата только она. Пока она качалась на муле до Афин, конец копья его Афины Промахос светил ей издали, с высокой скалы Акрополя, лучезарной звездой, в которой светилась великая надежда, что боги простят и помилуют ее. Нет, нет, смерти не будет – великая богиня прикроет его!.. И в душе ее ярко-пестрым кошмаром крутились эти долгие месяцы без него и его любви. Там, в Милете, богатейшие и знатнейшие люди добивались ее улыбки как высшего дара богов, персидский вельможа Фарнабаз почти не отходил от ее дома, грозил, плакал, умолял, бросал к ее ногам и свои огромные богатства, и свою знатность, и свою блистательную карьеру при дворе Великого Царя, грозил, что он зарежет и ее, и себя, но она точно не видела всех этих смешных людей, она в думах была только с ним, который нашел в себе силы не последовать за ней, который показал ей, что есть иногда что-то у человека, что стоит выше его личного счастья. Что, вот это? – бросила она свои черные, огневые молнии на Акрополь. – Да, что-то, что стоит за этим, огромное и непонятное, которое, однако, у нее разбило все. Она хотела, глупая девчонка, «испытать» его любовь, как будто она нуждалась в каких-то доказательствах! Да разве изуродованная им его статуя, необыкновенная, страшная во всемогуществе красоты своей, не говорит об этом?.. И вот она около него, она целует его руки и боится смотреть в эти его новые глаза, и не может от них оторваться и вместо своей яркой и жаркой души чувствует в себе только одно: черную, страшную, невыносимую боль…
Дорион видел все. Дорион осторожно, на цыпочках вышел вон. Он ужасался себе: как, он все-таки, значит, любит эту женщину? Да, он любит ее до страдания, до муки, до полного изнеможения. Но как же, когда это на него упало, эта скала, которая вдруг раздавила теперь его? Вот тебе и «человек – это мера вещей»!.. Слова, слова, слова… Не помня себя, он снова вернулся в тесную, каменную темницу: может быть, он им понадобится. А его для них обоих теперь просто нет… И крепко сжав руками ржавые прутья железной решетки в окне, он приник к ним горячей головой и слушая те чудеса, которые вдруг открылись ему в его душе…
– Я уже не думал, что когда-нибудь увижу тебя… – запекшимися губами с усилием говорил Фидиас, ненасытимо любуясь ее белым в слабом свете глиняного светильника лицом. – Я думал о тебе всегда, и днем, и ночью, и все просил у тебя прощения, и рвался к тебе, и мучился…
Она тихонько застонала и снова затряслась в рыданиях: он просит еще у нее прощения!..
– И в особенности ты должна простить мне посылку тебе этой несчастной изуродованной статуи… – продолжал он. – Я, вероятно, сделал тебе этим очень больно… Да?
– Ах, что ты!.. – тихонько воскликнула она. – Если бы я получила ее раньше, я давно была бы около тебя, мой… Она и открыла мне всю любовь твою ко мне… Это так хорошо, что ты изуродовал ее – за неимением под рукой меня… – улыбнулась она, и снова слезы побежали из ее глаз. – Вот ты встанешь, мы поедем с тобой на Милос, но я не дам тебе поправлять ее – нет, нет, это будет мне постоянным напоминанием о моем легкомыслии, о моей жестокости…
И казалось Дориону, что во взбаламученную до дна душу его кто-то бросает один за другим радостно пылающие факелы…
За дверью послышались опять осторожные голоса и в темницу вошел Сократ. Его выпуклые глаза на одно мгновение остановились на лице Фидиаса, но он сделал усилие, чтобы скрыть свой испуг, и ласково и весело приветствовал Дрозис.
– Вот это очень хорошо, что ты к нам вернулась, Дрозис!.. – сказал он. – Я думаю, что теперь ты сама убедилась, что лучше Афин ничего на свете не найдешь. Не так ли?.. Да, а тебе, – обратился он к больному, – шлет привет Эвтидем. Он завтра утром зайдет навестить тебя. Мы долго беседовали с ним сегодня – заедают его мысли и сомнения. Никаких богов нет, говорит он, а если они есть такие, какими их изображают старые предания и поэты, то в сто раз было бы лучше, если бы их не было совсем. И я сказал ему, – голос Сократа стал теплее и глаза просияли внутренним светом, – что все эти сказки о богах – это как бы та пестрая завеса, которая скрывает от людей и твою Афину Партенос, и твоего Юпитера в Олимпии: ее не видно, но она – тут. От наших взоров, сказал я Евтидему, скрыт Тот, Кто создал эту вселенную, Кто совершенствует ее красоту и целесообразность. Если, любезный Евтидем, сказал я ему, в человеке есть что-либо божественное, то это его душа, которая управляет и руководит им, но которую никто не видел. Научись отсюда не пренебрегать тем, чего ты не можешь видеть, – суди о могуществе силы по ее действиям и почитай Божество.
Лицо Фидиаса вдруг просияло: он вдруг увидал Сократа, какого он еще не видал никогда. В своих исканиях чудак рос… Как все это хорошо!.. И он с улыбкой посмотрел на курносого Силена, который босиком стоял перед ним, и незаметно пожал горячей рукой руку Дрозис, ненасытимо смотревшей в его просветленное лицо и борющейся со слезами: она видела смерть и – не хотела верить этому никак.
Сократ, боясь Ксантиппы, которая объявила ему беспощадную войну за его ночные шатания, скоро ушел домой, а Дорион все стоял у решетки и смотрел в звездный мир, в красе несказанной раскинувшийся над засыпающим городом. Лаяли собаки, кричали жалобно совы и слышались временами голоса поздних гуляк. Потом началась поблизости драка между ними, и их озлобленные крики были под кроткими звездами особенно безобразны…
Фидиас, очень утомленный, заметно потухал, Дрозис, не выпуская его руки, встала.
– Я сумасшедшая… – сказала она. – Ты так устал от всех этих волнений. Теперь ты должен спать, а я приду к тебе завтра с солнышком и мы обсудим, что нам делать. Этот их суд над тобой – отвратительная комедия, и если им это нужно, я брошу им в лицо все, что у меня есть, а мы с тобой уйдем в изгнание…
– Я все давно отдал им… – проговорил слабо Фидиас. – Я продал свою землю под Элевзисом Фенику, вольноотпущеннику Фарсогора, и все пополнил с избытком. Я думал, что он покупает землю для Алкивиада, у которого он служил тогда управляющим под Колоном, но потом оказалось, что для себя. Такой толстый и медовый – ты, вероятно, помнишь его…
– Как же. Я рада, что все у тебя так хорошо устроилось, милый… А теперь спи, спи и спи, а завтра мы устроим все…
Обеими руками она взяла его высохшую голову и нежно прижалась губами к его горячему лбу. И – дрожал подбородок…
– Доброй ночи, Дорион… – ласково сказала она. – Ты тоже пойдешь?..
Дорион бросил осторожный взгляд на потухавшего, как светильник, в котором нет масла, Фидиаса.
– Нет, я останусь с ним… – сказал он. – Ему будет веселее… Ты не беспокойся, я не потревожу его: мы с ним всегда больше молчим.
Она благодарно осияла его своими горячими, черными звездами, еще раз нежно поцеловала Фидиаса и, сопровождаемая низкими поклонами скифа – она отсыпала ему столько, что он своим глазам не верил – вышла под звезды и, опустив на лицо край плаща, торопливо направилась к своему дому.
В тюрьме было глубокое молчание. Слышалось только тяжелое дыхание больного. И Фидиас, не сознавая того, уходил от жизни, которая таяла перед ним, и в самой сердцевине ее горел прекрасный образ Дрозис – Афродиты, снова для него воскресшей. А он тогда думал, что история Пигмалиона – сказка!..
– Ты не спишь, Дорион? – тихо проговорил он.
– Нет, нет… – сразу привстал тот с убогого ложа, приготовленного для него тюремщиком. – Не подать ли тебе попить?
– Попить? – не понял Фидиас. – Нет, я это стихи одни вспомнил Пиндара, – прошелестел он. – Я не очень люблю, когда он, оседлав Пегаса, уносится под влиянием орфиков в какие-то иные миры, потому что я не люблю лжи, даже пышной, но у него есть прекрасные страницы… Ты помнишь это: «Все наше существование ненадежно, непрочно. Мы проходим, как тени, сменяем один другого, как сны. Лишь лучами божественной благости освещается неверный путь нашей жизни, лишь в них одних свет и радость жизни нашей…» Да… – передохнул он. – И Сократ стал совсем другой. Он понял уже это. Пиндар – и подумать: сто лет прошло уже с тех пор!.. – все разъезжал по свету, как и мы все, то в Афины, то в Дельфы, то в Сиракузы, к Гиерону, то в Аргос. Ведь в Аргосе он и умер, не так ли?.. Да, «мы проходим, как тени, как сны…».
И после долгого молчания опять с усилием проговорил.
– А то еще Эсхил хорошо сказал в «Дщерях Солнца»:
Зевс это небо, Зевс это земля, Зевс это воздух,
Зевс это Все и то, что существует сверх Всего…
И мы – частички Его…
Он замолчал. А когда на зорьке – копье его Афины Промахос горело, как звезда, возвещая людям новый, радостный, солнечный день, – к нему торопливо, с замирающим сердцем вошла Дрозис, он лежал холодный и неподвижный, а на лице его сиял великий покой, как на лике его Юпитера в Олимпии… И Дрозис без звука упала на пыльный каменный пол… Дорион смотрел сквозь слезы на торжественно встающее из-за Евбеи солнце…
XVII. Софисты маленькие
А кровавая сказка, взаимоистребление всех этих городков-государств, – с акрополя одного города можно было часто видеть акрополь другого, вражеского – неутомимо продолжалась. Немного позднее знаменитый Аристотель в свои труды, которыми до сих пор не устают восхищаться ученые люди, многодумно вписал: «Государству, население которого слишком многочисленно, трудно хорошо управляться, если это только не представляет полной невозможности. По крайней мере, мы не видели, чтобы какое-нибудь государство, система правления которого считается хорошей, позволяло своему населению увеличиваться безгранично». Мы, наоборот, только это и видим, и самый смысл всех этих бесконечных войн – это желание присоединить к себе чужие земли с их населением, увеличить тем свою силу, а что касается до того, что государства-уезды управляются лучше государств-гигантов, то история Греции только одно и говорит: управляются они так же отвратительно, как и гиганты, а иногда и хуже. Один английский историк замечательно сказал, что «история Афин – это только драма самоуничтожения». Но, видимо, великие мудрецы – я говорю тут об Аристотеле – только тем от мудрецов невеликих и отличаются, что они говорят глупости, особенно великие, или их мудрость делает всякую сказанную ими глупость событием исключительной важности, для изучения которого нужны особые кафедры в университетах.
Итак, прекрасно управляемые государства-лилипуты продолжали взаимоистребление с самым отменным усердием, а так как человек – это существо, как говорится, разумное, – так уверял Сократ – то все эти воители, от стратегов до самого последнего обозного и до их историков, то и дело беспрерывно придумывали всякие большею частью очень жалкие софизмы, чтобы оправдать глупости уже совершенные и тем дать себе силу делать их и дальше. Если совсем недавно человечество европейское придумывало, что оно дерется за право, справедливость, цивилизацию, свободу и пр., то говорили все эти глупости одинаково, как немцы, так и их противники, и как немцы, так и их противники усердно молили Господа стать непременно на сторону их, безупречных рыцарей, против стреляющих в них негодяев и вандалов. В те же времена, две с половиной тысячи лет тому назад, жрецы точно так же молили бессмертных – они с тех пор успели помереть – богов покарать противников их племени и кричали всюду, где кричать только было можно, что иго Афин нестерпимо. Это было справедливо, но тут упускалось из виду только то, что эти крикуны только того и хотели, чтобы стать на место насильнических Афин и, в свою очередь, согнуть всех в бараний рог. Другие, наоборот, пышно декламировали, что Афины – это золотой цветок, что только демократия даст народам желанную свободу, и в доказательство этому они гордо указывали на яркую звезду, горевшую на конце копья Афины Промахос, сражающейся в первых рядах. И покричав сколько полагается, одурив себя своими же собственными глупыми словами, все более или менее бойко устремлялись в бой – за цивилизацию, демократию, свободу морей и всяческую другую свободу, за золото, спрятанное в опидоме Парфенона, за возможность набрать побольше рабов, а тех, которые упирались выступить на защиту всех этих прекрасных вещей, подгоняли в славный бой – тогда плетьми, а века спустя – пулеметами. И, конечно, опять и опять словами: человек – прирожденный софист, и выдумкам своим он всегда верит больше, чем даже собственным богам, хотя, впрочем, и его боги – тоже только очень неудачная выдумка его, маленького софиста с очень вертлявым языком.
Осада Платеи фивянами поэтому продолжалась. В осажденном городе стало голодно. В бурную ночь половина гарнизона пробилась в Афины, но фивяне продолжали остальных морить голодом. Их софисты на голос кричали, что это совсем не Платея, которая так прославилась в борьбе с персами, но другая Платея, которая перебила пленных фивян и, что еще хуже, была союзницей ненавистных Афин. Спартанцы поддерживали Фивы, и вот наконец заветная цель была достигнута: город был взят, платейцы и афиняне были казнены, их жены и дети проданы в рабство, город был разрушен до основания, а землица отошла к фивянам. Уцелевшим же платейцам афиняне великодушно дали право гражданства у себя.
Затем центр деятельности маленьких софистов был перенесен на Коркиру (Корфу), где демократы грызлись с аристократами. Наконец, демократам повезло, и они сослали всех аристократов на какой-то островок, но тут вмешалась Спарта со своими триерами. У Спарты ничего не вышло. Сосланных аристократов захватывает афинский флот, стоящий за демократию. Они сдаются на условии, чтобы их судили в Афинах. Их, однако, тут же обвиняют в попытке к бегству – «застрелен при попытке к бегству» – это и теперь самая любимая формула многих европейских правителей: дешево и удобно, – и афинские адмиралы отдают их коркирским демократам. Демократы прогоняют аристократов сквозь строй и 60 человек погибают под палками и мечами. Остальные забаррикадировались в тюрьме и выдвинули требование: чтобы казнили их не земляки-коркирцы, а афиняне. Демократы всю ночь осыпали их стрелами и черепицей, и многие из аристократов от страха кончили жизнь самоубийством. К утру все было кончено. Трупы были вывезены за город, а уцелевшие женщины и дети проданы в рабство.
Управившись таким образом с делами на Коркире, афиняне поплыли в Сицилию, заняли северное побережье острова, а остров, как и полагается, «разделился на ся»: ионийцы-колонисты стали за Афины, а дорийцы за родную Спарту. В Афинах на агоре и на Пниксе кричали, – горластее всех на этот раз был Гиперболий, продавец светильников – что Сицилию необходимо завоевать: Аристотеля тогда еще не было, и никто не догадывался, что хорошо управляются только маленькие государства. Война сицилийцам – и ионийцам, и дорийцам – что-то не понравилась, и они созвали всесицилийскую конференцию в Геле: тогда ни Локарно, ни Лозанны, ни Стрезы еще не было. Афинскому флоту дела пока что в Сицилии не было, тем более что сицилийцы в конце концов решительно отказались от всякого вмешательства в дела собственно Эллады.
И вдруг в Афинах снова яростно вспыхнула затихавшая было чума, люди снова стали умирать сотнями около фонтанов и по домам, и снова афиняне, вопреки строжайшим требованиям религии – религия удобна, пока она удобна, – стали выбрасывать своих покойничков куда попало. В доме Алкивиада умер от чумы престарелый Зопир, дядька, и Гиппарете стало еще труднее. Но политиканов не брала даже чума, и они исходили в воинственных речах – особенно здорово орал Клеон, кожевник, – а когда еще молодой Аристофан посмел в «Вавилонянах» критиковать их задорную политику, его вызвали в Совет и многозначительно сказали: «На поворотах легче». К счастью для афинской демократии, Спарту встряхнуло землетрясением настолько основательно, что спартанцы испугались и начали переговоры о мире. Они поставили скромные условия: возвратить Эгину эгинцам, повсеместно уничтожить афинские клерукии и прочие, но афиняне гордо отклонили эти бессмысленные мечтания и послали свой флот вокруг Пелопоннеса разорять и грабить, а затем Никий – стратег вообще не очень храбрый, но больше всего боявшийся своей собственной демократии – на шестидесяти трерах с двумя тысячами гоплитов пошел усмирять дорийский островок Милос, где в это время томилась своей надломленной жизнью прекрасная Дрозис. Тайный голос – демонион бывает не только у одних мудрецов – говорил ей, что что-то в своей молодой жизни она сделала не так. Прекрасная Афродита, созданная и изуродованная Фидиасом, стояла у нее в перистиле и была как бы живым и страшным символом ее изуродованной жизни. Услыхав о приближении афинян, Дрозис торопливо уехала в Коринф, враждебный Афинам – она боялась разгула пьяной солдатни и ненавидела теперь афинян и за убийство Фидиаса, и за насилие над Милосом. Милосцы не сдавались. Афиняне, опустошив остров, сожгли и виллу Дрозис, а ночью, когда весь берег багровел от костров солдатни и всюду раздавались их пьяные песни, тихий Дорион – он участвовал в походе – пробрался к дымящимся развалинам виллы и, боязливо прислушиваясь, зарыл прекрасную статую Афродиты-Дрозис в землю…
Затем горячие слова и еще более горячие действия маленькие софисты переносят в Беотию, в игру снова вмешивается Коринф и спартанцы, афиняне насыпают им по первое число и – поднимают нос еще выше. Аристофан – он никак не может заметить бесполезности своих остреньких выступлений – ставит своих «Ахарнейцев», резво нападает в них на кучку авантюристов у власти, толпа рукоплещет и хохочет, а авантюристы слушают и кушают. Чума явно идет на убыль, что должно значить, что бессмертные вполне довольны своими афинянами и поощряют их к дальнейшим подвигам. Афиняне усиливают в восторге свои возлияния, жгут еще больше жертв на Акрополе и еще больше и одушевленнее поют пэаны в честь бессмертных…
Даже при пересказе на бумаге все эти деяния утомительны до изнеможения, но, памятуя о героях, которые разделывали все это в жизни, необходимо запастись терпением и посмотреть, как спартанцы вскоре бросились опять на Аттику, их флот на Коркиру, а афиняне ловким маневром заняли и укрепили Пилос в Пелопоннесе. При атаке спартанцев на Пилос их вождь Бразид был ранен, и битва кончилась тем, что афиняне овладели… щитом Бразида, а пелопоннесцы потеряли его руководство и были отбиты2424
Это было как раз в тех местах, где долгие века спустя гремели громы Наварина и Англия, Франция и Россия воскресили мертвую уже Грецию к «новой жизни», в конце которой выскочил… Венизелос.
[Закрыть]. С Коркиры подошел афинский флот, разгромил спартанский, и Спарта начала переговоры с Афинами уже не только о мире, но и о «союзе двух великих и благородных наций». Клеон очень горласто поднял нос: прежде всего никакой тайной дипломатии – все разговоры публично! Спарта перепугалась: если она будет открыто говорить в Афинах об измене своим союзникам, то в случае безрезультатности переговоров она останется и без мира, и без союзников. Представители Спарты уехали, но афиняне отказались возвратить пелопоннесский флот, который Спарта передала им на время переговоров в доказательство искренности своих мирных предложений.
Спартанцы – то были все представители «знатнейших» родов Спарты – держались на небольшом и лесистом островке Сфактерия, рядом с Пилосом: им надо было отрезать афинян от моря и продовольствия. Был конец августа, были близки осенние бури, когда блокада острова станет невозможна, но нерешительный Никий, главнокомандующий Афин, все колебался со взятием Сфактерии. И на агоре поднялся на биму налитой кровью и бешенством Клеон, демагог, то есть человек, который хочет обманывать стадо двуногих без соблюдения обычных приличий, при помощи весьма непарламентарных выражений, на которые он был великий мастер.
– Граждане афинские, – затрубил он на всю агору своим зычным голосом, и глаза его метали молнии, – не слушайте малодушных! На Сфактерии сидят представители знатнейших родов Спарты. Пожар уничтожил леса, которые прикрывали их лагерь. Еще одно усилие – и Спарта у нас в руках. А нас просят о каких-то подкреплениях, нас баюкают сказками о каком-то мире!.. Вот они, ваши доблестные мужи в перьях и украшениях! Они много обещают, но мало дают… Нет, если бы то был наш брат, честный демократ, мы заставили бы давно уже спартанцев…
И он пустил непарламентарное выражение. Агора буйно зашумела: вот это так здорово – га-га-га!.. Демократии чрезвычайно хотелось утереть нос людям в перьях. И высокое собрание грянуло:
– Становись во главе всего дела, Клеон!.. Веди нас… Чего еще разводить тут бобы-то?.. Все идем за тобой!..
Это было немножко больше, чем ждал для себя пока что Клеон. Он немного опешил и стал упираться. Но агора пылала огнями воодушевления и сделать с демосом нельзя было ничего.
– Я готов хоть сейчас же сложить свои полномочия главнокомандующего… – сказал очень боявшийся демократии Никий, весь в перьях. – В самом деле пусть Клеон попытает счастья…
У того демократическая голова закружилась: а что, в самом деле? Тогда ведь он будет ходить в украшениях и перьях… И, весь охваченный административным восторгом, Клеон грянул:
– Будь по-вашему!.. Через двадцать дней я возьму вам всех спартанцев со Сфактерии живыми или мертвыми…
Агора бурно взревела. Лес рук поднялся над глупыми головами. Сердца били патриотический набат. Все были героями самого высокого давления.
Враги демократии и ее горлопанов надеялись, что с первых же шагов Клеон оскандалится, но каково же было всеобщее удивление, когда он свое слово сдержал и со спартанцами Сфактерии покончил: из четырехсот двадцати воинов, там засевших, сто двадцать восемь пали, а остальных Клеон-триумфатор увел за собой в Афины2525
Так в наши дни вахмистр, мужик, Буденный разнес барона Врангеля с генералами: видимо, «наука» в делах истребления рода человеческого особой роли не играет. И наполеониды были ведь не академики, а оборванцы.
[Закрыть].
Клеон-триумфатор властвовал больше года. Он резко увеличил дань со всех «союзников» Афин – деньги, благодаря войне, в ценности значительно упали – и особенно крепко нажимал там, где власть афинской демократии была особенно сильна. Одно за другим направлялись из Спарты в Афины посольства, но Афины на мир не шли: владеть укрепленными местами в неприятельской земле оказывалось чрезвычайно удобно. Из Пилоса и только что захваченной Киферы можно было не только делать набеги в самое сердце Спарты, но и поднимать там илотов против господ. Неутомимый Аристофан во «Всадниках» опять напал было на воителей, но воители делали свое дело: резались и кололи один другого эллины везде понемножку, всюду «кипела печальная работа мечей» и под Делиумом Алкивиаду удалось расквитаться с Сократом за Потидею: тут он спас жизнь Сократу.
На северо-востоке было сравнительно спокойно. Когда доблестные союзники – недоблестных союзников не бывает до тех пор, пока они не сделают какой-нибудь гадости – запаздывали с данью, появлялись афинские триеры и дело улаживалось. Местами стояли там афинские гарнизоны, но дух сопротивления все же возрастал: увеличение дани Клеоном и вообще его заносчивость – он вел дело так, как будто бы он был весь в перьях – делали свое дело. Когда демократия развозится, ее не уймешь – так было дело и с Клеон-Наполеоном, так потом было и в Версали…
Бразид – «неплохой для спартанца оратор» – ниспроверг в Мегаре установленную там Афинами демократию, возвратил опять город в лоно дорийского союза, а затем заключил опять союз с оборотистым Пердиккою, чтобы нанести удар Афинам на северо-востоке: этим он отнял бы у них богатый источник доходов и снабжения, ибо именно оттуда получали они металл для денег и лес для судостроения. Бразид бросился туда со своими гоплитами так шустро, что фессалийцы не успели прекратить ему дороги. За теснинами Олимпа, жилища бессмертных богов, его уже ожидал пройдоха Пердикка с войском. Они бросились к Амфиполису. Те послали искать помощи, и к ним подоспел Фукидит с семью триерами, но Амфиполис уже сдался: счастье и в пределах Аттики перешло к спартанцам – они были уверены, что это счастье. Афины были в бешенстве и потому незадачливого Фукидита послали в изгнание, которым он воспользовался для того, чтобы написать лучшую из историй древности.
Эти неудачи и потеря Фракии дали в Афинах перевес умеренной партии, и она сумела наладить перемирие на год. Но Клеон, отведавший «славы», весьма непарламентарно орал до тех пор, пока афиняне не послали его с войском против Бразида. В сражении со спартанцами при Амфиполисе Клеон был разбит и убит, но и Бразид, тяжело раненный, прожил только до тех пор, когда своими глазами он увидел победу.
Неуверенный Никий со своей партией в Афинах и царь Плейстонакс в Спарте добивались из всех сил прекращения войны, и весной был заключен наконец так называемый Никиев мир: завоевания обеих сторон в Аттике и Пелопоннесе возвратить по принадлежности, пленных разменять, Амфиполис оставить за Афинами, халкидским городам, по очищении их спартанцами, возвратить прежнее положение, каждый год возобновлять этот мир великою клятвою и во всех священных местах Греции поставить столбы с условиями мира. А в следующем году обе высокие договаривающиеся стороны заключили не только оборонительный, но и усмирительный союз, потому что некоторые союзники, как Беотия, Мегара, а в особенности Коринф, и слышать о мире не хотели. Конечно, мертвые могли встать из могил и со дна морей и спросить: позвольте, но зачем же мы тогда дрались, страдали и умирали, но они этого не сделали. А впрочем, если бы и сделали, то толку все равно не было бы. Вероятно, софисты встретили бы их любезнейшей улыбкой и сказали бы: «А уж это дело ваше… Надо было смотреть вовремя…» и – взялись бы за составление очередной речи за что-нибудь или против чего-нибудь…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































