Текст книги "Софисты"
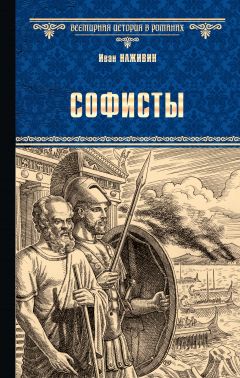
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
Речь старика – говорить ему в таком огромном собрании было просто физически трудно, а кроме того, его с мест, несмотря на запрещение архонта, то и дело прерывали всякими дерзкими выходками – была уже едва слышна. Да и надобности большой в ней не было: он был дерзок перед народом и его судом и этого было вполне достаточно. Приступили среди всеобщего возбуждения к голосованию – голосовали белыми и черными камешками – и оно дало: двести восемьдесят за виновность и двести двадцать за оправдание: некоторые в самом деле почувствовали, что старик в своем деле руководствовался побуждениями, которые стоят выше разума агоры. Обвинители, окрыленные успехом, потребовали смертной казни.
– Сократ, – поднял голос архонт, который заметно устал и зевал все чаще и чаще, – по древнему обычаю наших предков суд предоставляет тебе право просить о замене этого сурового наказания другим. Что ты имеешь сказать по этому поводу?
Среди бурно волнующегося народа друзья Сократа незаметно пробились к нему и тихими голосами подсказывали ему сзади:
– Требуй изгнания!.. Мы берем на себя все заботы о твоей старости… Проси об изгнании!
Бледный от усталости, Сократ с улыбкой покачал лысой головой и, сделав знак рукой, обратился опять к суду:
– Если отвечать вам, судьи, по совести, то… – Он с улыбкой поднял просветленное лицо. – Так как я хотел народу только добра, то предлагаю вам заменить мне смертную казнь принятием меня в пританею и содержанием меня на счет казны до конца моих дней…
Все в ярости взорвалось: какая дерзость!.. Какое издевательство над народом!.. Смерть ему!..
Друзья его, уже не считаясь с порядками места, напали на него со всех сторон: тогда избирай штраф – мы внесем… Он опять с усмешкой пожал плечами и снова среди бурного рокота толпы обратился к архонту:
– Мои друзья готовы внести за меня штраф. Хорошо: тридцать мин я готов нести. Большего я, старик, не стою…
Все вокруг крутилось в гневе и ненависти. Это превосходит всякое терпение!.. В суматохе и гвалте архонт поставил предложение Сократа на голосование и – все: триста двадцать голосов за смерть и сто восемьдесят – против. И уточнили: цикута. Это был жест неимоверного великодушия, вызванный, вероятно, белой головой старика, ибо обыкновенно демократия не отступала перед жесточайшим мучительством своих жертв, которое нисколько не уступало позднейшему, введенному римлянами, распятию, самой страшной из мук, которую только мог придумать человек.
Вздох облегчения промчался по толпе: нет, есть еще суд в Афинах! Виднелись удовлетворенные лица, слышались торжествующие речи. Друзья с ожесточением нападали на Сократа, но в нем был голос, который говорил: хорошо! И его усталое лицо сияло. Толпа, галдя, выливалась в широкие двери, охраняемые, как всегда, стражей, а когда вывели Сократа, к нему с воплем бросилась с беспорядочно разметанными волосами, вся в слезах Ксантиппа с детьми:
– И что ты, безумный, наделал только?! Что ты наделал!.. А о нас-то ты подумал?..
Стражники-скифы равнодушно оттолкнули ее прочь, и она, упав лицом в душную пыль, забилась рыданиями, а Сократ, не оглядываясь, пошел возбужденными улицами фиалками венчанных Афин в тюрьму. И томила его одна огромная и темная мысль, которая и раньше не раз вставала перед ним: почему это часто добрые, не плохие и не жестокие люди, соединившись в толпу, становятся чудовищем? И ответа не было. И было тоскливо: вот ему уже за семьдесят, жить осталось немного – неужели же он так и уйдет в могилу, не ответив себе на эти огромные, темные вопросы? Да, да, пожалуй, речение дельфийского оракула о премудрости Сократа надо, в самом деле, понимать как насмешку…
И Сократ тяжело вздохнул…
– Но казнь придется отсрочить… – рассуждал суд. – Сегодня в ночь уходит в Делос священный корабль, а по обычаю, пока он не вернется с праздника Аполлона, казнить никого нельзя.
У многих отлегло от сердца: авось за этот месяц старик одумается и убежит…
– Но надо заковать его в цепи, – озабоченно сказали они. – А то он еще убежит…
Улицы и агора оживленно галдели: засудили-таки старичишку! Обвинители чувствовали себя героями. Ксантиппа с детьми рыдала. А в ночь из Пирея, весь изукрашенный цветами на остров Делос, светлое жилище Аполлона, Звезду Морей, вышел афинский священный корабль на торжественный праздник светлого бога…
XLII. Жертва Асклепию
В тяжелых, противно воняющих железом, ржавых цепях на руках и на ногах, в тесноте и полумраке тюрьмы – это была как раз та тюрьма, в которой умер Фидиас, – Сократ тихо ожидал своего уже недалекого конца. И так же, как при Фидиасе, лежали на каменных плитах пола резкие тени от толстой решетки, и так же слышались за дверью грубые голоса сторожей, и так же было непонятно, зачем все это делается. Днем у Сократа были постоянно люди, а ночью он был наедине со своими мыслями, которые по мере приближения конца становились все смелее и страшнее, а итог их весь заключался в трех словах: я решительно уже ничего не понимаю, и вся моя жизнь была как будто отдана миражам. Но на людях старик скрывал эти свои ночные переживания, как это делают все люди, думая, что в этих переживаниях есть что-то стыдное, и встречал всех с ясным лицом и ласковой улыбкой. Федона раз эта улыбка так расстроила, что он разрыдался:
– Нет, я не могу выносить мысли, что ты умираешь невинным!..
Сократ опять ласково улыбнулся ему:
– А разве ты предпочел бы, чтобы я умер виновным?!
Невольная улыбка обежала пасмурные, озабоченные лица: старик и тут оставался верен себе!..
– Сократ, – убедительно обратился к нему похудевший от всех этих тяжелых волнений Платон, – от имени всех твоих близких еще раз умоляю тебя: бежим… Нельзя терять так время! Как будто в одной Аттике можно жить. Поедем в Сицилию…
– Бежать? – посмотрел на него далеким, точно непонимающим, взглядом Сократ. – Но где же будет то уважение к законам родины, которое я проповедовал вам всегда?..
– Но как же можно уважать все законы? – пожал плечами Антисфен. – Есть законы разумные и есть законы очень глупые. И разве ты сам не отказался взять в Саламине Леона, когда тираны избрали тебя для этого грязного дела? И потом, не сам ли ты столько раз говорил нам о всех этих лавочниках агоры, каменотесах, логографах, изготовляющих для народа эти самые законы? Разве они думают о справедливости, когда занимаются этой стряпней?
– Надо повиноваться и законам несправедливым, – сказал Сократ так безучастно, что все невольно переглянулись.
Антисфен хотел что-то возразить, но Федон тихонько толкнул его локтем и указал глазами на Сократа.
Старик сидел на своем жестком ложе с цепями на руках и на ногах, и видно было в нем теперь два Сократа: один хотел быть, как всегда, любезным с близкими людьми, а другой поверх их голов смотрел в какие-то дали, где им не было места. И Антисфен, перебирая пальцами свою беспорядочную бороду, задумчиво отошел в сторону. Критон – он был немолод и очень богат – в другом углу темницы горячо доказывал Платону шепотом полную возможность увезти старика подальше от афинской черни. На некрасивом, лобастом лице Платона стояло хмурое выражение: но что же можно с ним сделать?
Сократ сделал усилие, стряхнул с себя эту пугающую его друзей задумчивость и с улыбкой обратился к ним:
– Ну, что у вас новенького в венчанных фиалками Афинах?
Все сгрудились вокруг него и стали обсуждать положение родины, которая продолжала баламутиться в поисках того, чего не бывает в жизни. В Элевзисе все сидели тридцать, которые, опираясь на спартанцев, все вели какие-то переговоры с правительством Афин, на что-то все рассчитывали. И Фивы поднимали голову: не для того, кричали там маленькие софисты, свергли мы иго Афин, чтобы подставить шею под ярмо Спарты!.. Но разговор скоро опять осекся: Сократ ушел опять от них в какой-то ему одному открывшийся мир.
Вошла Ксантиппа с Лампроклесом, старшим сыном ее. Меньшие дети больше волновали Сократа, и Ксантиппа брала их с собою только изредка. И тогда они глядели на худеющего и побелевшего отца испуганными глазенками и боялись с ним разговаривать. Ксантиппа сморкалась, вытирала слезы, уговаривала старика покориться друзьям и бежать, придумывала всякие обращения то к архонту-базилевсу, то к пританам, то к народу о помиловании. А сын тупо молчал. Он не понимал отца: богатые люди тянут его на волю, а он капризничает, в чем у него тут может быть расчет?
Лучше всего было Сократу ночью, в одиночестве, хотя иногда и страшно перед неизвестным. Иногда он пытался эти ночи осветить дневными беседами.
– Не весь я умираю… – говорил он раздумчиво. – Умирает только смертная часть моя, возвращаясь в землю, чистая же душа отходит в невидимый мир, божественный, вечный, разумный, где и живет в блаженном сообществе богов. Но, – тихонько вздохнул он, – это я н е з н а ю и потому, хотя это и утешительно, но принять это как истину мудрый не может. В конце концов, никто не знает, что такое смерть. Большая часть людей боится смерти, как будто бы она была величайшим злом. А может быть, в ней скрыто величайшее благо. Но и этого я тоже н е з н а ю.
И он оборвал и задумался: «Чистая душа…» – сказал он только что. А раз кто-то в гимназии бросил ему со смехом, что вся философия человека зависит от толщины его носа.
– Будь ты прекрасен, как Алкивиад, и ты смотрел бы на мир иначе!.. Ха-ха-ха…
И тогда он подумал про себя, что, может быть, это и верно. И вспомнился ему день, когда раздраженная Ксантиппа вылила на него и Дориона ведро помоев. А потом, ночью, – в голове его шумело от вина – он все же пошел к ней. А будь у него другой нос, на месте Ксантиппы была бы Феодота или Аспазия, а то и Дрозис. Но он нетерпеливо тряхнул белой головой: все это пустяки – во всяком случае, теперь. Самое важное и смешное – это то, что жизнь кончилась. Казалось, что ей и конца никогда не будет, а конец вот пришел, и так изумительно скоро! Это было и странно и жутко: точно великие боги обманули в этом человека как-то особенно хитро.
Ему бросилось в глаза доброе лицо Критона, который о чем-то грустно думал.
– А Платон все дальше и дальше уходит от земли… – сказал Сократ ему. – Недавно он излагал мне свои мысли о том, что высочайшее в мире существо есть в то же время и совершеннейший разум, проявляющий себя в делах творения, родоначальник и совершитель всякого нравственного закона в мире. И он уподобляет дух человеческий божеству… И эти его туманные пока что идеи… Он утверждает решительно больше, чем знает, – в этом большая опасность, Критон…
А дни и ночи бежали – быстро, быстро… И вдруг из Пирея страшная весть: священный корабль с Делоса идет!.. Среди друзей старика началась суета. Ксантиппа, рыдая, рвала на себе седые волосы, дети испуганно плакали. Критон решительными шагами вошел в темницу.
– Сократ, никакие колебания больше невозможны: завтра – казнь. Я купил всех, кого нужно, и на твоем пути нет никаких препятствий. Скажу даже больше: мужи афинские одумались и ничего так не желают, как твоего бегства. Пожалей семью, пожалей нас, твоих друзей, пожалей даже твоих судей, которые в ослеплении страстей вынесли этот ужасный и несправедливый приговор, бежим!.. Ты и вся твоя семья будете обеспечены до конца дней. Не медли же!..
Сократ с мягкой и грустной, но точно рассеянной улыбкой посмотрел на взволнованное, несчастное лицо Критона и покачал, все улыбаясь, исхудавшей за этот месяц головой. Взволнованно вошли ученики, которые сейчас же начали молить его о том же. Но они не понимали, что Сократ давно уже перешагнул роковую черту в душе и возврат для него назад был просто не по силам. Играя шелковистыми, золотыми локонами Федона, он тихо увещевал своих друзей быть мужами и спокойно встретить неизбежное, как вдруг в темницу с раздирающими воплями ворвалась растрепанная Ксантиппа.
– Сократ, муж, пожалей нас!..
И, упав к его ногам, на истертые плиты, она рвала на себе волосы и билась головой об пол. Сократ побледнел, и губы его посинели и затряслись: он как будто впервые осознал, что он связан другими, что он принадлежит не только себе. Старые руки дрожали… Он растерянно смотрел то на Ксантиппу, то на бледного Критона – тот невольно подался вперед: авось сопротивление старика будет теперь сломлено. Но Сократ, сделав над собой тяжелое усилие, дрожащим и слабым голосом проговорил:
– Уведите ее… Больно… все… это…
Критон сделал знак своему слуге, который всегда сопровождал его, и тот, рослый и сильный, поднял безумствующую Ксантиппу и, осторожно обняв, повел ее, сопротивляющуюся, вон. Сократ отвернулся. Губы его тряслись. Но он овладел собой.
– А что же я не вижу нашего милого Платона? – спросил он тихо.
– Он вот уже третий день лежит больной…
– Так, так… – покорно сказал Сократ. – Ну, передайте ему мой последний привет… А это вот, – протянул он Федону исписанный папирус, – два стихотворения на Эзоповы темы, которые я написал тут, в тюрьме, – слава великим богам, это все, что останется после меня написанного. Возьми это на память обо мне…
У Федона затряслись губы.
– Может быть, это было большой ошибкой с твоей стороны: ты не подумал о нас… – сказал он. – Единственный раз, когда я видел тебя за писанием, это когда ты беседовал с Эвтидемом о справедливости и, чтобы дело было ему яснее, писал – на песке…
И у Сократа мелькнуло в голове: «а не все равно?..» Но он не сказал ничего.
В низкую и мрачную темницу вошел тюремщик, уже старый человек с бесконечно усталыми глазами.
– Сократ, твой час настал… – сказал он в простой торжественности. – Ты всегда был мудр и тих, не как другие, и я надеюсь, что и последний час твой ты встретишь так же, как жил тут. Судьба – это судьба. А на меня, – его губы чуть дрогнули, – ты не сердись, добрый старик: я не свою волю творю…
И он торопливо отвернулся.
– Дай мне твою чашу… – встал, звеня цепями, Сократ. – И скажи мне, как я должен все это сделать…
– Выпить все до дна… – снимая с него цепи, отвечал тюремщик мокрым, прерывающимся голосом: он, в самом деле, таких узников за свою долгую жизнь при темнице еще не видал. – А потом надо ходить. Когда же ты почувствуешь, что цикута начинает действовать, то приляг – и жди…
Сократ спокойно принял чашу. Федон разразился рыданиями, а за ним и другие. Слышно было, как хрустели руки Антисфена, который сжимал их изо всех сил, чтобы не разрыдаться.
– Но я выслал Ксантиппу только для того, чтобы этого не было, – с тихим упреком сказал Сократ. – Будьте мужами… Итак, час разлуки настал. Мы расходимся: я – чтобы умереть, вы – чтобы жить, но что лучше, это известно только Богу…
Он мягкими, грустными глазами простился со всеми, спокойно выпил чашу до дна и возвратил ее тюремщику. Тот отвернулся и закрыл лицо полой своего дрянного плаща.
– Ну, а теперь я буду ходить, как советовал этот почтенный человек… – сказал Сократ.
Заплаканные, припухшие, полные боли глаза смотрели на него не отрываясь. Он чуть улыбнулся им со светлым лицом и стал ходить из угла в угол, слушая себя. Это продолжалось недолго: он почувствовал, что ноги его деревенеют.
– Так… – сказал он себе. – Теперь, значит, надо лечь…
Он лег на свое жесткое ложе и наблюдал, что в нем происходит. Общий паралич, вызываемый цикутой, подымался вверх. Он перестал чувствовать ноги совсем. И это поднималось. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Слышно было в мертвой тишине, как кто-то давился рыданиями.
– Критон, – тихо позвал Сократ. – Смотри не забудь принести Асклепию в жертву петуха за вы… здоро… вление…
Все переглянулись: какое выздоровление? Он бредит?
– Это он смерть называет выздоровлением… – дрожащими, распухшими губами прошептал Федон и опять горько заплакал.
Критон склонился к Сократу.
– Может быть, у тебя есть и другие желания. Сократ?.. – тихо спросил он.
Но Сократ уже не ответил. По лицу его разлился такой блаженный покой, что снова зарыдали все с тюремщиком вместе, но уже не столько от горя, сколько от безграничного умиления…
– Я пойду за Ксантиппой… – тихо сказал Критон. – Теперь тут очередь за женщинами… Да… – тяжело вздохнул он. – Говорили, что род его идет от Дедала, от Икара, который с грешной земли устремился к солнцу и…
Он не докончил своей мысли и в сопровождении своего раба вышел. Там его встретили воплями.
– Ксантиппа, – сдерживая дрожь в голосе, сказал Критон. – Иди и приготовь его к погребению… А о себе и детях не беспокойся нисколько: я беру все на себя…
И распухшая от слез Ксантиппа, поняв, что все кончено, и сразу покорившись неизбежному, взялась с помощью соседок за погребальные хлопоты. Они обмыли Сократа, на голову его возложили, по обычаю, венок из зелени. По углам темницы поставили сосуды с благовониями, но на лицо маски не положили: на нем было выражение такого дивного покоя и величия, что просто руки не подымались закрыть его. В рот Сократу положили обол за перевоз Харону, а в руку дали кусок сдобного хлеба для Цербера – все честь честью, как полагается у хороших людей. Потом в гроб ему положили – вероятно, обычай этот был заимствован у египтян, у которых он существовал с глубочайшей древности, – маленькие фигурки. В женские могилы греки клали только женские фигурки, а из божеств Афродиту, Эроса, Деметру, Афину-Нике, а в мужские – и мужские, и женские…
И среди тихого плача всех близких, земля в ночи – похороны всегда совершались до восхода солнца – поглотила Сократа. На востоке уже слабо черкнула зорька золотисто-зеленая… И все молча разошлись по домам. На третий день все близкие снова пришли на могилу, затем на девятый и потом на тридцатый, и каждый раз делали возлияния, приносили усопшему погребальную трапезу – все чинно, хорошо, как у добрых людей полагается…
* * *
И грустное повествование о кончине старого чудака Сократа современный историк заканчивает не менее грустным, но вполне естественным замечанием: «Нигде и следа не встречается, чтобы афиняне пожалели когда-нибудь об осуждении Сократа». Это справедливо: в древних записях, действительно, такого сожаления не встречается нигде, но когда через друзей Сократа по Афинам распространился слух, что его последняя просьба к друзьям была о жертве Асклепию, – в Афинах Асклепий пользовался исключительным уважением – город зашумел:
– А как же, говорили, что он никаких богов не признавал? В последнюю, можно сказать, минуту он не о себе, не о семье думал, а о том, как принести жертву богу… Ох, и легковерные же мы ослы – любой прохвост нас за нос водить будет сколько хочешь – и хоть бы тебе что!..
От обвинителей Сократа все отвернулись и поэтому рая в сумерки кто-то так ловко угодил поэту Анитосу тяжелым камнем между лопаток, что он слетел с ног и немало после этого прохворал. Облегчила его только ночь, которую он по указанию жрецов провел в храме Асклепия… После этого он стал еще злее нападать на память Сократа и вообще всяких болтунов, но часто встречал сердитые возражения:
– Мели, мели больше!.. Все знают, что Сократ всю жизнь приносил установленные жертвы богам и в храмах, и у себя дома даже… Много тоже вас тут, брехать-то!..
Но среди тревог, ставших уделом Афин в это время, все скоро совсем забыли и Сократа, и его недругов… Воскресили потом эту трагедию Ксенофонт да Платон, но оба неудачно: Ксенофонт по свойственной ему тупости, а Платон по свойственному ему богатству фантазии и любви к прекрасным фразам, которые сделали из доброго старика какого-то философа, почти полубога…
XLIII. Гимн великому непостижимому
Эллада кипела смутой. В Элевзисе «правило» охвостье тридцати тиранов. Потом они объявили войну Афинам. Кто и как победил в ней, совершенно не важно: если бы победил не тот, а этот, результат был бы совершенно тот же, как если бы в Пелопоннесской войне победила не Спарта, а Афины, ничего в ходе жалкой истории рода человеческого не изменилось бы. Наконец, афинянам удалось заманить тиранов в ловушку и казнить. И они решили отблагодарить наконец тех, кто опрокинул олигархию: всем им был пожалован народом венок из дикой маслины, а кроме того, народ ассигновал целую тысячу драхм на памятник той сотне, которая под водительством Фразибула повела из Фил борьбу за освобождение народа от ига тиранов, и даровал право гражданства всем метекам, которые поддержали это дело в ночном походе Фразибула на Пирей и так далее…
Афины кипели внутренними неурядицами. Фукидит говорит, что «чем продолжительнее становилась борьба, тем более обнаруживалось вероломство и жестокость мести. Общепринятый смысл слов утратился. Хвастовство смешивалось с действительным достоинством, осторожность казалась трусостью, безрассудная отвага – мужественным самопожертвованием. Даже узы кровного родства были попираемы, и согласие между партиями, имевшими в виду не общий интерес, а удовлетворение личных честолюбий, поддерживалось только общностью преступлений». Извне на Элладу шли нападения с одной стороны могущественного Карфагена, а с противоположной – поднявшей вдруг голову Македонии, которая и прикончила вековую грызню всех этих смешных городков-государств, придавив их собою все, чего никак не могли достичь персы.
Сократ забывался все более и более, но немногие свято блюли память его. Идти без страха навстречу смерти, не имея надежды на небесное блаженство, вот что пленяло в нем людей, вот что вызывало их восхищение больше, чем его, в общем, довольно смутное и путаное учение. Так называемые ученики этого «болтающего оборванца», как называл его поэт Эвполис, потянувшие каждый в свою сторону еще при жизни старика, после его смерти расползлись еще дальше.
Больше всех них повезло, по-видимому, Платону. После смерти Сократа он до такой степени проникся отвращением к политике, что бросил ее совершенно. Первое время он жил в Мегаре, а потом отправился путешествовать в Египет, в Сицилию и прочее. Возвращаясь иногда в Афины, он любил беседовать в садах Академуса под Афинами со своими «учениками» и много писал, причем в писаниях этих он показывал себя то очень высоко парящим поэтом, для которого печальная действительность земли нисколько не обязательна, то настоящим гражданином агоры, для которого нисколько не обязательна высокая поэзия. Если в качестве высокого поэта он провозглашал, – это основная мысль его «Республики», – что самый несправедливый человек – это человек самый несчастный, то в качестве гражданина агоры он советовал рабовладельцам никак не «баловать» своих рабов. Он утверждал, что всякий благомыслящий человек молит о помощи божество утром и вечером возлияниями, дымом благовонных курений и молитвой, и с большим ехидством и не всегда чистоплотно высмеивал всех тех, кто осмеливался думать по-своему и не соглашаться с ним. В споре с Тразимахом халкидонским, который проповедовал, что справедливость – это то, что полезно сильнейшему и что поэтому для водворения порядка в государстве необходимо, чтобы справедливые и слабые повиновались правителям, дабы способствовать усилению их власти в борьбе с преступлениями несправедливых, Платон доказывал, что если сами правители не принадлежат к числу справедливейших людей, то государство приходит в расстройство и общество перестает существовать, что, конечно, действительности нисколько не соответствовало. И в то же время он мог долгое время ломать голову над такими вопросами, например, как могут прекрасные вещи существовать с Красотой, не истощая ее, не разбивая ее на мелкие части… Ученые утверждают, что корни Платона идут за Сократа, в чертополох орфиков, а влияние его будто бы сказалось потом на первоначальном христианстве, тоже весьма сумбурном. Этому можно легко поверить. Это был двуликий Янус, который сам так до конца и не разобрал, какой же лик его настоящий… Потом он опять собрался в Сиракузы к тирану Дионису в надежде научить его, как жить и править по его, Платона, учению, но ничего с тираном у него не вышло: оказалось, что Дионис сам знает все нисколько не только не хуже любого философа, а даже и лучше, ибо не он искал расположения философов, а философы подмазывались к нему.
Больше повезло у Диониса другому ученику оборванца, Аристиппу. И не мудрено: и словом, и примером, любезный и красивый Аристипп учил и тирана, и его двор, как именно надо красиво и со вкусом жить: рвать на лугах жизни все приятные цветы, но в то же время и не впадать в рабство страстям. Постепенно образовалась школа киренаиков, назвавшихся так по Кирене, родине Аристиппа. Их было особенно много в павших Афинах и на острове Эгине, который, благодаря своей торговле, после войны процвел еще пышнее. Из этой школы вышел потом благостный Эпикур и не очень его понявшие и весьма его извратившие эпикурейцы, которые потом и вскоре стали называться свиньями из стада Эпикура, в чем, понятно, Эпикур не был повинен и на волос.
Ксенофонт, тупой и очень земной, прославился потом как военный и как писатель не первого сорта. Один из спартанских армостов-наместников, Клеарх, за жестокое обращение с жителями Византии и ненасытное корыстолюбие – это была система у спартанских представителей – лишен был должности. По дружбе с Лизандром он вошел в связь с Киром Младшим, который в это время вздумал свергнуть с престола своего брата, Артаксеркса. Кир обратился за поддержкой к Клеарху. Последний при помощи персидского золота нашел в Элладе много охотников до приключений, целые полки. Клеарх двинулся с ними в Азию, где к нему присоединилось еще немало воителей. Всего греков собралось до тринадцати тысяч. Соединившись с войском Кира, все двинулись к Эвфрату. На равнине при Кунаксе, часа три не доходя до Вавилона, страна впервые услышала спартанский пэан, и когда греки со своим криком – а-ла-ла… – бросились на персов с копьями, те побежали, так что даже сам Тиссаферн не мог остановить их. Но Кир пал в битве и его рать расстроилась. Персы Кира бросили греков на произвол судьбы и Тиссаферн обманом истребил всех их военачальников. Ксенофонт воодушевил греков пробиваться домой, и они направились обратно. Поход продолжался около года. Красавица Аспазия попала в руки Артаксеркса, который взял ее к себе в гарем и весьма оценил. Старший сын его, Дарий, при назначении его наследником престола попросил у отца и владыки Аспазию как дар. Артоксеркс, по обычаю, отказать ему в этом не мог, но – тоже по обычаю – надул его: он сделал Аспазию жрицей богини Анаитис и тем отдалил от нее всякое мужское общество… А Ксенофонт в это время уже служил по вольному найму у фракийского царька Сейтеса и по его распоряжению предал огню и мечу мирные пажити Фракии. Потом поступил он на службу к спартанскому царю Агезилаю и дрался на стороне Спарты против фивян и афинян под Коронеей. А потом, сколотив таким образом копеечку, степенный и набожный, купил себе именьице под Фивами, где и занялся сельским хозяйством и литературой. Так как смерть помешала Фукидиту докончить его историю, за дело взялся Ксенофонт. Потом, в подражание Платону, он написал свой «Пир», очень бедный пир, а чтобы понравиться Дионису Сиракузскому, сочинил еще и Киропедию. Между делом он писал о предметах более прозаических: не советовал своим соотечественникам кушать мясо и другие вещи без хлеба, не советовал есть много и разнообразно… Он основал, не основывая, школу, которая не нося его имени, своих последователей, ловкачей считала и считает миллионами4747
В русской эмиграции ему особенно повезло. Бесчисленные Ксенофонты ее извели горы бумаги на свои неудачные Анабазисы, на рассказы о том, как от России они отступили на берега Сены или в Аргентину. Из Анабазисов их, как и из походов их, ничего не вышло.
[Закрыть].
Даже Антифон, логограф, а раньше старьевщик, оказал некоторое влияние на развитие человечества. Каллисфен личное поведение Антифона возвел в степень доктрины: сила есть право, но сила перестает быть правом, если не преобладает над ним. Эта доктрина чрезвычайно понравилась маленьким и большим софистам, расплодившимся по свету века и тысячелетия спустя, причем одни из них, как немецкие генералы, исповедовали ее совершенно открыто и даже подбоченившись, а другие, потрусливее, строя всю свою жизнь именно на ней, кричали о великой ее безнравственности. Опыт показал, что делишки свои можно устраивать неплохо, и открыто исповедуя ее, и – на словах – отвергая ее.
Из школы киников или циников, основание которой положил ненавидимый Платоном Антисфен, вскоре встала крупная и яркая фигура Диогена. Его отец, Гикезиас, был банкиром или менялой в Синопе. За подделку монеты, как трепали языки на агоре, Диоген был сослан. Оракул сказал Диогену: «Переделай номизму», но номизма по-гречески и монета, и «установленные законы и обычаи», отсюда и пошла болтовня агар. Диоген свел свои потребности к минимуму и совершенно не заботился о завтрашнем дне. Это он называл адиафорией – безразличием к миру внешнему: «Все в тебе», как говорил потом В.К. Сютаев, друг Льва Толстого. Он светился здоровьем, силой и радостью. Всегда острил. Был с маленькими ласков и горд с большими. В Коринфе он жил в кипарисовой роще на вершине холма Кранейон, неподалеку от храма Афродиты и мавзолея прекрасной Лаисы. Он грелся среди голубого тумана моря на солнышке, дышал воздухом, напоенным смолистым ароматом кипарисов и сосен, думал или сидел на траве с восхищенными учениками и разговаривал с ними. Звали его, как и Антисфена, Собакой, и это нисколько не беспокоило его: собака – символ и бесстыдства, – в этом его упрекали натуры возвышенные – но также и сообразительности, верности и бдительности. Когда его единственный раб Манес бежал, он спокойно сказал: «Если Манес может жить без Диогена, почему Диоген не может жить без Манеса?» Он писал драмы и диалоги, переполненные яркими парадоксами, придумывал деньги-костяшки, чтобы хоть этим помешать накоплению праха, хохотал над элевзинскими мистериями и всякими другими подобными глупостями, до утонченностей больших философов включительно. Это он, придерживаясь болтовни Платона, приравнял человека к ощипанному петуху, это он, когда кто-то стал доказывать, что, по Зенону, движения нет, встал и начал ходить, это он, увидав, как мальчишка пьет из фонтана пригоршней, сейчас же выбросил свою чашу, как вещь ненужную. И когда к нему поднялся на Кранейон Александр Македонский и величественно спросил мудреца, не может ли он что-нибудь для него сделать, Диоген посмотрел на этого человека в перьях, очень пышных, и сказал:
– Да, как же: отойди – ты застишь мне солнце…
И когда словечко это передали совсем уже старому Дориону, он, редко улыбавшийся, на этот раз даже рассмеялся и сказал:
– Это, может быть, самое умное слово, которое слышала Эллада с начала времен. Да, перекладывать кирпичики – самое пустое из дел: единственно, что человеку остается, это опрокинуть все это пинком ноги: отойдите вы все, люди в перьях, и не мешайте нам греться на солнышке.
Диоген часто даже днем ходил с фонарем, он искал в мире человека и, хотя он и дожил до глубокой старости, так и осталось неизвестным, нашел он его или нет. Но если принять во внимание, что из циников выросли скоро стоики, а из стоиков, наряду с каким-нибудь возвышенным Эпиктетом, встал краса и гордость человека Сенека, который писал самые возвышенные книги и нажил ростовщичеством многомиллионное состояние, надо думать, что даже с фонарем поиски эти были нелегки…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































