Текст книги "Софисты"
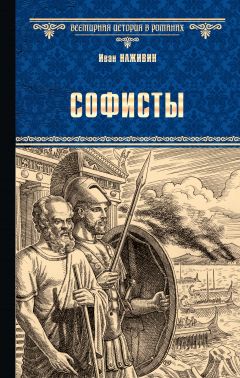
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
XXXIV. На постройке Эрехтейона
Так как беспокойная мысль человеческая продолжала неустанно точить старые «устои», то против нее афиняне ополчались все больше и больше: таково, видимо, свойство иллюминации. Казалось бы, великие боги всемогущи и сами могут защитить себя от дерзких, но лавочники, сапожники и матросы как будто опасались, что боги одни с делом не справятся, и выступали на их защиту с большой отвагой: они казались себе могущественнее олимпийцев. Это, по-видимому, так и было: громы и молнии богов молчали, а на дерзкие головы обрушивались кулаки агоры. Обвинения в богохульстве так и сыпались. Опять взялись за старого Протагора. Немало доставалось и Сократу, который, старея, не унимался и все продолжал сеять разумное, доброе, вечное. Собирая тихонько силы для удара, охранители устоев – которые они втихомолку любили подрывать и сами – пуркали о нем всякие слухи.
– Ему хорошо языком-то болтать!.. – злобно говорила агора, все закоулки и кабачки. – Ему отец дом оставил да денег сколько…
– Целых сорок мин…3838
Мина – около 40 рублей золотом.
[Закрыть] – подсказывал кто-то.
– Ан восемьдесят – я сосед, знаю!..
– Восемьдесят, – наддавал третий. – Не восемьдесят, а четыреста. От восьмидесяти так жить без работы не будешь. Он отдает деньги в рост, сдирает с людей шкуру, а сам шатается везде и мелет неподобное. Видеть не могу эту курносую рожу, так бы и надавал по ней…
– Дай срок: и надаем…
– Его Ксантиппа как-то тут плакалась моей жене: силушки, говорит, нет: вся работа на мне, а он только слонов все продает, старый хрыч.
– А что он босиком-то все ходит да в старом плаще, так это для отвода глаз. И чтобы взаймы не просили…
– А с богатеньких-то дурачков, что за ним все ходят, сколько, поди, гребет. То-то дураки – люди!.. И чего отцы смотрят?
– Доходятся. И не таким рога обламывали…
До Сократа эта болтовня доходила, но он с усмешкой качал только своей лысой головой, но продолжал свое и, подойдя к какому-нибудь гражданину свободнейшей из республик, спрашивал:
– А где продают тут, друг, оливки? А сушеную рыбу с Понта? Ага, так. А хитоны?.. Так… Ну, а истину где?
Свободнейший гражданин, понятно, выпучивал глаза.
– Не знаешь? Ну, пойдем, я покажу тебе, где продают истину…
И, усевшись где-нибудь в тени старого платана, он начинал не продавать, а давать даром гражданину истину. Мысль, что вот он уже долгие года сеет так истину, а агора умнее не становится и на йоту, иногда туманила его плешивую голову, но он гнал такие мысли прочь: его демонион не останавливал его в его деятельности, как он останавливал его, например, от всякого участия в делах государственных…
А агора следила за ним подозрительно злыми глазами и выжидала: накрыть или подождать? Ее поджигали: накрыть. И особенно старался дружок Феника, жрец с Акрополя, Калликсен, о котором говорили, что змея, укусив его, немедленно издохла, и Феник сам, который все больше и больше входил во вкус высокой политики. Фарсагору же в конце концов эта компания надоела и он, брезгливо морщась, все больше отдалялся от нее. Поэтому и его стали подозревать в неуважении к устоям. Взяли под подозрение даже Геродота, которого с таким восторгом венчали и в Олимпии, и в Афинах так, казалось, недавно.
– Да от того и венчали, что невнимательно читали его… – говорил злобно Калликсен. – Он лукав. Когда он приводит рассказ жриц Додоны о происхождении оракула, о том, как к Додоне прилетела из Египта черная голубка и стала с вершины дерева приказывать ей человечьим голосом учредить оракул, этот хитроумец с неудовольствием замечает: но как же это возможно, чтобы голубка говорила человечьим голосом?
– Что делает, старый дурак!.. – поддерживал с негодованием Феник. – А еще историк называется!.. А в другом месте, говорили мне, пишет, что персидские маги своими заклинаниями успокоили бурю, и тут же прибавляет, что, может быть, буря кончилась сама собой. А?!
– А ты зачем это читаешь?! – злобно обрушился на него друг.
– Да я что же?.. – испугался Феник. – И не читал совсем, а слушал, другие рассказывали…
– И слушать глупости нечего!..
И все они думали, что они очень умные, благородные люди, защитники бессмертных богов, и гордились собой чрезвычайно…
Сократ не признавался в этом и себе, но и он начинал иногда уставать от разговоров с людьми и, если бы не привычка сидеть в холодке и ткать так паутину хороших слов, он, может быть, и совсем бросил бы иллюминацию своего века… В это время он полюбил ходить на Акрополь, где шла перестройка всего Эрехтейона: надо было дать рабочему народу заработок, так как жизнь очень оскудела, подорожала, и в народе замечалось нарастание опасных настроений: «люди в перьях», как звал их, бывало, Клеон, теперь, в трудные годы, стали внимательнее прислушиваться к голосу предместий.
Было лето. Стояла жара. Дальние рабочие не уходили ночевать домой, а устраивались тут же, под звездами, среди каменных глыб, чтобы скоротать тут без хлопот короткую душистую ночь, полную стрекота цикад. И часто, когда рабочие с закатом солнца бросали работу, Сократ поднимался к ним и, усевшись где-нибудь поуютнее, добродушно вступал с ними в беседу, не столько уже уча, сколько учась. В особенности интересовал его старый каменотес, Андрагор, весь израненный на войне и избитый на тяжелой работе, но всегда сияющий такой лучезарной улыбкой, как будто он только что спустился с высот Олимпа, где он пировал за золотой чашей амврозии с великими богами. Среди рабочих было много людей озлобленных, грубых, мечтавших сожрать богатеев и жрецов с косточками, но были и немногие Андрагоры, которые принимали свой тяжелый жребий без всяких разговоров. И, глядя на них, кротких и неслышных, Сократ умилялся иногда настолько, что на его выпученных глазах выступали слезы, а на губах дрожала улыбка.
На каждом шагу они клялись великими богами, но их представления о великих богах были темны, сбивчивы, бестолковы. Под Акрополем, внизу, стоял огромный театр Диониса, вмещавший до тридцати тысяч зрителей, – рабы не допускались – и в который иногда без большой охоты, на казенный счет, бесплатно, ходили и они, и все там им казалось очень значительным: и тимеле, жертвенник Дионису, находившийся посреди театра, и крытые портики над амфитеатром, и узкий логион, сцена, и то, что иногда герольд возглашал там имена отличившихся перед страной граждан, и те награды, которых они удостоились, и они, подчиняясь без рассуждений общим понятиям, думали искренно, что вот это и есть слава и что слава – это очень хорошо. То, что они видели на сцене, было им не очень понятно и они часто смеялись там, где другие, более пострадавшие от иллюминации, плакали, и плакали там, где другие смеялись. Содержание пьес они перепутывали настолько, что потом не могли передать его даже приблизительно. Общественные дела на агоре или Пниксе интересовали их очень мало – и вполне понятно: они не знали работы закулисных сил, – но колебания цен на соленую рыбу с Понта волновали: проклятые спартанцы опять безобразили – им это так и представлялось, что только афиняне воюют по чести, а спартанцы только безобразят – в Проливах. Но все же там, в собрании, они иногда орали и махали руками, когда кто-нибудь из ораторов едко высмеивал другого, что, впрочем, нисколько не мешало им рукоплескать и другому, когда очередь поддеть выпадала на долю только что ими же осмеянного: ораторы для них были те же бойцовые петухи или перепела, которые щипались вокруг агоры. Они с гордостью голосовали и гордились тем, что вот они какими делами ворочают, но потом, утомившись, на все махали рукой, зевали, шли в кабачок или с какой-нибудь красоткой в заросли олеандров. Вся жизнь большого города, которой этот город почему-то гордился, – как потом, века и века спустя гордились своим гвалтом другие города-люмьеры – отражалась в их мозгу уродливо, пестро, ни на что не похоже, и если потом историки, взяв в соображение несколько Периклесов, Алкивиадов, драматургов, Фидиасов, изображали их век как всеобщую иллюминацию, то это только потому, что они произвольно говорили о тех людях, которые им, историкам, были по своему положению близки, которые им или очень нравились или очень не нравились. Но эта серенькая жизнь строителей Эрехтейона и была, может быть, единственно подлинной, крепкой, настоящей жизнью, которую Периклесы и Алкивиады с большой развязностью, но решительно без всяких оснований тушили на полях битв, в пучинах морей, в осажденных, томимых голодом городах, а то так и в гражданских смутах, поднятых этими честолюбцами в борьбе за власть и те радости, которые она им – им одним – дает. Они жили минутой, обманутые, и искренно верили тем обманам, которые им перед глазами ставили, а потом скребли у себя в затылке и ругали от души и себя, и тех героев «истории», которые создавали для них разные великие события.
– Ну, как у вас там, внизу? – лучезарно улыбаясь, спросил Сократа Андрогин, садясь на каменный завиток капители, на который он подложил для мягкости свой дырявый плащ. – Все шумите?
– Шумим потихоньку… – тоже улыбаясь, отвечал Сократ. – А у вас работа заметно подвигается…
– Стараемся. Нельзя же! Только жара замаяла… Болеть животом люди стали… Известно, надуется холодной воды от жары, ну и пошла писать. Жрецы и то ругаются: вонь, говорят. Так что же нам тут делать?.. Не заткнешь… Ну-ка, попробуй моих маслинок, хороши попались. Я их уважаю больше, чем сухую рыбу…
– Спасибо… – проговорил Сократ, вынимая из деревянной чашки несколько маслин. – В самом деле, сочны… А я тебе винца по-приятельски принес – на-ка вот, отведай… Ничего винцо…
Андрогин сплеснул на теплую, сухую землю несколько капель в честь Афины, пошептал какие-то и ему темные слова и выпил.
– Мда, винцо первый сорт!.. – сказал он. – Да ты кушай маслины-то: мне старуха много принесла. Она засол сама делала.
Сократ налил ему еще черепок. На этот раз Андрагор богине ничего не отделил: хватит – ей, матушке, люди каждый день, чай, целое море так сплескивают.
– Ну а на войне как? – спросил он.
– Говорят, будто Алкивиад вырвался от персов и будто бы бросился сейчас же к Геллеспонту…
– О-о? – весело заблестел добрыми глазками Андрогин. – Ребята, слышь: Алкивиад от персюков убежал! Ну, этот задаст теперь спартанцам, этот всыплет. Я как-то раз его в Колоне встретил, где у него именье хорошее есть; у-у, какой пышный!.. А бабы, бабы на него только и глядят. Я своей старшей, Хлое, даже по загривку дал: что ты, дурища, рот-то на него разинула? Что он, ровня тебе, что ли?.. И помню, все ему под ноги цветы бросали, а он все смеялся да денег нам на дорогу бросил. Этот кому хошь место укажет – орел!..
Но оживление, вызванное этой вестью среди рабочих, скоро улеглось: одному спать до смерти хотелось, другой животом маялся, а к кому – какая-нибудь голубоглазая Хлоя пришла. Звезды вверху играли, теплились, точно сказки какие темной земле рассказывали. По карнизам Парфенона перекликались совы, и иногда над головами слышался их мягкий полет. И Андрогин вдруг впал – вино действовало – в рассудительный тон.
– Ну только я все же со спартанцами замирился бы… – солидно проговорил он. – Пора, пора!.. Такие же эллины, как и мы, а гляди, сколько лет щиплемся. А польза какая? Никакой. Погляди теперь, в Афинах, внизу, сколько там этих изувеченных на войне-то таскается, и всех их корми. А где же на всех наберешься?.. Да опять и триер сколько перепортили да утопили, не есть числа! Тут как-то я в Пирее был, так привели которые в починку: смотреть нехорошо. У которых носы разбиты, а у которых и палуба, и бока все кровью залиты. Нет, я велел бы замириться. Повоевали, показали себя – и ладно. Разве места всем на земле не хватит?
– Да ведь ты сам первый жаловаться будешь, если хлеб или рыба подорожают, а спартанцы и хотят нам подвоз всего этого с Понта отрезать, – сказал Сократ, пытая.
– Известно, буду… – сказал Андрогин добродушно. – На их оболы-то не распрыгаешься! Жизнь с войны подорожала, и цены все наверх лезут. И ты гляди, любезный Сократ, – тронул он гостя за руку, – как чудно устроено: бедные от войны стали еще беднее, а богатеи – богаче. Потому ловкие, пользуются. Ничего не разберешь, как это у них там устроено. А у меня Андрокла, сына, угнали невесть куда, так вот одному старику и приходится изворачиваться. Одно только скажу: раньше, до войны, жилось куда легче. Или, может, что мы молоды были, а? Море по колено тогда было.
Сократ с улыбкой смотрел на сморщенное, загорелое лицо софиста. Он слушал не его мысли – он слушал его душу. И ему казалось, что Андрогин знает что-то такое, чего он, прославляемый Сократ, не знает. И опять на его выпученных глазах навертывались слезы умиления. Он не раз подходил к этому их тайному знанию, но все эти Андрогины никак высказать его не могли и даже не понимали, чего именно от них этот добряк добивается. Знание же их состояло в том, что открыл и тихий Дорион на Самосе: не мысль в жизни главное. Но если бы Дорион им это сказал, они, вероятно, вытаращили бы на него глаза и вежливо, чтобы не обидеть доброго человека, сказали бы: все может быть…
– А вот придет Андрокл с войны, тогда повеселее будет… – продолжал Андрогин, позевывая. – Он и работник у меня – золото, и охотник каких мало. На Парнасе, сказывают, кабана за войну расплодилось видимо-невидимо. Тогда и тебя кабанятинкой попотчуем: я ведь знаю, что ты, старый хрен, пожевать чего получше тоже любишь!.. И на охоту тебя с собой возьмем. Ты, сказывают, родом-то от богов каких-то идешь, – может, слово какое на зверя знаешь… А? – подмигнул он добродушно.
Сократ встал: Андрогину была пора спать, завтра опять с рассвета камни для богов тесать надо. Никакого нового слова от него Сократ опять не слыхал, но он почувствовал то же, что и всегда, что все это хорошо, прочно и успокоительно…
– А это вон племянник мой, Эвном, забавляется… – кивнул старик на стройного парня, который, обняв высокую, ладную девушку за плечи, тихонько спускался с ней к Пропилеям, освещенным дымным светом огромной луны, встающей из-за моря. – Этим все нипочем! И мы тоже когда-то такими же были…
Сократ простился со старым каменотесом и тоже пошел к Пропилеям. Над ним в свете луны с писком носились летучие мыши и совы. Афина Промахос, опираясь на копье, зорко смотрела в темные дали…
XXXV. Апельсинная корка
В то время как на благословенном Милосе Дорион, много думая, пришел к заключению, что лучше всего в мире молчать, маленькие софистики на бесчисленных, очень заплеванных, очень вонючих агорах, наоборот, нисколько не умея и не желая думать, продолжали очень много говорить, кричать и размахивать руками: то, в свете иллюминации, они делали всемирную историю – сказку, рассказанную дураком, которая все никак не кончается…
В это время дела свои они устраивали так:
Алкивиад – в нем, как в фокусе, видимо, сосредоточивался весь путаный ход великих событий – прилетел на Геллеспонт. У афинских моряков сразу выросли крылья: как и каменотес Андрогин, они были уверены, что этот уж непременно разделает дела под орех. Спартанцы заперлись в какой-то бухте, но Алкивиад притворным бегством выманил их в открытое море. Антикл – афиняне по приказу Алкивиада делали очень похоже вид, что они своего «Паралоса» не узнают – первым ударил по врагу и привел его своей дерзостью в замешательство. Алкивиад бросил в бой сразу весь свой флот и разбил спартанцев так, что они опять не нашли ничего лучшего, как выброситься на берег. Сиракузяне, бившиеся на их стороне, сожгли свои триеры, а все остальные союзники бежали и весь свой флот оставили Алкивиаду. Окрыленный, он полетел по отпавшим от Афин городам и принудил своими успехами Фарнабаза к выгодному для Афин миру.
– Ну, – обратился он, торжествующий, к своему союзнику и другу, Антиклу, – скоро осень: надо побывать в Афинах. Что ты на это скажешь, отважнейший из отважных?
– Да, пожалуй, и я побывал бы дома с удовольствием… – отвечал тот, зевая. – Кто знает, долго ли еще в этой свалке поживется…
Ему очень хотелось повидать Гиппарету. Он знал, что она очень постарела, но в его душе она солнечно жила такою, какою он видел ее года назад, в полном расцвете ее красоты.
– Но разве афиняне не будут, по-твоему, очень возражать против моего приезда?
– Возражать против приезда славного героя никто не будет, а менее всего афиняне… – усмехнулся Алкивиад. – Смотри…
Вокруг в тихой гавани стоял его огромный флот, к которому уже были присоединены взятые у противника триеры.
– Тут и твоя доля не мала, друг мой. Нет, нет, можешь ехать смело… А что до твоего смертного часа, – захохотал он своим заразительным хохотом, – то я так скоро не отпущу тебя: это не конец. За Спартой стоят персы с их золотом – опять нужно будет бить их. Как же мы обойдемся без тебя? Когда ты первый ударил теперь по врагу, я своих едва мог удержать: так рвались они за тобой. Итак, плывем…
Он махнул рукой. Трубы пропели поход. Тихая бухта закипела волной от задвигавшихся триер. Корабль Алкивиада стал в голове колонны, сейчас же за ним шел «Паралос», а за ним вытянулись, точно стая птиц перелетных, остальные триеры. И вдруг на мачте головного судна, точно язык пламени, вспыхнул флаг Алкивиада. По судам загремели клики моряков, влюбленных в своего орла-главнокомандующего. И закипело море под ударами бесчисленных весел, под носами острогрудых кораблей. Поход был не поход, а праздник. Осенние непогоды были еще далеко, море сияло, как небо, и небо раскинулось, как океан, и расцветились берега осенними драгоценно-пестрыми коврами, точно на великий праздник.
Молва каким-то чудом опережала победоносный флот, и, когда суда Алкивиада под пурпурными парусами, во флагах, с музыкой и песнями появились ввиду Пирея, весь берег уже был усеян густыми толпами ревевшего от восторга народа. Забыты были все лишения, тягота жизни, забыты убитые и раненые в боях, и души народа летали, как на крыльях, пьяные. Многие плакали, обнимались и снова исступленно кричали хвалу победителю. Весь смысл жизни Алкивиада был в таких вот ярко сияющих минутах опьянения и это было не удивительно – удивительнее было то, что эти острые минуты были большой, всеискупающей наградой и истомленному бесконечной бойней народу.
– Нет, вы глядите, сколько чужих триер он ведет!.. – с восторгом кричали граждане одни другим. – За горизонт хвост-то уходит. А наши дураки к смерти такого орла приговорили – то-то тупорылые!.. Хвала Алкивиаду!.. – с вылезшими на лоб глазами орал гражданин. – Хвала!..
Вокруг все ревело. Пестрым дождем к ногам победителя летели цветы. Сияли сумасшедшим блеском глаза. Алкивиад, таща по пыли, по старой привычке, свой роскошный плащ, улыбкой и движением руки благодарил толпы и поднялся в колесницу.
– А другую-то это кому подают?.. Батюшки, да ведь это Бикт!.. С места не сойти… Хвала Бикту!.. Хвала неустрашимому!..
И торжественное шествие в сопровождении радостных, гордых моряков, окруженное густой и не очень благоуханной толпой, направилось между высоких стен к Афинам. Все глаза были прикованы к венчанному лавровым венком Алкивиаду. Черный народ не мог достаточно насмотреться и на Бикта, который не привык к таким овациям и чувствовал себя действительно смущенным и неловко отдавал приветствия ревущей за его колесницей толпе. Это не то что заарканить среди моря богатого купчину!
И когда на агоре – на ней яблоку упасть было негде – Алкивиад поднялся на древний камень, с которого обыкновенно говорили к народу, чтобы сказать свою оправдательную – в прошлых грехах – речь, его то и дело прерывал восторженный вопль толпы: какое там «оправдание» – он сам был оправдание! Он был так прекрасен в сиянии славы, что все склонялось перед ним. И когда, кончив речь, он протянул руку смущенному Антиклу-Бикту, опять восторженный рев покрыл все: это была не амнистия, а триумф победителя.
Феник, задыхаясь от жира и смиренно округляя спину, почтительно приветствовал своего племянника и с горечью думал, что этот подлец обскакал-таки его: среди этого восторженного поклонения народа, который уже года творил о нем прекрасные легенды, дядюшка, несмотря на все свои богатства, исчезал.
– Мой дом весь к твоим услугам… – задыхаясь, сказал он. – Располагай мною как только тебе угодно…
В глазах страшного разбойника заиграли веселые огоньки.
– Спасибо, дорогой дядюшка… – сказал он. – Да, да: и кто бы мог подумать, что ты некогда так порол меня. Но, разумеется, все это я давным-давно забыл…
Феник побагровел: этот мерзавец издевается над ним! А линьки в Пирее?..
– Для тебя все приготовлено – милости прошу… – проговорил он.
– От всего сердца благодарю, но сейчас я иду на пир к Алкивиаду, – отвечал тот. – А ночевать я буду у себя на судне: я на суше и спать разучился…
– А вот чесночок хорош!.. – кричал во всю головушку козлиным голосом какой-то старик. – Так в нос и шибает… Кому чесночку?..
И когда некоторое время спустя Алкивиад явился с Антиклом в свой, как в сказке оживший, дворец, навстречу мужу и дорогому гостю вышла маленькая, сухенькая женщина с печальными глазами, в которой не было и тени даже прежней обаятельной Психеи. Она справилась с собой и, приветствуя гостя, опять невольно зарумянилась, и глаза ее просияли: он ведь любил ее, ничего ей о своей любви сказать не посмел, и вот они стоят оба среди колонн перистиля, среди цветов, а между ними пропасть – невозвратного: улетевшая жизнь. И шевельнулось в тихой душе Психеи маленькое, робкое сомнение: да уж не ошиблась ли она, глупенькая, отказавшись от радостей жизни, которые предлагала ей тогда судьба и которые она оттолкнула, чтобы плакать в тишине гинекея? И Антикл молча, с печалью смотрел на нее.
И скоро среди цветов, в ослепительном сиянии светильников – Алкивиад любил огни – закипел горячий пир. Бикт единогласно был избран по предложению торжествующего Алкивиада симпозиархом3939
Начальником пиршества.
[Закрыть]. Сократ – он был в ударе – произнес прекрасную речь. Хорошенькие флейтистки, гордые тем, что они пляшут в доме самого Алкивиада, все влюбленные в него по уши, превзошли самих себя и, когда яства были убраны и воспет пэан, и совершено возлияние Дионису, и рабы понесли среди пирующих вина, Алкивиад посмотрел смеющимися глазами на своего соратника Антикла – он был туманен – и со смехом проговорил:
– Ну, что-то свидание с дорогой родиной не очень-то тебя развеселило, Антикл!.. Ничего, утешься: скоро опять поход. Идем на Самос во главе целой сотни триер: там собираются спартанцы со своими девяноста триерами. Вот будет потеха, а? Надо торопиться, пока стоит погода…
– И дело… – сказал Антикл. – Но я должен покаяться тебе в одной грешной мысли, которая не дает мне тут покоя. Когда я увидал впервые, как спартанцы бьют афинян, во мне загорелся такой огонь, что хоть сейчас же на смерть, а как тут я посмотрел на агору да на пузо моего дядюшки…
Алкивиад расхохотался: он уже угадывал конец.
– Да нет, постой!.. Что ты все ржешь?.. – тряхнул Бикт головой. – Ведь эти вот налитые салом животы и думают, что они-то и есть Афины, а я… я думаю, что, если они Афины, то… клянусь Посейдоном, пусть лучше эти самые Афины провалятся в тартар!.. По-моему, лучше уехать отсюда… Чтобы не думать… А то там, в бою, и рука не поднимется…
Алкивиад хохотал. Все с интересом требовали узнать, в чем причина такого веселья славнейшего из героев, но он только рукой махал и хохотал:
– Ай да Бикт!.. Твои удары за столом не хуже ударов носа твоей триеры на море…
– Да, да… – опустив чашу, говорил Антикл, глядя задумчиво на мозаичный, засыпанный цветами пол. – Прощение… Но, по совести, если я о чем теперь и жалею, то только о том, что я еще мало потрошил их…
– Ха-ха-ха… За здоровье нашего славного героя Бикта, друзья!..
И высоко поднялись в сиянии огней заздравные чаши, и светились лица улыбками, и никто во всем городе не смел теперь пикнуть и слова ни против распутного, приговоренного к смерти этим же городом Алкивиада, ни против его наставника Сократа, ни даже против этого отъявленного разбойника Бикта, который, не угодно ли, пирует теперь, как равный, среди афинян!..
И скоро афинские триеры под пэаны и клики афинян вспенили еще раз лазурное море золотой осени, направляясь к Самосу: может быть, еще один хороший удар – и гегемония Афин восстановится полностью и над морями, и даже над всей Элладой, еще одно усилие, и установится что-то прочное, легкое, и всем будет отлично…
Чтобы было, однако, ждать веселее, Клеофон – он заправлял теперь в Афинах всем – восстановил афинских бедняков в гражданских правах, а так как казна опять стала пополняться, провел закон о диобелии, то есть об уплате беднейшим гражданам по два обола в сутки. Работы по Эрехтейону развернулись шире. Перехваченное донесение спартанского флота о своем отчаянном положении домой – «люди умирают с голоду, не знаем, что делать…» – еще более окрылило добрых демократов… И вот Спарта шлет мирное посольство: статус-кво, Декелея будет очищена, но Афины должны очистить Пилос. Это значило для Афин потерю Евбеи, Андроса, Родоса, Хиоса, Таоса, Абдеры, Византии и всего азиатского побережья, за исключением двух-трех городов. Устав, многие граждане были готовы согласиться, но победили воители.
Алкивиад носился по морям, покоряя под ноги демократии всякого врага и супостата. Агий, сидя в Декелее, видел, как подходят к Пирею суда с зерном с Понта – надо скорее, скорее запереть Проливы! Эскадра туда, эскадра сюда, стычки, пожары – то сей, то оный на бок гнется, но решительных результатов нет. В Персии на место Тиссаферна и его гарема Великий Царь посадил своего младшего сына Кира и его гарем. Во главе спартанцев и их союзников стоял теперь даровитый и смелый Лизандр. На пиру, когда Кир пил за здоровье своего доблестного союзника – и тогда тоже все союзники были доблестны выше всякой меры, – он сказал:
– Говори, чего ты хочешь – все дам тебе!..
– По оболу прибавки на каждого воина… – отвечал спартанец.
Кир расчувствовался перед таким благородством и вознаградил его не только просимым оболом, но и своим полным доверием к вождю, ami et allie. Пусть слова дым, но удачно сказанное словечко может иногда сыграть в жизни большую роль4040
Так, века спустя, два словечка «грабь награбленное» счастливо повернули гигантскую страну вверх ногами.
[Закрыть]. Но неменьшую роль в жизни играют и апельсинные корки. У Алкивиада было мало денег. Поручив флот своему помощнику Антиоху и строжайше запретив ему ввязываться в битву, он поехал на берег повидаться с Тразибулом и поскользнулся на апельсинной корке. Роль ее сыграли прекрасные ионянки: Алкивиад был слишком чувствителен к женской красоте, чтобы не попировать с прекрасными денек-другой, а тщеславный Антиох, которому не давали спать лавры Алкивиада, дал спартанцам бой и был разбит наголову. Поэтому Кир немедленно возобновил свою субсидию спартанцам, но Афины закипели негодованием, сместили Алкивиада, взяли в храмах все серебро и золото, и все, свободные, метеки и рабы бросились на весла и к Самосу снова подошло сто пятьдесят афинских триер. Алкивиад – персы не доверяли ему теперь так же, как и афиняне, – бросил все и уехал в свое имение под фракийским Херсонесом, куда, чтобы он не очень огорчался, к нему вскоре прибыла одна из самых очаровательных ионянок, Тимандра, та самая, золото которой открыло ему двери персидской темницы. Бикт куда-то молча исчез: тошно что-то ему стало. Нет, грабить в одиночку куда приятнее и легче!.. И шептала демократия из государственно мыслящей: «Если бы Афины могли доверять Алкивиаду, он, конечно, спас бы “империю”, но, конечно, уничтожил бы свободу Афин».
Дело, однако, продолжалось и без Алкивиада: спартанцы разбили афинян и загнали их в гавань Лесбоса, а сами понеслись навстречу афинской эскадре, которая успела своим на помощь в числе целых 150 вымпелов. И вспыхнула величайшая морская битва, которая когда-либо была между греками при Аргенусских островах, разбросанных между Лесбосом и материком. Спартанцы были разбиты наголову, но победоносные навархи были тотчас же отданы демократией под суд: так как погода в день битвы была бурная, они посмели не подобрать тела убитых в море и не предали их погребению. Это было величайшее преступление: тени этих мертвецов будут теперь блуждать целый век по берегам Стикса, не зная покоя.
Сейчас же был назначен над преступными навархами суд. Двое из них бежали, а остальные предстали пред судом. Те, которые целились на их место, подняли в народе невероятную бучу, которую из всех сил поддерживали родственники погибших и непогребенных воинов. В самый трагический момент суда эпистатом, то есть председателем притании, был Сократ. Он находил суд совершенно бессмысленным и, несмотря на злые крики толпы, делал все, чтобы не допустить осуждения победителей, а когда ему это не удалось, он сложил с себя звание председателя и при другом эпистате, его преемнике, все подсудимые были присуждены к смертной казни! Английский историк, рассказывая об этом злодеянии демократии, говорит, что главная вина навархов была в том, что их было восемь там, где нужно было одного. Это очень справедливо, но, если бы дело повернулось иначе, то столь же справедливо историки стали бы искать вину в том, что навархов было всего восемь, а не восемнадцать, а о главном виновнике – толпе, глупости – они замолчали бы все же, ибо это – Демократия, то есть очень хорошая вещь, как они уже решили раньше.
Глаза старой Аспазии широко раскрылись. Она задыхалась.
– Как? Моего Периклеса приговорили к смертной казни?! За такую победу?! Но… но…
И она повалилась без чувств. Это было последнее, что ей еще оставалось в жизни. Теперь все, что у нее было, это собачка, которая ее очень любила и с которой она, сидя у жаровни с тихо тлеющими углями – она все зябла, – тихонько разговаривала о чем-то целыми часами и нежно гладила ее шелковистую шерсть. И собачка смотрела ей в лицо ласковыми, грустными глазами.
Впрочем, демократия скоро раскаялась в своем поспешном жесте с навархами и казнила тех, которые ее на эту казнь подбили, так что справедливость была восстановлена и бессмертные боги были, вероятно, удовлетворены.
Тяжело ударили Аргенузы и по семье каменотеса Андрогина, друга Сократа: его сын, Андроклес, был привезен домой без ног, которые он потерял в битве, попав в горячей схватке между двух столкнувшихся триер…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































