Текст книги "Пушкин на юге"
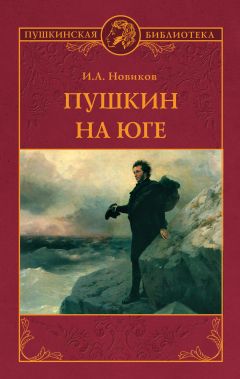
Автор книги: Иван Новиков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Так эти два главных вопроса: о чем же писать, а ежели не писать, так что, собственно, делать? – не покидали его и на Кавказе, здесь они даже, можно сказать, обострились. Кавказ его покорял своею дикою прелестью, но… так он сам написал:
Питаюсь чувствами немыми…
Генерала Раевского ждал в Горячеводске старший сын его, Александр, полковник в отставке. Николай был чуть помоложе Пушкина, Александр – постарше.
Но не одна только разница в возрасте разнила их. С виду они были похожи – оба высоки и статны. Пушкин меж них казался мальчиком-подростком. Оба хранили черты одной и той же породы; оба носили очки; оба были умны и образованны, и, наконец, оба – военные люди. Но столь были разны они, что между собою почти что им не о чем было и разговаривать, и надо было быть Пушкиным, чтобы в качестве третьего собеседника хватало его на них на обоих…
Странно, девочки на Горячих водах как-то от Пушкина, да и от Николая, отдалились заметно, точно присутствие старшего брата откинуло их снова в детскую. Мария, должно быть, про себя ощущала это не без некоторой горечи, вспоминая милые дни путешествия по южным степям. Но она была очень горда и ни единым движением обиды своей не обнаруживала.
Мисс Мяттен скова вошла в полную силу, хотя и дивилась про себя дикости русских, живших здесь, на водах, с той простотой, которая недоступна была ее пониманию. Что же касается до Анны Ивановны, которую Пушкин предпочитал называть родным ее именем – Зара, то она держала себя немного загадочно, и он не раз ловил на себе пристальный взгляд ее темно-зеленых выразительных глаз. Но этому он не придавал никакого особого значения.
Весь его ум, когда он не бродил в одиночестве по диким кустарникам, был целиком прикован к Раевскому Александру. И тот, в свою очередь, уделял ему много внимания. Это внимание не было бескорыстным. Александр Николаевич, томившийся собою, любил ощущать и проверять свою силу влияния на других; он и был ею действительно одарен. Молодого поэта сразу он оценил, как оценил бы опытный дрессировщик живого и своенравного, попавшего в его руки зверька. Подобное сравнение могло бы прийти в голову и самому Александру Раевскому – таков был характер и таковы были взгляды на вещи у этого жестокого человека.
Он импонировал Пушкину и завоевывал его очень простыми поначалу приемами. Суховатый, надменный и резкий, скупой на слова, между знакомыми и незнакомыми ходивший как человек особой породы, который лишь изредка позволяет себе снизойти к другим, – с Пушкиным он стал сразу на короткую ногу. И он вел с ним беседы – серьезные, почти доверительные, одновременно желчно и колко подсмеиваясь над всеми другими.
Пушкин никак не подозревал здесь игры. Он и сам был не прочь посмеяться над тем, что действительно было смешно (а такового было немало среди разношерстной и пестрой толпы, съехавшейся на воды), и не мог не ценить тонкого и умного разговора своего собеседника. Но когда, почуяв свою зарождавшуюся и все укреплявшуюся власть, Раевский пробовал анатомировать чувства и мысли своего младшего друга, все разлагая и все отрицая, Пушкин настораживался и частенько убегал от него к Николаю.
У Александра Раевского было изжелта-темное, в ранних морщинах лицо и широко разрезанный рот, губы часто слагались в привычную язвительную усмешку, казавшуюся столь же неотступной, как и пристальный гипнотизирующий взгляд его ореховых, широко расставленных глаз, по-кошачьи ласково-хищных; и у него был огромный выпуклый лоб, над которым торчали коротко остриженные волосы. Все это производило столь сильное впечатление на собеседника, что у того даже стеснялось порою дыхание, и оттого с таким почти физическим наслаждением Пушкин после глядел на ровный здоровый загар на щеках Николая, на его полные, как бы несколько припухлые губы, хранившие в своих очертаниях, вопреки его огромному росту и силе, что-то еще совершенно ребяческое; и так милы были ему эти глаза, где непрестанно светилась задумчивость, отражение ищущей мысли.
Вот с кем он мог и болтать обо всем, что приходило на ум, и делиться мечтами и мыслями! Да, и мечтами… Эта открытость и это доверие – обоюдные – были такими же ясными, как самое небо над головою, и такими же свежими, как ветер в долине. Никогда не случалось, чтобы разговор с Николаем его утомлял. Бывало, конечно, что и они вступали в горячий спор между собою, но никакого насилия, давления, порабощения.
Пушкин особенно любил, уединившись куда-нибудь под вечер, а то и ночью, лежа с Николаем бок о бок, слушать, как он простодушно рассказывал про семью, про сестер.
– Я написал нынче маме. Очень боюсь я за Катеньку. У нас ведь Елена грудью слаба, а тут и Катерину врачи направляли в Италию. Но отец – патриот и говорит, что и Крым не хуже Италии. Вообще он у нас великий медик и всех любит лечить сам.
– Да он и за мною приглядывает. Рудыковского не раз поправлял.
– А ты знаешь, как он лечил своего двоюродного брата Григория Самойлова? Это было во время турецкой кампании, так в перерывах между сражениями он заставлял его пить стаканами ослиное молоко; это будто бы очень грудь укрепляет!
– И что же, тот выздоровел?
– Да нет, он довольно скоро после того скончался… правда, от ран. Но отец очень сердится и говорит: «А не убили б, так был бы здоров!»
Пушкин, шутя, размышлял:
– Может быть, это и от лихорадки поможет? Не начать ли мне пить?
– А что же, попробуй! Он и Катеньку, кажется, собирается этой прелестью пользовать. Но только она ведь упрямая: офицеру еще, говорит, может быть, можно, да и то удивительно, как он согласился, а фрейлине при дворе государыни это совсем неприлично!
Так они часто смеялись и балагурили; и Пушкин так отдыхал от Александра.
Но тот каждый раз замечал это бегство к младшему брату, хотя никогда и не показывал виду, как это его раздражает. Он становился лишь несколько сдержанней с тем и с другим, думая, что довольно и этого. Но, когда это не помогало, он прибегал к своему испытанному приему. Как бы ничего вовсе и не было, он брал Пушкина под руку и куда-нибудь уводил, чаще всего на берег Подкумка, и как он умел говорить в эти часы, обычно передвечерние, и позже, под звездами!
Каждый раз неизменно он начинал с какого-либо интимного признания, – которое, конечно, можно сделать только самому близкому другу, – как если бы ходил с этими мыслями уже несколько дней… Доверить их некому, кроме как только и единственно Пушкину: кто еще может это понять и оценить самую откровенность!
Они быстро сошлись на «ты».
– Ты знаешь Орлова?
Пушкин знал его еще по Петербургу.
– А знаешь ли, что он собирался организовать тайный союз – общество Русских рыцарей? Это должны были быть самые честные люди, которые искоренили бы лихоимство и незаконные притеснения.
– Я знаю, что в «Арзамасе» он предлагал с теми же целями завести журнал свободных идей.
Раевский подозревал много больше, но Пушкина он интриговал, делая вид, что доверяет ему последние тайны.
– У Михаила Федоровича, – говорил он, – язык очень острый и точный. Он называет государство наше «устроенным неустройством», а сам был бы рад «жизни бурливой за родную страну». Вот государь его к моему отцу под крылышко в Киев и отослал – начальником штаба.
– И как же они уживаются?
– А преотлично. Отец ведь, в общем, очень уживчив – со всеми, кроме меня. Меня он не любит.
– Но ведь и сам ты держишься от него далеко.
– Так что ж? Он сам по себе, я сам по себе. А впрочем, я про Орлова. Ты знаешь, я с ним в переписке, кое-что помню и наизусть. Да и ты запомнишь: веяние времени! Вот письмецо от прошлого года…
И Раевский тотчас процитировал, несколько приподнято декламируя: «Золотые дни моей молодости уходят, и я с сожалением вижу, как пыл моей души часто истощается в напрасных усилиях. Однако не заключайте отсюда, что мужество покидает меня. Одно событие – и все изменится вокруг меня. Дунет ветер, и ладья вновь поплывет. Кому из нас ведомо, что может случиться. На все готовый, я понесу в уединение или на арену деятельности чистый характер – преимущество, которым немногие могут гордиться в нынешний век».
– А вот и недавно совсем… Письмо это со мною, и кому бы другому я мог о нем сообщить? Он пишет, что в Риме открыт будто бы заговор и тридцать пять тысяч австрийцев идут на усмирение восстания, которое вот-вот может вспыхнуть… «Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю (это он пишет)… я очень думаю, что девятнадцатый век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий…»
Девятнадцатый век! Пушкину живо вспомнилась одна из любимых семейных легенд, как в Новый год – 1801-й – собрались у Сергея Львовича гости и вели оживленные беседы на тему, каков-то будет новый, девятнадцатый век, только что наступивший, и что он с собой принесет – какие изобретения и государственные перемены; вспоминали знаменитых людей века, странно было сказать – века минувшего… И вот будто бы в самый разгар этой беседы маленький Саша, разбуженный доносившимся шумом – звоном бокалов и возгласами, – никем не замеченный, в одной рубашонке, не так давно и ходить-то начавший, переступил через порог и остановился, ослепленный непривычным светом многих свечей. Кто-то увидел его, все обернулись, а Надежда Осиповна, тогда еще молодая красавица, была и сконфужена, и восхищена, и в душе рассердилась на няню, как это та не углядела… Она вскочила с кресла и подбежала к отважному путешественнику, но вместо того, чтобы схватить его на руки, она внезапно присела сама и взяла его за крохотную ручку.
– Вот кто переступил через порог нового столетия! Вот кто в нем будет жить! – воскликнула она со внезапным порывом.
«И как она была хороша в эту минуту!» – каждый раз, вспоминая об этом памятном происшествии, добавлял от себя Сергей Львович, отводя взрослого уже теперь Александра из центра рассказа. Но Пушкин сам так хорошо помнил этот рассказ – о себе. Помнил и часто задумывался…
Так и сейчас он повторил за Раевским или, верней, за Орловым:
– Да, девятнадцатый век не пробежит без происшествий. Сколько осталось до четверти? Всего-то пять лет… – И тут были думы опять о себе…
Но Александр Николаевич, овладев и вниманием, и открытостью Пушкина, тут-то и начинал уже от себя и свое. Он ставил вопросы с такой жестокою ясностью и так беспощадно и горько тут же их разрешал, что возражать ему, спорить было почти невозможно. Однако ему и этого было мало, он вызывал Пушкина на спор, чтобы в самом молчании собеседника не затаилось чего-либо противного и независимого.
И постепенно, под завораживающие звуки мутной воды, бежавшей у их ног, Пушкин опять поддавался этим коварным речам, бледнел, и холодная горечь шевелилась у сердца. Любовь, свободолюбие, народ – все это одно за другим тускнело в душе, подобно тому, как сгущались вокруг дымные сумерки, погашая все краски цветного, яркого дня. Для этого демона в образе человека, казалось, ничего уже не было святого, ничего заветного, и он полностью наслаждался сознанием своей власти, могущества над другою душой, богатой кипучею, буйною молодостью, живою в глубине творческого ее бытия. Здесь надрезать, там хрустнет – и вот разломил, слагая отдельные полумертвые части по собственному образу и подобию.
И нервы у Пушкина, с его обостренной чувствительностью, то напрягались, то спадали, и для него состояние это порой походило на длящийся болезненный полуобморок. Александр Николаевич чувствовал это и почти не скрывал, что кроме сознания власти есть для него и еще одно наслаждение – тою видимой болью, которую он причинял. Это было подлинно мефистофельское отношение… Где-то Пушкина в глубине оно еще и обогащало новым познанием человеческого сердца. Но этот свой жизненный опыт пока он еще не полностью осознавал, и оттого глухое томление рождалось в душе.
Наутро Николай, заметив осунувшееся лицо друга, спрашивал, недоумевая:
– Что это с тобой? За ночь ты похудел.
– Поздно сидел у Подкумка.
– Так что ж?
– Там испарения, знаешь ли, нехороши… С Александром сидели.
Так позволял он себе отвести душу и подерзить по отношению к своему тезке, уж чересчур на него наседавшему.
Александр Николаевич любил поговорить и о поэзии. Он был чужд ее духа, но тонко и едко умел посмеяться над какою-нибудь одною строкой, выхваченной из общего текста. Пушкин это ценил и умел соглашаться, хотя бы то была и его собственная строка. Но Раевский на этом не останавливался. Разрушая, быть может, действительно хрупкую форму, он попутно мельчил и высмеивал и самую мысль, искавшую своего утверждения.
Ломался ли Пушкин под напором Раевского? Подпадал ли под чужую власть? Изменял ли себе? Александр Николаевич был в жизни его едва ль не единственным человеком, из борьбы с которым он выходил порою хромым. Но эта же самая борьба и крепила его. Он, как молодое деревцо под бурею, то пригибался, то выпрямлялся, а каждая рана покрывалась рубцом, оставляя для времени, чтобы оно и этот рубец в конце концов рассосало. И действительно, Пушкин заметно мужал, но не по типу Раевского, а на свой собственный лад. И, как это в жизни постоянно бывает, что-то происходило не только с одним человеком, но и с другим. Порою бывало даже и так, что Раевский готов был вот-вот отдаться всецело обаянию молодого поэта, и в душе его пробуждались живые движения истинной дружбы. Пусть очень редко, но все же случалось, что внезапно он брал своею большой похолодевшей рукой небольшую горячую руку Пушкина и сжимал ее в искреннем минутном порыве. И до Пушкина это немое признание доходило без слов.
Можно даже сказать, что когда по истечении месяца Пушкин перебрался вместе с Раевскими на Железные воды и один только Александр Николаевич задержался на Горячих водах, заканчивая свое лечение, то как раз и тосковал по-настоящему в этой разлуке Раевский, и не хватало ему не только жестокого своего развлечения, но и чего-то другого, гораздо более человеческого. У Пушкина было все – целый мир, в себе и вовне, Александр же Раевский, оставшись один, был предоставлен единственно самому себе, а это, как он с горечью сам про себя сознавал, было очень похоже на пустынную долину, выжженную солнцем.
Такова была эта борьба двух людей: так рождалась и их странная – не на один год – крепкая и сложная дружба.
Пушкин, конечно, не тосковал. Ему недоставало Александра Николаевича, но в то же самое время овладевала им и какая-то легкость, чувство освобождения. С новою силой природа, здесь еще более дикая, опьяняла его в далеких прогулках. Здоровье теперь сильно окрепло, и потребность в движении возросла.
На Железную гору еще вовсе недавно не отправлялись иначе как под охраною казачьего отряда. В густом, непроходимом лесу еще и теперь можно было встретить затаившихся горцев. По крайней мере такие ходили рассказы. Но Пушкина это, пожалуй, только еще больше взманивало.
– Смотрите, вас схватят, перевяжут веревкой и увезут в далекие горы, – говорила Мария, посмеиваясь, а немного и взаправду тревожась; здесь, на Железной горе, они заново стали дружить.
– Ну и что же! Во-первых, без боя я не намерен сдаваться, а ежели и возьмут, я напишу там поэму.
– О чем?
– Как я там по вас тосковал!
Смуглое лицо Марии краснело, но, преодолевая смущение, все ж рисковала она и подразнить:
– Воображаю! Тотчас же, наверное, увлечетесь какой-нибудь хорошенькой черкешенкой!
И она убегала, оставив «насмешника» в минутной задумчивости… О чем?
Лес на Железной горе – дубы и ольха, вязы и клены, конский каштан, каждое дерево красавец по-своему, – полон был птичьими голосами: треньканьем, щелканьем, свистом; друг перед другом старались дрозды и щеглы, розовые скворцы и красногрудые снегири; пестрые дятлы по-хозяйски долбили носами, и в особицу по-разбойничьи каркали красивые галки с красными клювами.
А пониже, в траве-мураве и во мху, скакали, пилили на скрипочках нарядные, блестящие кузнечики, похожие на солистов во фраке.
Пушкину доводилось встречать и лисиц с огненно-рыжим хвостом, мелькавшим, как факел язычника, между деревьев в овраге; белки скакали по веткам, и зайцы шныряли в кустах совсем по-домашнему; удивленный хомяк с белыми лапами и черной полосою на лбу поглядит, остановится и вдруг кинет вбок и как-то назад свое внезапно взъерошившееся тело… Пушкин дивился особенно обилию диких котов с круглою, как бы обритою мордой и огромными мохнатыми лапами: они пригибались к земле, готовые вот-вот скакнуть, и желтые злые глаза их, казалось, рассчитывали математически точный прыжок. Он минуту выдерживал этот их взгляд и вдруг, длинно выбросив руки, хлопал перед собою в ладоши и устремлялся, согнувшись, на хищника, и нельзя было понять, как и куда мгновенно тот исчезал.
Он как-то в лицах показывал это девочкам Раевским – и за дикую кошку, и за себя. Соня чуть не заплакала, но и Мария, отчасти смеясь, все же сильно встревожилась. Только у Зары, стоявшей в сторонке, живым огоньком блеснули глаза, точно в этом почудилось ей что-то родное…
Мария потребовала: диких котов не дразнить!
– Я уважаю отвагу, – сказала она, – но только тогда, когда это серьезно.
Ночи здесь, на высоте, часто бывали холодные. Звезды казались крупнее и ярче, как бы клонились к земле. Дали под месяцем странно сужались, зыбкая дымка их одевала. Все вокруг становилось иным, чем было днем. Горы сдвигались ближе друг к другу, и вся земля становилась меньше, короче. Человеческий голос в этом изменившемся мире казался особенно близким, волнующим.
На Железной горе домов для приезжающих не было вовсе, и все ютились в калмыцких кибитках; в этом была особая прелесть. Николаю Раевскому и Пушкину не было здесь никакой помехи, и, лежа в особой палатке, на пахнущих козьею шерстью валеных кошмах, они болтали порою до позднего часа. Николай любил перед сном перебирать впечатления минувшего дня, вспоминать Петербург. Случалось, они принимались смеяться, и дружный их хохот будил кого-либо из остального семейства, расположившегося в соседних кибитках.
– Неуемные вы! – говорил поутру генерал, благодушно над ними подсмеиваясь. – Говорят, здесь бывают землетрясения, и, признаюсь, я было подумал…
Землетрясения бывали действительно, но их никто не слыхал, не видал, не наблюдал: Пушкин носил их в себе. Это бывали короткие промежутки сгущенного времени, когда с молодою, неудержимой отвагой сталкивались в душе воспоминания и мечты, обида и гнев, ощущение горечи плена и скованности и сквозь него могучий порыв к освобождению; это было смятение чувств – тоска поражения и восторг воображаемых побед. Пушкину часто казалось, что он совсем погибал в этом хаосе, где горы рубились между собою и из их каменных рассеченных ран били источники горячею кровью. Это не был застывший Кавказ и размеренно себя повторявшее время – в кипении творческих и жизненных сил Кавказ как бы снова рождался и находил сам себя, и самое время сгущалось и тоже как бы вскипало во встречных потоках прошедшего и того нетерпеливого будущего, которое стремительно требовало стать настоящим.
Пушкин, смятенный, приподнятый, внешне взъерошенный, все это выносил один, сам с собою и лишь иногда, в такую вот прохладную, затаившуюся под звездами ночь, горячо, как поверяют сердечные тайны, говорил с Николаем о муках любви, о творческих муках, о жажде свободы. И он находил понимание в глубоком молчании, в ответном взволнованном слове. Оба любили друг друга, и Пушкин вновь обретал в этих беседах спокойствие сердца.
Кавказ глубоко ложился в сознание, в воображение Пушкина. Наряду с новым для него бытом, в который он внимательно вглядывался, с отдельными живописными фигурами горцев, силуэтом всадника на горизонте, что-то ему говорили также и – взгляды в себе затаившейся Зары. Правда, она не была девушкой гор, она не черкешенка, а просто татарка, но первобытный зеленый огонь ее глаз будоражил его.
Зара была молчалива, но, казалось так Пушкину, это лишь до поры…
Однажды, в степях еще, во время короткой одной остановки, вызванной поломкою колеса, пока в каретах все почивали, Пушкин тихонько вышел в спящую степь. Стояла луна, и царило молчание. Он отошел далеко. Лунный свет, заливавший пространства, туманился в далях и крохотными звездочками блистал в бисерных озерцах росы, осевших на узорчатых листьях уснувшей манжетки. Все было иначе, чем днем, завороженное, несколько призрачное. Иною лежала земля, и облака, в соседстве с луною серебрясь по краям, также как бы дышали ночной улегченною жизнью.
На обратном пути, не доходя еще до экипажей, услышал он странный негромкий напев, в котором не мог разобрать и понять ни единого слова. Он постоял, помолчал и, ничего не сказав, тихонько прошел и поднялся в карету. Но голос татарки и самая мелодия, сдержанно страстная, и эта степь, и ночь, и луна глубоко запали ему в душу и в память.
Такою теперь вспомнилась эта ночь! Странная девушка… Сдерживаемая горячность ее существа сказывалась и в самой ее походке, несколько настороженной и даже как бы крадущейся. Так, незаметно, под чадрой темной ночи, могла бы она внезапно возникнуть и у входа в кибитку…
Что было тут правдой и что воображением? Впрочем, воображение нередко угадывает именно ту поэтическую скрытую правду, которая не уступит и самому непреложному факту. Так и этот пригрезившийся и никак не воплотившийся в жизни роман стал подлинным фактом в творческой жизни самого Пушкина.
Но ничто – ни холодная, мрачная тень, которую, как одинокий утес, кидал на него разочарованный в жизни полковник Раевский, ни собственные «землетрясения», ни сознание предстоящей ему и все приближавшейся жизни на положении ссыльного, никакая тоска, порой налетавшая, как быстролетная темная туча, – ничто не гасило для Пушкина солнца.
Когда переехали и на Кислые воды – последний этап их лечения, кавказское солнце светило особо блистательно. Как четки, низались за сутками сутки: сияющий день и черная ночь. Это было классически строго и стройно.
Но собственное солнце внутри было гораздо более молодым и не столь классически строгим. Оно светилось в глазах и в улыбке, открывавшей блестящие ровные зубы, даже в самых движениях – порывистых и грациозных, действительно напоминавших движения молодого зверька, радующегося жизни.
К тому времени Пушкин получил через Инзова посланную ему Жуковским тысячу рублей – первый свой гонорар – за «Руслана и Людмилу». Но деньги – как если бы с гор набегал ветерок: так непрестанно они шевелились и так легко улетали… Пушкин присаживался и к карточному столу, беззаботно радуясь случайному выигрышу и ничуть не печалясь о проигрышах, гораздо более частых.
Он неизменно был весел и смеялся порою сущим пустякам.
Сам же особенно любил он подшучивать над доктором Рудыковским. Еще в самый день приезда на Горячие воды, сидя на бревнах, смеясь, он вписал его в книгу посетителей вод под важным наименованием «лейб-медика» из свиты генерала Раевского, а себя записал просто «недорослем». Рудыковскому было с этою записью немало хлопот, но кличка «лейб-медика» прочно к нему привилась.
Оба они часто пикировались. Рудыковский, кое-что понимавший в искусстве пиитики, пытался писать стихи и всерьез любил их декламировать вслух. Стихи были плохи и длинны, но как дружно зато все посмеялись над коротким советом, который преподан был Пушкиным почтенному медику-стихотворцу:
Аптеку позабудь ты для венков лавровых
И не мори больных, но усыпляй здоровых!
Тут, у кипевшей в яме воды, Пушкин однажды задумал повторить «научное наблюдение» доктора Рейнеггса, о котором слыхал от того же Рудыковского: «Один больной, прибывши к источнику, выпил два стакана нарзана и, почувствовав внезапное опьянение, впал в глубокий сон, продолжавшийся два часа семнадцать минут». В бассейн на веревочке заранее опущена была бутылка шампанского, и когда вся их флотилия прибыла со стаканами «на водопой», как шутил генерал, Пушкин еще раз захотел послушать рассказ об историческом опыте, а затем, вытянув бутылку, торжественно провозгласил:
– Да здравствует ваша наука: подставляйте стакан. Ручаюсь, что с вами произойдет то же самое!
Всем хорошо было известно, как Рудыковский быстро хмелел.
Последние дни были коротки. Скоро с Кавказом и расставаться. Пушкин и здесь поднимался на все окрестные горы – на Синие горы, на Бугурустан – по ту сторону Подкумка, на крутой, суровый Кабан. Манило его и на Большое седло, но Раевский-отец очень остерегал. Уже на Пикетной горе, совсем недалеко от источника, непрестанно пребывало сторожевое охранение. Гора же Большое седло скрыта была еще Малым седлом, выступавшим ближе к долине; там было уже небезопасно.
Однако же Пушкину очень хотелось проделать какую-нибудь именно небезопасную вылазку, и вместе с Николаем подговорили они одного старика-казака сопровождать их в ночной экспедиции. Можно было предполагать, что замыслы их не остались полною тайной для генерала, но, к удивлению, он им ничего не сказал.
Еще до полуночи со всей осторожностью выступили они в поход. На попечение проводника сдана была также корзина со съестными припасами и вином: решено было на высоте заночевать и дождаться восхода солнца.
Небо было закрыто облаками, набежавшими еще на закате, и ночь полна была бледного, рассеянного света; скалы, отроги и выступы возникали внезапно и незаметно скрывались. Путь лежал в объезд Синих гор, стоявших над самой долиной нарзана. Подъем шел постепенно, но ехали шагом и молча. В этом была своя прелесть.
Дорога, как оказалось, была совсем не длинна, в полумгле, чуть посветлевшей, скоро уже и замаячил коренастый очерк седла. Каменистое ложе окончилось, и кони вступили в высокую сочную траву. Вдруг на горе или, может быть, непосредственно за горой явственно раздалось фырканье лошади. И Раевский, и Пушкин насторожились. Один старик-проводник сохранял невозмутимое спокойствие. Он неторопливо и остерегающе поднял вверх руку.
– Только что, ваши благородия, не вздумайте выстрелить, а то как бы нас не приняли за горцев!
– Что ты говоришь! – громким шепотом вырвалось у Пушкина. – Как – нас за горцев?
– А так, – спокойно ответил казак, – меня самого предупредили: дескать, не вздумай шалить, а то, часом, и не узнают.
– Зато я узнаю отца! – воскликнул Раевский. – Он послал на Большое седло казачий разъезд?
– Так точно. Их высокопревосходительство с вечера об этом распорядились.
Так Раевский-отец их перехитрил… Это было, конечно, с его стороны очень заботливо, но Пушкин то хохотал, вспоминая эту удавшуюся генеральскую хитрость, то опять хмурился. Он рассердился бы и совсем, когда бы не убедился, что казачьему пикету ничего не известно об истинной цели ночной их командировки на Большое седло.
– Я не останусь тут ночевать, – негромко сказал Пушкин Раевскому. – Только спустимся давай где-нибудь по крутизне.
И уже по самому тону этих слов, заговорщицкому, тот догадался, что Пушкин что-то задумал.
Так оно и оказалось. Как только спустились – спуск был крутой и опасный, а стало быть, и восхитительный, – Пушкин с казаком-проводником быстро договорился. Он и раньше осведомлен был о знаменитой вершине Джинал. Это было порядочно к югу, а стало быть, ближе к Эльбрусу и уж, конечно, много опасней, чем Большое седло. Теперь ему загорелось: на хитрость ответить хитростью, на осторожность – риском.
И проводника особенно уламывать не пришлось. Похоже, что и его заразил молодой этот задор. Одно только было условлено: полная тайна! На этом особенно настаивал Николай. Никому не говорить и даже не писать. Не хвастаться! Ему не хотелось, чтобы как-нибудь это дошло до отца.
Теперь экспедиция протекала иначе – со скрытым упорством и с подлинной осторожностью. Что-то от лицейских проказ сливалось в одно с совершенно другим ощущением: как если бы это было настоящей военной разведкой.
Подъем поначалу шел постепенно, но ехали шагом. Молчали. По дороге сменялись не раз запахи трав и цветов: чем выше, тем далее всадники наши уходили от лета и приближались к весне; становилось свежо. Подъемы вдруг сделались круты, направление едва различимой тропы резко и часто менялось.
– Далеко ль еще? – негромко спросил Николай.
– А как раз и добрались, – ответил старик. – В самый раз и Джинал. – И, еще не снимая корзины, соскочив с коня, огляделся и осторожно положил на землю ружье.
Облака наверху поредели, но и звезды поблекли. Все предвещало скорое утро. Молочный туман полнил бескрайнюю долину, открывшуюся глазам. Он был зыбок и легок и пребывал в непрестанном движении. А где же Эльбрус? Он где-то и был, холод веял в его сильном дыхании, но сам он невидим. Легкое чувство разочарования охватило молодых путников. Было совсем-таки холодно, зябкая дрожь пробегала по телу.
Раевский непроизвольно зевнул и, мешая в одно зевок и улыбку, сказал неразборчиво:
– Жалко, не прихватили и одеял… Хорошо бы прилечь. – Он был порядочный соня.
– Да и другим чем недурно б погреться! – отвечал Пушкин, смеясь.
Настороженность покинула их, как только соскочили с коней. Изумительная тишина стояла окрест, как бы пролитая с неба на землю и затопившая собою все на десятки верст. Не то чтобы не было только видно и слышно людей, но больше того: было само по себе, как особая какая-то реальность, – безлюдье.
Молодой аппетит пробудился. Намолчавшись, хотелось и поговорить, и оба они, развеселившись, присели на корточки и стали выпотрашивать корзину. Старый казак, не спеша перекрестившись, присоединился к их трапезе. От молодых господ он и тут никак не отставал. На короткое время, выпивая, закусывая, оба молодых человека почти вовсе забыли о цели своего рискованного путешествия. Но, нечаянно обернувшись, Пушкин стремительно вдруг поднялся и почти закричал:
– Николай! Посмотри же… Он к нам идет!
– Кто? Где? – И Раевский вскочил по-боевому.
В свете бледного раннего утра, едва выделяясь из молочных туманов, как из зыбких ночных своих риз, белоснежный старик, красавец и великан, проясняясь, очерчиваясь с каждой секундой все полней и мощней, действительно как бы летел им навстречу. Он был необычен. Обе вершины его, к которым глаза, любуясь, привыкли давно уже, – «вот это и есть сам Эльбрус!» – были теперь только как главы, венчавшие его исполинское тело, одетое едва до половины в грандиозный снежный кафтан. Был он огромен и вместе с тем легок необычайно – воздушными своими пропорциями; и как же тонки и нежны линии скатов, как хрупка и светла вся его снежная масса! И хотя поразительно было это ощущение стремительного его приближения, почти гармонически музыкального, но тотчас же оно стало казаться и единственно верным, естественным.
Одновременно во всей своей сказочной ширине развертывалось и открывалось безмерное пространство, казавшееся одною долиною бледной дымящейся мглы, постепенно также светлевшей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































