Текст книги "Пушкин на юге"
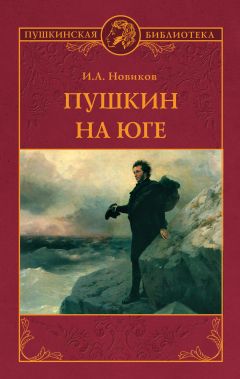
Автор книги: Иван Новиков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава седьмая
На берегах Тясмина
Все так и случилось. Орлов поговорил с Инзовым, и добрый Иван Никитич эту новую отлучку Пушкину разрешил.
– С генералом Раевским я тебя отпустил из Екатеринослава, – сказал он ему на прощание, – и к генералу Раевскому опять отпускаю. Только тогда был ты больной и вылечился, а теперь остерегайся – не захворай. В Каменке климат опасный!
При этом Инзов сощурил левый свой глаз, стремясь подчеркнуть этим движением всю тонкость сделанного им намека. Пушкин, впрочем, и так отлично догадывался, что именно тот имеет в виду, но притворился, будто подумал что-то другое. Он коснулся рукою сердца и, смеясь, возразил:
– За это ручаюсь. Будьте покойны.
– Что, брат, за это… Вот за что поручись!
И старик постучал желтоватыми пальцами по лбу.
За этой шутливой беседой скрывалось, конечно, и серьезное. Во всяком случае, Пушкин надеялся застать и увидеть в именины у Давыдовых множество новых и интересных людей. За самые последние дни до Кишинева дошли слухи о военном бунте Семеновского полка в Петербурге. Что-то готовилось и назревало. «Настоящая война еще впереди», – вспомнились ему слова Охотникова, также теперь собиравшегося в Каменку. Пушкин часто спрашивал себя: «А где же мое, собственно, место? И какова цель моей жизни?»
Выехать решено было рано, и Орлов накануне отъезда пригласил Пушкина к себе переночевать.
Пушкин у него и обедал, после обеда пили вино, но гости не засиделись и разошлись необычно рано. Забравшись с ногами на диван, он слушал доносившиеся до него звуки из кабинета Орлова, где хозяин сам приводил в порядок какие-то, видимо, особенно важные для себя бумаги. Может быть, он намеревался взять их с собой.
Просторная комната, еще недавно освещенная десятками свечей и полная шумного говора и восклицаний, сейчас была слабо освещена и совершенно пустынна. Свет падал косым нешироким половичком только из полуоткрытых дверей кабинета. «Он занят теперь, но что он там думает? Думы не то же, что мысли. Мысли приходят и уступают место другим, думы же человека не покидают, они сопутствуют ему во всем».
Пушкин знал одну тайну про Михаила Федоровича, о ней шепотом говорили друг другу. Да и вообще в Кишиневе не было тайн: там знали подчас один про другого даже такое, чего вовсе и не было. Орлов еще не жених, но едет жениться. Он вообще очень уверен в себе, но в этом уверен ли? И можно ли быть вообще в этом уверенным? Наверное, он будет просить Александра Раевского переговорить и с отцом, и с сестрой. Недаром такая и переписка меж ними…
И Пушкин, закрывая глаза, видел каменистую дорогу, идущую в гору, и почему-то сначала узкую длинную тень, немного изогнутую неровностями почвы, а потом уже и саму Екатерину Николаевну под кружевом зонтика и с палевою розою в волосах… Орлов никогда про нее не говорил, и Пушкин – ни слова. И, конечно, там, за стеной, каковы бы ни были даже и самые важные мысли, думы его, несомненно, о ней.
Сколько так прошло времени, трудно сказать.
– Александр Сергеевич, вы задремали? – услышал он голос Орлова.
Он и не думал дремать и тотчас открыл глаза.
– Скоро и в самом деле надо ложиться, – сказал Орлов и принялся неспешно ходить вдоль столовой.
Пушкину показалось, что он что-то скажет сейчас, и непременно об этом. Но Орлов заговорил, по-видимости, совсем о другом. Пушкин не раз слышал его суждения в общих беседах за стаканом вина. Но непосредственно между ними двумя серьезного разговора никогда еще не бывало. Орлов говорил в раздумье и даже отчасти как бы с самим собой. И Пушкин безмолвно подавал ему реплики.
– Я оттого, собственно, из Киева и ушел… («Я понимаю отлично, почему ты ушел… Я и сам от смущения и от страха – не ушел бы, а убежал!») Здесь я могу делать все, как хочу, как почитаю необходимым, здесь я начальник и сам за все отвечаю, не правда ли? («А там ты не начальник даже и над собою самим, и там ты не отвечаешь даже за самого себя!»)
Пушкин подавал немые эти реплики горячо и тотчас, но вслух ничего не произносил.
– Откровенность не есть добродетель нашего века, – продолжал Орлов, – но к вам я имею открытость. Еще недавно писал я сестре, что живу совершенно спокойно, а чтобы быть счастливым, мне давно уже не нужно ничего другого, как не быть несчастным. Но так ли это?
«Вот они – его думы!» – Пушкину казалось, что он теперь хорошо его понимал.
– Она мне прислала попону, отличную, даже особенную. Вы не видали? Я вам покажу. Как был бы я рад расстелить ее, сняв с коня, на зеленом лугу после какого-нибудь нового боя и глядеть на облака в вышине и вспоминать…
У Пушкина горячо стало на сердце. С чуть заметною горькой усмешкой, в наступившей вдруг тишине, докончил он за Орлова:
– Вспоминать… о сестре?
Но Орлов как бы ничего не заметил.
– Да, о сестре, и о всех любимых и близких.
Пушкин теперь себя внутренне укорял. Перед ним был человек, которого он искренне и глубоко уважал. Все, что он говорил, шло от души, и поминание боя никак уже не было в нем ни декорацией, ни похвальбой. Вот человек, для которого отчизна – дыхание и воздух. Еще на Кавказе от Александра Раевского он слышал рассказ, как шестнадцати от роду лет, получив золотую шпагу за храбрость в бою под Аустерлицем, Орлов, принимая ее, заплакал, узнав, что сражение было проиграно. Не личный успех и не слава ему были дороги. Так что же, ему ли завидовать, его ль ревновать? И Пушкину так захотелось спрыгнуть с дивана и схватить за обе руки этого большого красивого человека и пожелать ему счастья…
Но Орлов в самую эту минуту, вдруг по-военному ловко повернувшись на каблуках, улыбнулся светской улыбкой.
– Не правда ли, из меня недурная вышла бы нянюшка? Я вас совсем усыпил.
И они пожелали друг другу доброго сна.
Осень в том году на Украине выдалась ясная, теплая. Ноябрь уже перевалил за половину, а еще леса кое-где не были вовсе черны. Порой пролетала отбившаяся и запоздалая цапля, и аист, напоминая Михайловское, стоял где-нибудь на одной ноге у затона, не боясь простудиться. На лугах по мочажинам еще зеленела трава, радуя глаз, и, низко склонившись, прилежно щипали ее грустные овцы; облака на синеве все завивались по-летнему. По утрам, однако ж, ложился по перелескам сизый туман, и солнце вставало – недужное.
Худенький Пушкин зарею поеживался, а Михаила Орлов, не жадный до сна, плечистый и плотный, пышущий здоровьем и утренним добродушием, закуривал походную трубку. Александр глядел на него, не полностию размыкая ресницы.
– Что ты на меня щуришься! Я ведь не солнце.
– Верно, но на вас лежит солнечный отблеск, – ответил Пушкин не без намека.
Когда бы вчера Орлов и не помешал невольному порыву его, все же вряд ли б и сам он решился открыто заговорить. Сейчас было совсем иное – день, путешествие, простота.
– На какую рекрутскую службу ты поступил, я не знаю, – продолжал шутить Михаил Федорович, обращаясь к Пушкину на «ты», как всегда это делывал, будучи в расположении веселом. – Не знаю я этого. Но ты голову выбрил: оттого, знать, и зябко.
– Подождите, генерал, скоро забреют и вас, – живо ответил ему Пушкин и, видя недоумение на розовом лице своего собеседника, пояснил: – Я разумею, на службе у Гименея.
Волна крови прилила к щекам Михаила Федоровича. Он выпустил целое облако дыма и, скрывая смущение, расхохотался – быть может, несколько более громко, чем бы хотел.
– Откуда ты знаешь?
– Сердце сказало.
– Ну-ну! – немного смущенно погрозил ему пальцем Орлов. – Я знаю тебя и твою «Черную шаль» – не вздумай приревновать!
Тут покраснеть пришлось, в свою очередь, Пушкину, и он принялся расспрашивать о гостях, ожидавшихся в Каменке. Но на эту тему Михаил Федорович распространялся не слишком с большою охотой. И Пушкин умолк, дабы не возбудить в собеседнике излишней настороженности. Да оно и любопытнее было – все видеть и все разгадать самому.
Само по себе путешествие было очень приятно. Снова ложилась земля под колеса, кружились поля и плавно бежали деревья на горизонте.
Когда после тракта дорога пошла меж холмов, лесистым проселком, все ниже спускаясь к долине Тясмина – реки, про которую доселе он только слыхал, – в воздухе повеяло сладковатым, несколько пряным запахом прелой опавшей листвы. Пушкин вытянул ноги, снял шляпу, под нею ермолку. Касание холодного воздуха к коже напоминало немного купание.
Он про себя улыбнулся. Теперь, чтобы осень, с детства любимая, дохнула во всей полноте, недоставало, пожалуй, еще только по ветру горьковатого дыма из кухонных труб, а в самой усадьбе, наверное, встретит особо приятный для путников аромат пирогов – в честь именинницы, престарелой вдовы Екатерины Николаевны, – родоначальницы сначала Раевских, позже Давыдовых.
Лошади прибавили рыси, когда на взгорье, господствуя над рекой и местечком, открылся глазам двухэтажный обширный помещичий дом, и по обе стороны от него многочисленные службы. Флигель стоял прямо в саду, ближе к реке. Ниже еще, у плотины, стояла старая мельница; красивая башня при входе напоминала собой мавзолей. Две церкви местечка поблескивали небольшими крестами. Одна из них, новенькая, деревянная, как подъехали ближе, казалось, пахла еще свежими бревнами. Избы белели по-украински – равно и у крестьян, и у евреев, занимавших целый порядок вверх по реке.
Сад, начинавшийся от господского дома, был гол и прозрачен. В высоких сапогах, с ружьем за плечами, с двумя собаками по саду шел молодой человек. Завидев экипаж, он остановился, снял шляпу и чуть декоративно задержал ее так в отведенной руке, приветствуя этим жестом гостей. Пушкин только взглянул на него и сразу узнал.
– Александр! – закричал он, соскакивая на ходу с экипажа.
– Куда вы? Он к нам подойдет!
Но Пушкин не слышал, что ему говорил Орлов. Перепрыгивая через канаву, отделявшую сад от дороги, он едва не споткнулся и, лишь ухватившись за голую гибкую ветку орешника, быстро, легко выскочил на довольно крутую, заросшую кустарником насыпь. Александр Раевский, степенно и не торопясь, придерживая покороче собак, шел ему навстречу. Они обнялись.
– Ну, Александр, я очень рад, что ты выбрался к нам, – говорил Раевский с искренней радостью и, однако же, чуть покровительственно поглядывая на друга сверху вниз.
Пушкин взглянул на него сияющими, загоревшимися глазами.
– Орлов тебя дожидается…
Но Орлов как раз махнул кучеру, и тот резво погнал лошадей.
– Ну что, подружились?
– Я уважаю Орлова, – ответил Пушкин серьезно и несколько сдвинув брови.
«Он непременно будет с ним говорить о сестре», – подумал он в то же самое время и, чуть запинаясь, спросил:
– А кто же из ваших… здесь? Кто приехал?
– Ах, вот ты с кем подружился! – смеясь, возразил Раевский. – Я знаю уже, я все теперь знаю…
И, любуясь смущением Пушкина, рассказал ему, что сестры будто и собирались, да из-за нездоровья Елены остались в Киеве («Ну, язык и до Киева доведет… Буду там непременно!» – пронеслось у Пушкина в голове)… что, и брат Николай не захотел их покидать…
– А впрочем, я поглядел бы, как он вздумал бы их покинуть.
– Но почему ж?
– Отец не пустил.
– А, понимаю, – весело рассмеялся Пушкин. – В Каменке климат, говорят, опасный! Но меня вот пустили…
– Вот именно климат, – улыбнулся в ответ и Раевский.
– А что, – спросил его Пушкин, не удержавшись. – Кто тут? Говори. Есть интересные люди?
– Люди как люди, – с обычной насмешливостью ответил Александр Николаевич. – А вот жаль, что ты не охотник.
– Нет, до людей я охотник, – быстро ответил Пушкин, снова смеясь.
И оба они пошли по направлению к дому.
– Будет охота скорей на тебя. Дамы ждут не дождутся. Все Пушкин да Пушкин: «Когда ж будет Пушкин?»
– Я это слыхал уже.
До именин оставалось три дня, и пирогами еще не пахло, но двор уже весь переполнен был экипажами. Оглобли, поднятые кверху, напоминали осенний бурьян на заброшенном поле. Между людей шныряли собаки, и кучера громко бранились.
Пушкин все это время был крайне стеснен в деньгах. К тому же совсем незадолго до отъезда прибыло в Кишинев отношение в Бессарабское областное управление о взыскании с него старого петербургского долга – на кругленькую сумму в две тысячи рублей. Бумага переслана была Екатеринославским губернским правлением. Пушкин Инзову жаловался:
– А отчего не послали ее на Кавказ, а после в Юрзуф, в Бахчисарай? Непорядок! Она мне, как лодке, нос перерезала…
– Посмотрим… Поедешь, – отвечал ему Инзов, – а мы уж тут что-нибудь выдумаем… – и обещал, кроме того, написать в Петербург, чтобы жалованье-то хотя б высылали.
Про Пушкина нельзя было все же просто сказать, что он жил небогато. Это определение совсем не подходило. Он не тратил совсем ничего: нечего тратить! Порой занимал; случалось, хоть редко, немножко выигрывал в карты; постанывал к брату в письме: «Мне деньги нужны, нужны!» Питаясь у Инзова или в гостях, редко за свой счет в трактире, особенно остро он ощущал недостаток в одежде и обуви. В сущности, только одна и оставалась приличная пара… И оттого он ни за что не позволил выбежавшему навстречу лакею взять свой чемодан: не слишком-то был он тяжел! А когда подоспел где-то замешкавшийся Никита Козлов, Пушкин, от смеха давясь, громко его предупредил:
– Поосторожней неси. Не надорвись.
Денег из дому не слали. И невольно сейчас, моясь и переодеваясь, он представил себе петербургскую квартиру отца, как сидит он в халате у письменного стола, опершись о подлокотни кресел и вертя в руках разрезальный нож из слоновой кости, а Ольга стоит перед ним, держа очередное письмо брата. «Но чего же он хочет? – говорит отец, переходя на самые высокие ноты: это всегда у него и оборона, и наступление. – И чего вообще все вы от меня требуете? Что мне – халат свой продать, обстановку? Я делаю все, что могу. Кто может меня упрекнуть? Я пишу ему любезные письма… (Писем он не писал.) И, наконец, я же ведь не отрекаюсь от блудного сына…»
Тут Александр, моясь и фыркая, живо представив себе и фигуру, и интонации в очередной декламации отца, расхохотался так весело, как давно не случалось. «В Киев – да, непременно поеду! Но, кажется, и здесь хорошо!»
Издали, с лестницы, слышался шум голосов, женские возгласы, и им овладело забытое ощущение петербургской его молодой и беззаботной жизни.
Еще когда проходил через залу, чтобы подняться сюда, произошла у него забавная встреча. Нарядная девочка с милым и нежным лицом, бежавшая на носках через комнату, внезапно остановилась, заметив его, и, тронув слегка концы белого платья, уже готова была присесть в реверансе, но так и застыла в изумлении. Он издали, по невольному движению ее губ, разгадал безмолвное восклицание: «Пушкин? Так вот он какой!» И, повинуясь охватившему его шаловливому настроению, он сделал ей смешную гримасу. Девочка от неожиданности выпустила платье из пальцев, сомкнула ладони и опустилась на пол от затомившего ее беззвучного смеха. Тогда он и сам заскользил по вощеному паркету, как если б бежал на коньках.
– Адель! Адель! Иди скорее сюда! – услышал он, как по-французски кто-то ее позвал из-за дверей.
Произношение выдавало природную француженку, и, обернувшись, Пушкин успел различить в распахнувшейся двери легкую чью-то фигурку, взбитые локоны и изящную ручку, отягощенную кольцами; быстрый женский взгляд сверкнул на него с любопытством. Кажется, это была жена Александра Львовича, старшего из братьев Давыдовых.
Когда наконец кончил он свой туалет, сейчас же его охватила вернувшаяся к нему привычная светская легкость, как на балах в Петербурге; глаза заблистали, и по скрипучим ступенькам он стал сходить с лестницы.
Александр Львович, огромный толстяк с большим животом, не покорным жилету, снисходительно, с высоты своего величия, представил его своей жене Аглае Антоновне. В глазах у нее мелькнул веселый огонек.
– А я вас уже видел, – минуту спустя болтал с нею Пушкин, едва толстяк отошел. – И сразу узнал. Вы точно такая, как я вас себе представлял. Я о вас много дорогою думал.
Впрочем, все это он говорил, ни минуты не думая, что она может поверить. Это была обычная легкая болтовня, а эта тридцатилетняя хорошенькая женщина, миниатюрная и грациозная, как фарфоровая куколка, с задорно вздернутым носиком и кокетливою улыбкой, конечно, привыкла к подобным невинным шуткам. Впрочем, Пушкин свой комплимент произнес отчасти и в пику ревнивому супругу, покровительственное отношение которого его раздражало. И все же пустяки эти создавали сразу между молодою хозяйкою и гостем какую-то условную легкую близость, и за обедом они несколько раз взглядывали друг на друга, как будто меж ними уже была некая маленькая тайна.
Адель заняла место рядом с матерью, и на нее Пушкин глядел совершенно иначе, чем на ее мать. Впрочем, и девочку было не узнать. Она сидела за столом, как большая, держась несколько преувеличенно прямо. И лицо у нее – не просто детское личико. Чистая линия лба и чуть косой разрез глаз создавали незабываемое своеобразие; узкие плечи и тонкая шея едва формирующегося подростка дышали тихой и ясной ранней весной. С разбегу ей сделал гримасу, а сейчас глядел на нее почти с робостью, как если бы даже и взглядом можно было что-то спугнуть невозвратимое, неповторимое, как самое детство.
Так нередко возникали у Пушкина своеобычные отношения с людьми, с которыми за четверть часа до того он даже не был знаком; порою это случалось и с первого взгляда.
Перед тем как садиться за стол, он все поглядывал, где же Раевский – Николай Николаевич. Генерал вышел из внутренних комнат с престарелой матерью, когда почти уже все были в сборе. Орлов тотчас к нему подошел, и они на глазах у всех обнялись. Пушкин не смел этого сделать, хотя чувство его толкало к тому. Николай Николаевич приветливо ему улыбнулся, добро пожал ему руку и представил матери. Орлов был давно уже с нею знаком.
Сидя теперь за столом, Пушкин, конечно, был занят не одними лишь дамами, он озирал и все общество, живо, легко схватывая общую картину. Здесь не было ни чинности званого петербургского обеда, ни некоторой безалаберности кишиневских пиршеств – тут господствовали непринужденность, свобода и тот особый тон простодушия, какой-то домашности, который Пушкин ценил и любил и которым так наслаждался, едва ли не впервые в жизни, в Юрзуфе у Раевских.
За столом, вперемежку с помещиками и забавными дамами их, блистало немало военных мундиров. Александр жадно глядел и на этих еще совсем молодых офицеров, стараясь прочесть в их манерах, во взгляде скрытые думы. И вправду, казались они какой-то иною породой людей. Раевский был всех много старше. Пушкин невольно сравнивал эти два поколения.
С теплым чувством почтения, столь для него редким, взглядывал он на генерала Раевского, сидевшего рядом со старухою матерью. Лицо у Николая Николаевича показалось ему немного уставшим, летний здоровый загар отошел, ясней выделялись морщины у поседевших висков.
И Пушкину вспомнилось, как впервые увидел Раевского на лубочной картинке, где изображался подвиг его в Отечественную войну двенадцатого года: генерал, взяв за руку своих сыновей Александра и Николая, бывших совсем еще мальчиками, вышел с ними под обстрел неприятеля и крикнул солдатам: «Вперед, ребята, за царя и за отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь!» Пушкин отчетливо помнил, как еще мальчиком глядел он на эти лубки и как по спине его пробегал ощутимый холодок восторга.
Правда, героическая брань эта давно отшумела; правда и то, что отношение к царю и у Пушкина, и у всей молодежи резко теперь переменилось, – но геройство Раевского от того не поблекло. И разве в нем не остались все те же храбрость, честь, прямота? И то, что недавно узнал про него от Орлова: царь хотел возвести его в графское достоинство. Раевский ответил ему тем девизом, который во Франции провозгласил один из Роганов: «Царем быть не могу, герцогом быть пренебрегаю, я – Роган!»
И эти молодые знали войну… Но настоящая их война еще впереди. Будут и там свои испытания… Как они выдержат их? Пушкин взглянул на Орлова. Спокойный и ровно оживленный, он любезно беседовал с соседями. Но в ясных выпуклых глазах его Пушкин читал и задумчивость, которую нетрудно было разгадать. И все же Александра сейчас занимало другое. В первый раз с такою отчетливостью почувствовал он, какое своеобразное место занимает Михаил Федорович Орлов между другими его знакомыми и приятелями-военными… Он был самый старший среди молодых, но одновременно и самый младший из старшего поколения. Куда же он ближе и что для него больше характерно?
По отношению к старшим и младшим в этом кругу Пушкину все было ясно. Раевского, Инзова он почитал как чудесных и истинно ему милых людей; Раевский к тому ж был и настоящий народный герой. С Охотниковым и другими молодыми офицерами, с которыми сблизился в Кишиневе, роднило его общее восприятие жизни. С ними было легко и все с полуслова понятно. Как же с Орловым? Часто тот говорит ему «ты», а Пушкин его величает на «вы»… Какая-то грань отделяет его от прочих. Раевский и Инзов – там явное старшинство, здесь – что-то другое. И Михайла Орлов – истинный воин; и Михайла Орлов по взглядам своим неотделим от молодежи; но у Михайлы Орлова есть нечто свое, что его отделяет от тех и других, и, пожалуй что, – так и надо это сказать, – выделяет его между другими… возвышает над ними. Орлов – государственный ум и прирожденный государственный человек, если бы дали ему настоящую власть. «Я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке» – это его собственные слова. И при этом никак не думал он ни о карьере, ни о почестях. Как бриллианты бывают чистой воды, так и Орлов был чистой воды человеком. В этом Пушкин отдавал ему должное.
Но не было в нем ни озорства, ни молодого задора, цветения не было… («Какой же тогда он жених!» – именно что с озорством подумалось Пушкину.) Но даже не это, а вот чего у него нет, так это взгляда на жизнь не сверху, а снизу, что есть и у Охотникова, и у других. Он молод, но он генерал уже с двадцати шести лет, и как давно уже он распоряжается. Вот Пушкину не только нечем распоряжаться, но он и вообще не у дел… («Так, с другой стороны, какой же и я-то жених!» – и стремительно выпил рюмку вина.)
Все эти мысли сжато и быстро проносились у него в голове, перебиваемые еще более быстрыми «интимными» мыслями, скорее похожими на мгновенный укол, чем на полет, «Сановник! Вельможа!» – Пушкин способен был и на минутную несправедливость.
Как-то спросил он Орлова, слегка раздраженный его достойным спокойствием:
– Вот вы говорите: «Жить с пользою для своего отечества и умереть, оплакиваемым друзьями, – вот что, достойно истинного гражданина». Ну, а умереть за отечество?
– Жизнь моя к тому бывала готова не раз, – с большой простотою ответил Орлов.
Пушкин смолчал: ответа не было убедительней. Но он думал, спрашивая, о другом, к чему готовы были, он это чувствовал, многие из молодых; или это чуждо Орлову?
«Не буду я больше думать о нем», – прервал сам себя Пушкин и тотчас обменялся улыбкой с Аглаей Антоновной. «Однако действительно, кажется, занят он мною, – подумала та. – И какой он живой и смешной!»
Обед между тем, как костер, разгорался не сразу, но уже потрескивали в разных местах, подобно загорающимся сучьям, отдельные восклицания, смех. Еще немного, и все сольется в единое шумное пламя.
Стол возглавляла хозяйка, семидесятилетняя барыня, в темной наколке из кружев. По левую сторону от нее сидел генерал Раевский, ее первенец и единственный сын от первого брака. Садились за стол не по чинам, и Пушкин расположился – впрочем, по указанию – неподалеку от них. В этом тоже было нечто приятное, ибо тем самым он здесь пребывал отчасти как свой. Время от времени до него доносились отдельные фразы из их разговора. Однажды прислушался он и повнимательней.
– А правда ли, маменька, – говорил Николай Николаевич, склоняясь к старушке и поднося к губам длинные ее пальцы, как бы тем самым предваряя ее, что последует нечто интимное; при этом лицо его, открытое, но немного суровое, теплело в улыбке. – Правда ли, что вы уже готовились стать матерью, а еще игрывали в куклы?
– Ах, мой дружок, – возражала она, отводя в сторону вилку, чтобы случайно его не задеть, и отвечая поцелуем в голову на поцелуй руки, – а вся жизнь не есть ли игра, и люди – не куклы ль в умелых руках, привыкших к игре?
Сын почтительно-весело ей возразил:
– Что до меня, я, как и в детстве, всю жизнь играю в солдатики!
– Ты шутишь, а я говорю вовсе не в шутку. Великое дело – уметь в эту игру, о которой я говорю. Мы это знали, умели, а вы забываете, у вас теперь в голове, видишь, и-де-и! Ты хотя бы Василия Львовича, взял труд, пожурил. Да и все эти приятели ходят возле греха.
И она повела еще быстрым насмешливым взглядом по молодым офицерам.
– Не печальтесь, мамаша! – весело крикнул ей, расслышав последние слова, младший из Давыдовых, Василий Львович. – Вы уповайте на Александра Львовича. Старший мой братец верен отцам: он только и ходит, что возле стола. Да и сейчас: поглядите, как вдохновился, как вник.
Все слышавшие этот возглас весело рассмеялись и невольно перевели взгляд на Александра Давыдова, который столь усердно трудился над залитою жиром индейкой, что не только ничего не слыхал, но вряд ли и вообще в эту минуту что-либо другое способен был воспринимать. Жирные плечи его, как эполеты, свисали над белой большою салфеткой, закрывавшей лишь верх его груди, ворот и галстук; ниже валами вставал огромный живот, который ему не мешал лишь по многолетней привычке. Птиц иногда ели руками, беря деликатно ножку иль крылышко, но Александр Львович позволял себе много больше: шумно он грыз сладкие кости, жевал их, высасывал мозг, а остатки выплевывал к себе на тарелку; губы и пальцы его блестели от жира, он их, не стесняясь, облизывал и только потом уже комкал салфетку у подбородка. Тут до идей действительно было далековато.
Заметив наконец, что по какому-то поводу стал центром внимания, толстый Давыдов шумно откинулся, двигая кресло, в котором сидел, еще раз покрепче обтер себе рот в уголках и возгласил:
– Нет лучше домашней индейки! Те дураки, кто живет в Петербурге. Не правда ль?
И, посмеявшись своему остроумию, поманил доверительно старика дворецкого:
– А нет ли на кухне еще? Погляди.
Когда в комнате засинели ранние сумерки, лакеи зажгли высокие свечи – и на столе, в канделябрах, и по стенам, в бронзовых бра. Хрусталь засиял, и тени, пересекаясь, легли на скатерти и на тарелках. Лица при свете огня изменились: женские стали таинственнее, мужские – значительней. В группах молодежи звенели бокалы, и Пушкин различал негромкие, но одушевленные тосты за свободу и за карбонариев, восставших в Неаполе. Офицеры в неверном свете свечей казались ему заговорщиками. Пили иносказательно за тех и за ту, но сидевший с ним рядом молодой человек, немного постарше его самого, это иносказание пояснил.
– Чтобы хозяйку нашу не раздразнить, а так – все понимают, – добавил он сдержанно-тихо.
«Понимаю и я, – подумалось Пушкину, – конечно, за ту – «Русским безвестную…»
– Неаполь далеко, – невольно промолвил он вслух. – Не худо б и нам.
Он вспомнил Липранди, у которого было намерение идти волонтером в итальянскую народную армию, и хотел тотчас рассказать об этом соседу, но, встретив ясные глаза его, как бы запрещавшие много болтать, он почел это за особый доверительный знак, и у него стало в груди горячо. Ему казалось, что еще немного – и его пригласят на заседание, где для него откроется заговор, планы, и его привлекут в число заговорщиков… В Петербурге не то. В Петербурге отмалчивались или отрицали все начисто. Здесь люди иные: дальше от трона, открытее мысли и действия!
Пушкин редко пьянел от вина, но весь этот вечер, длившийся свободно, легко и после обеда, многолюдное общество, нарядные женщины, милые лица Раевских, шутки и тосты, счастливое сознание, что он не в Кишиневе, и особенно ощущение близости чего-то необычайного, что отныне войдет в его жизнь, – все это пьянило сильнее вина.
Он вел разговор и с соседом своим по столу, старым знакомцем – Иваном Дмитриевичем Якушкиным, с которым встречался еще у Чаадаева в Петербурге.
Первая эта их встреча едва не началась со столкновения. Знакомясь, Якушкин назвал свою фамилию. Вчерашний лицеист сделал вид, что расслышал так: «Я – Кушкин», и с бойкостью возразил, вдобавок еще как бы ослышавшись:
– Позвольте, однако ж… Но ведь это я – Пушкин!
– Я имею удовольствие знать, что вы Пушкин, – последовал ответ, хоть и безукоризненно вежливый, но дающий понять, что шутка не была принята.
Шутка была не принята, но все же обиделся больше не новый знакомец, а сам Пушкин: доселе он был так избалован, что каждое его слово принималось с восторгом. Он поглядел снизу вверх на своего собеседника, готовый на самый резкий ответ; кровь уже кинулась в голову. Но к ним подошел Чаадаев, Пушкин взглянул в спокойные его, твердые глаза, столь далекие от всяких житейских страстей, что при нем погасала всякая возможность личной ссоры, и ограничился тем, что сердито спросил, отходя с Петром Яковлевичем: кто же, собственно, этот дерзкий молодой человек в штатском?
Чаадаев, по обычаю спокойно и рассудительно, в ответ рассказал недавнюю новость про вышедшего в отставку юного штабс-капитана Якушкина; как он вызывался в Москве покончить с императором Александром… Молодежь толковала тогда о бедственном положении, в котором находится Россия. Читали письмо Трубецкого, что царь ненавидит и презирает Россию, хочет несколько русских губерний присоединить к Польше и самую столицу перенести в Варшаву. Все были возмущены и крайне возбуждены. Когда же волнение достигло высшего предела, Александр Муравьев заявил, что царя надо убить, и предложил бросить жребий. Тут-то Якушкин и выступил. «Вы опоздали! – воскликнул он. – Я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести».
– Вот молодец! – воскликнул, загоревшись, Пушкин. – Я тотчас побегу пожать ему руку.
– Погодите, – все так же спокойно остановил его Чаадаев. – Ему не следует об этом напоминать. Его и тогда едва успокоили и отговорили. Вы ведь играете в шахматы? Так он, между прочим, сказал, когда пытались его охладить и уверяли, что он назавтра одумается и сам: «Вы говорите – одумаюсь, но я и сейчас совершенно спокоен. Хотите, сыграем в шахматы, и я вас обыграю!»
Так Чаадаев и самого Пушкина успокоил. Тот засмеялся:
– После всего вами рассказанного я и сам готов получить от него мат и обещаю, что не буду сердиться!
Встретившись здесь, тотчас они оба вспомнили это первое их знакомство и как забавно оно состоялось.
– А и действительно, кто ж вас не знал? Да и здесь – кто же не знает здесь Пушкина и его горячих стихов?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































