Текст книги "Родственники"
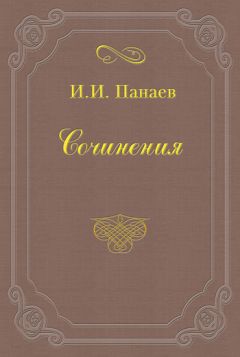
Автор книги: Иван Панаев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
В Петербурге на одном литературном вечере Григорий Алексеич познакомился с Сергеем Александрычем, которого от нечего делать иногда интересовала литература.
Сначала в обществе его Григорий Алексеич чувствовал неловкость и тяжесть ничем непобедимую. Он в первый раз сошелся лицом к лицу с человеком светским. Он оробел перед аристократическою обстановкою Сергея Александрыча; но самолюбию его было лестно знакомство с богатым и светским человеком, хотя Григорий Алексеич стыдился в этом признаться самому себе…
Григорий Алексеич в Петербурге, как и в Москве, фантазировал о любви, о славе, о человечестве, громил романтизм в своих журнальных статейках и беспрестанно жаловался на безденежье. Он никак не мог соразмерить свои расходы с приходами. К тому же журнальный антрепренер платил ему заработанную плату неаккуратно, и Григорий Алексеич в Петербурге, как и в Москве, принужден был занимать по мелочи у знакомых. Однажды он решился занять даже у Сергея Александрыча. Ему, впрочем, нелегко было занимать… Долги страшно терзали его, а между тем – ни любви, ни славы! жизнь нестерпимо однообразная, и ежедневные записки антрепренера: «Да что же статейка? не ленитесь, бога ради, пишите поскорей. Дело стало в типографии» и прочее… Писать, когда ничего нейдет в голову, писать по заказу, когда тоска грызет и давит, когда нет ни мысли в голове и ни гроша в кармане! Литература опротивела Григорью Алексеичу. Но в это время неожиданное обстоятельство вывело его из мучительного положения. Матушка его скончалась. Он продал доставшееся ему именьице своей старшей сестре, выручил за него тысяч двадцать – и уехал за границу на одном пароходе с Сергеем Александрычем.
За границей Сергей Александрыч стал ручнее, сбросил с себя светское петербургское величие и вел себя просто. Григорью Алексеичу легко было сойтись с ним, и, несмотря на то, что образ мыслей их был не совсем одинаков, они скоро до того сделались необходимы друг другу, что почти все время пропутешествовали неразлучно. Сергею Александрычу нужно было в дороге развлечение: одному ездить скучно. Он рад был, что нашел в Григорье Алексеиче живого и умного собеседника; Григорий Алексеич, с своей стороны, был чрезвычайно доволен проехаться по чужим землям с роскошью и с удобством, о котором ему и во сне не грезилось.
Три года странствования прошли для Григорья Алексеича незаметно и быстро. Все в Европе в высшей степени интересовало его, и горячо сочувствовал он всем великим современным вопросам среди бурной и разнообразной парижской жизни. Кафе и театры, университет и цирки публичные суды, балы и гулянья, профессора и лоретки… все приводило его в экстаз, Григорий Алексеич влюблялся на каждом шагу. Мысль о святой и высокой любви, о которой он так прекрасно грезил в отечестве, – в Париже ни разу не пришла ему в голову.
И только на возвратном пути, приближаясь к отечественной границе, Григорий Алексеич начал немного приходить в себя и задумываться. Из двадцати тысяч его единственного достояния осталось у него тысяч девять, не более. Жить процентами с этого капитала не было возможности, надобно было опять приниматься за журнальную работу, но уже Григорий Алексеич без досады и горького смеха не мог вспомнить о своих литературных статьях, которые казались ему некогда образцами глубокомыслия. Он недоумевал, что ему предпринять и каким образом и на каком поприще, с его идеями и направлением, сделаться полезным отечеству и самому себе. Эта трудная задача приводила его в отчаяние – и потому он всячески старался отогнать от себя мысль о будущем. Но Сергей Александрыч, располагавший прямо из-за границы отправиться на лето к себе в деревню, стал звать его с собою.
Сергею Александрычу необходимо было в недрах патриархальной русской жизни отдохнуть от путевых впечатлений и, главное, поправить свои несколько расстроенные финансы…
Любезное предложение Сергея Александрыча было скоро и охотно принято Григорием Алексеичем, потому что оно избавляло его на время от труда об устройстве собственной участи.
Таким-то образом оба приятеля очутились в селе Благовещенском – куда и нам пора последовать за ними…
Глава V
Прибытие их привело в страшное волнение всех брюхатовских обывателей вообще и Агафью Васильевну в особенности. На широком и круглом лице ее выступили красные пятна, трехъярусный подбородок ее затрепетал и заколыхался, и левый глаз без бельма засверкал дико. С громом отворила она дверь в кабинет своего супруга. Ардальон Игнатьич почивал сладким сном. Агафья Васильевна растолкала его с трудом. Ардальон Игнатьич зевнул, потянулся и пробормотал сквозь сон:
– Ах, если бы теперь, душенька, стаканчик брусничной водицы выпить! – и зашевелил губами и языком.
– Вставайте же! – вскрикнула, задыхаясь, Агафья Васильевна, выведенная из терпения, – проснитесь, опомнитесь… скорее, скорее…
Ардальон Игнатьич, испуганный, вскочил с дивана, протирая глаза:
– Что такое, матушка? пожар?
Агафья Васильевна горько улыбнулась, обозрев супруга с ног до головы.
– Вы скоро совсем одуреете от сна. Что ж вы, очнулись наконец? Можете вы понимать-то, что вам будут говорить, или нет?
– А что такое?
– Что? Вы ничего не знаете и знать не хотите! Без меня вы пропали бы; я за вас должна входить во все: расправляться с людьми, смотреть за всем хозяйством, ездить в поля, бегать в анбары, терпеть оскорбление от какого-нибудь подлеца Брыкалова, – и вы хоть бы раз вступились за беззащитную женщину, за жену!.. Ну, да уж моих сил не станет, – я скоро все брошу, это я вам говорю в последний раз… Впрочем, теперь не в этом дело… Знаете ли вы, например, кто приехал сюда?
– К нам?
– Не беспокойтесь, не к нам. Кто станет ездить к нам? Вы не умели заслужить ничьей любви, ничьего уважения. Вас никто, ни посторонние, ни родные, в грош не ставят, – вы…
– Да кто приехал? к кому? – бормотал робко смущенный супруг, в недоумении почесывая свою лысину.
– Ваш родной племянник, Сергей Александрыч… Слышите ли вы? Сергей Александрыч? Он изволил прокатить сейчас мимо нашего дома и не удостоил даже взглянуть на наши окна. Теперь он у вашей милой и доброй сестрицы, у Олимпиады Игнатьевны… Видно, эта подлая притворщица чем-нибудь особенно умела заслужить его любовь и уважение, – заметьте, он к ней к первой является с визитом… Впрочем, и не мудрено… У нее в доме есть недурная приманка для молодых людей. Наташа девочка смазливенькая и к тому же умеет делать глазки… Что за беда, что двоюродный братец! Нынче все позволено. Двоюродные братья женятся же у немцев на двоюродных сестрах, а в Париже и на родных сестрах давно женятся. Он же ведь прямехонько из Парижа… Только слушайте, я заранее объявляю вам, Ардальон Игнатьич, если между вашим племянничком и племянницей заведутся какие-нибудь шашни, в чем я не сомневаюсь, – я пяти минут не остаюсь здесь. У меня три дочери невесты, девушки нравственно воспитанные, с благородными чувствами. Я не потерплю никакого скандала и, в случае крайности, сама все лично объясню губернатору и буду просить его защиты.
Агафья Васильевна так много наговорила ему, что Ардальон Игнатьич решительно стал в тупик. «Да что объяснять губернатору-то?» – подумал он.
– Ну что ж вы молчите? – вскрикнула Агафья Васильевна.
– Я… ничего, – отвечал Ардальон Игнатьич.
– Так вас не трогает, что ваш родной племянник пренебрегает вами, знать вас не хочет?
– Отчего? – спросил удивленный Ардальон Игнатьич. – Почему вы это знаете?
– Чтобы понять это, кажется, не нужно много иметь тут, – Агафья Васильевна ткнула себе в лоб, – вы старший в их роде – следовательно, к вам он должен питать особую аттенцию, должен почитать вас вместо отца, а он преспокойно проезжает мимо вашего дома, как мимо дома постороннего. Это явно показывает, что он и не заботится о вас.
– Да он еще будет.
– Вы мне жалки! Вы человек без амбиции!.. – вскрикнула Агафья Васильевна, всплеснув руками. – Вам ничего в голову не вобьешь. Неужели вы не понимаете, что он к вам к первому должен приехать? Коли вы сносите спокойно от всех афронты, – так я-то не могу и не хочу сносить их! Понимаете ли вы? я уж и без того слишком много терпела от ваших родных.
Произнеся это, Агафья Васильевна вышла из кабинета своего супруга, с гневом захлопнув дверь за собою. Ардальон Игнатьич в беспокойстве прошелся по комнате, заложив руки назад, и потом опустился в кресла, сказав самому себе:
– Жена права: ему бы, действительно, надо было мне первому сделать визит…
Между тем как Агафья Васильевна вела разговор с супругом, ее наперсница Стешка, весьма краснощекая и здоровая девка, прибежала на двор к Олимпиаде Игнатьевне, чтобы собрать поподробнее сведения о приезжих от Петровича, который за нею сильно ухаживал.
Стешка в тот же вечер все слышанное от Петровича передала барыне.
На другой день Сергей Александрыч явился к своему дядюшке. К совершенному изумлению доброго Ардальона Игнатьича, Агафья Васильевна, несмотря на резкий отзыв свой об Сергее Александрыче, приняла его с почетом и угощала на убой. Домашним вареньям, соленьям, настойкам, наливкам и водянкам не было конца. Старшая из дочерей Агафьи Васильевны, Любаша, по ее приказанию, после завтрака пропела перед братцем русский романс, а две меньшие – Икочка и Зиночка, протанцевали танец с шалью. Затем принесены были два ковра домашней фабрики и разостланы в гостиной. Один из этих ковров Агафья Васильевна подарила Сергею Александрычу и заметила со слезами, что она никого еще из родственников своих не любила, не уважала так, как его, потому что ей известны прекрасные и редкие качества души его… Прогостив трое суток в селе Брюхатове, Сергей Александрыч отправился к себе в Сергиевское.
Вскоре за тем, по его просьбе, переехала туда и Олимпиада Игнатьевна на все лето и со всем семейством, потому что дом ее, пришедший в ветхость, требовал значительных и немедленных поправок.
Слухи о приезде Сергея Александрыча быстро распространились по всей губернии. Толки о нем и его приятеле надолго заняли всех, не исключая самого начальника губернии. Все родственники Сергея Александрыча, близкие и дальние, даже и такие, которые по нескольку лет не выезжали из своих деревень, пришли в волнение. И допотопные колымаги и тарантасы различных форм и величин потянулись по дороге к Сергиевскому. Влияние Сергея Александрыча на родственников производило чудеса. К таким чудесам относилось, между прочим, примирение Агафьи Васильевны и Ардальона Игнатьича с Олимпиадой Игнатьевной.
Олимпиада Игнатьевна упала на шею к братцу с раздирающим завыванием и стоном. Братец хлопал глазами и всхлипывал. Агафья Васильевна кричала:
– Ох, умираю, умираю, пособите, родные! – и хлопнулась в кресла…
Дочери ее бросились к ней с визгом.
– Уксусу! уксусу! – раздавалось со всех сторон. Олимпиада Игнатьевна долго завывала без слов, Ардальон Игнатьич долго молчал, всхлипывая и хлопая глазами. Наконец Олимпиада Игнатьевна произнесла слабым голосом, с расстановками и вздохами:
– Батюшка-братец, голубчик ты мой, ты знаешь, как я всегда любила тебя… Родственные чувства были внушаемы нам с детства… Наше семейство особенно гордилось этим… Его ставили в пример другим… И я, видит бог, никогда не изменялась к тебе, я не могла тебя разлюбить, несмотря на всё…
– Сестрица, – говорил Ардальон Игнатьич, заикаясь от волнения, – сестрица, я чувствую… мне больно было… я вас всею душою уважаю, забудемте все, сестрица.
– Я давно все забыла, не поминай о прошедшем, голубчик, – сказала Олимпиада Игнатьевна, нежно целуя братца, – я тебя люблю так, как, может быть, тебя никто не любит.
«А! это камешек в мой огород! – подумала Агафья Васильевна, нюхая уксус, который старшая дочь держала у ней под носом, – хорошо же, голубушка, уж коли дело пошло на это, так я тебя забросаю грязью и каменьями».
Агафья Васильевна во время обморока не пропустила мимо ушей ни одного слова Олимпиады Игнатьевны.
Открыв глаза, она начала озираться кругом себя и спросила слабым голосом: «Где я и что со мною?» – потом, найдя нужным совсем прийти в себя, привстала с кресел, опираясь на ручки, и посмотрела на Олимпиаду Игнатьевну. При этом Олимпиада Игнатьевна, несмотря на горячие родственные объяснения с братцем, все время не выпускавшая из виду Агафьи Васильевны, – также привстала и посмотрела на нее. Обе они в одно время сделали шаг вперед.
– Сестрица! – простонала Олимпиада Игнатьевна.
– Сестрица! – проговорила Агафья Васильевна со вздохом.
Обе растопырили руки для объятий и, сойдясь, взвизгнули в одно время.
Ардальон Игнатьич, смотря на эту картину, не выдержал – и зарыдал.
Примирясь с Олимпиадой Игнатьевной, Агафья Васильевна осталась на несколько времени гостить в Сергиевском.
Она, по-видимому, была от всего в восторге, и в особенности от Григорья Алексеича.
– Ах, родной вы мой! я не могу налюбоваться на вашего приятеля, – сказала она однажды Сергею Александрычу, – этакого милого, этакого приятного, обходительного, кроткого и скромного молодого человека я еще не встречала. Точно красная девушка; смотреть на него любо.
И вслед за тем она бросила нежный взор на Григорья Алексеича, который играл в это время на китайском бильярде с Любашею…
Петруша «упивался поэзиею верховой езды», как он сам выражался, то есть, говоря просто, ездил верхом на двадцатилетнем коне, который едва передвигал ноги.
Наташа была гораздо бойчее своего братца. Она страстно любила верховую езду и управляла лошадью смело и ловко. Кавалькады устраивались довольно часто. Все были довольны и веселы. Только кавалькады начинали несколько расстроивать Агафью Васильевну.
– Я не надивлюсь вам, Олимпиада Игнатьевна, – говорила она, – как это вы позволяете дочери вашей ездить верхом. Долго ли до беды?.. Это уж совсем, кажется, не женское дело. Откуда она, матушка, набралась у вас такой смелости?.. Мои не таковы! Они у меня всего боятся, от всего краснеют, – такие глупые. Я уж их частенько браню за это и всегда ставлю в пример вашу Наташу.
Присутствие Наташи нарушало спокойствие духа Агафьи Васильевны. Она во все время пребывания в Сергиевском постоянно язвила ее насмешками, преследовала наблюдениями и употребляла всевозможные меры, чтобы не допускать до нее Григорья Алексеича.
Когда вечером все собирались в кружок, Агафья Васильевна непременно садилась возле него и заливалась соловьем: о испорченности нынешних нравов, о дурном воспитании девиц и о тому подобном; мимоходом замечала, что ее дочери воспитаны в страхе божием, и обращала внимание его (разумеется, косвенно) – на удивительную тонкость талии и поразительную белизну тела у Любаши. Она подзывала Любашу к себе, делала ей какое-нибудь замечание и в это время поправляла ей, например, бантик на груди или кушачок, перетягивавший ее талию, – или что-нибудь подобное.
Григорий Алексеич не знал, куда деваться от внимательности Агафьи Васильевны. Она и вообще все родные Сергея Александрыча выводили его из терпенья. Он проклинал и ее, и дочерей ее, и Петрушу, который надоедал ему своей поэзией и своими глубокими взглядами. Одна только Наташа примиряла его с окружавшим. Наташа затронула его любопытство отсутствием всякой манерности, своею безыскусственностью, живостью и светлым, откровенным выражением лица. С каждым днем открывал он в ней какие-нибудь новые достоинства: поэтическую влажность в глазах, особенную привлекательность в улыбке, чистоту души в простосердечном звонком смехе и так далее. «Неужели, – думал он, – эта девушка должна заглохнуть без любви и без мысли среди жизни, ее окружающей, никем не замеченная, никем не оцененная? Что суждено ей: преждевременно умереть от чахотки или расплыться, отупеть и превратиться в толстую и неуклюжую барыню?»
Наташа начинала не на шутку возбуждать его участие. «Ей необходим человек, – думал он, – который бы понял ее, который бы способствовал ее развитию, который бы пересоздал ее».
Что же касается до хозяина дома, то он в своем Сергиевском, среди своих гостей – родственников и усердной челяди, чувствовал себя чуть ли не лучше, чем в Лондоне, в Париже, в Петербурге или где бы то ни было.
Родственники смешили его, и он с большим юмором передавал Григорью Алексеичу свои разговоры с ними и различные анекдоты об них.
Над Наташей он смеялся так же, как и над другими, впрочем, отдавал ей справедливость в том, что она довольно ловка и ездит верхом недурно, и замечал, что из нее, вероятно, могло бы выйти что-нибудь порядочное, если бы ей дано было хорошее воспитание.
Глава VI
Первые дни пребывания своего в Сергиевском Наташа испытала много разнообразных ощущений, каких еще не случалось испытывать ей. Перемена места, новые лица, шум, движение, к которому она не привыкла, роскошь, о которой не имела понятия, – все это сильно на нее подействовало. К тому же Олимпиада Игнатьевна, занятая родственниками и гостями своего племянника, не имела времени заниматься ею – и Наташа чувствовала себя свободною. Ей сделалось легко и весело, как никогда не бывало, и она предалась свободе с увлечением. Ей казалось, что на всем земном шаре не могло быть места лучше и живописнее Сергиевского…
И в самом деле, Сергиевское живописно. Оно расположено на гористом месте, в полуторе версте от Волги. Старинный большой двухэтажный каменный дом с бельведером, окруженный флигелями, и пятиглавая церковь стоят у ската горы. Внизу перед домом поемные луга со стогами сена, с молодыми рощами и кустарником, сквозь который местами блещут полосы воды. Луга эти тянутся вплоть до самой Волги – и картина замыкается ее утесистым и крутым берегом, на вершине которого виднеются подвижные точки ветряных мельниц. Весною, при разливе Волги, Сергиевское становится еще живописнее: вода, затопляя луга, доходит до самой подошвы горы, на которой стоят дом и церковь, и на этом огромном водяном пространстве образуются голые песчаные острова, выходят из воды круглые заленеющие вершины деревьев или высовываются засохшие ветви кустарника и мелькают белые паруса расшив и барок. Вправо за домом сад и роща, носящая до сих пор название зверинца, хотя ныне этот зверинец служит приютом одним только робким белкам и зайцам. Часть сада расположена в старинном, классическом вкусе, но его прямые и длинные липовые аллеи, некогда тщательно подстригавшиеся, теперь разрослись на воле. Дорожки сада в отдаленных от дома местах совсем заглохли; храмы Славы и китайские павильоны развалились и обросли крапивой и репейником; мостики, перекинутые через овраги и ручьи, еле держатся от гнилости, поверхность прудов подернулась зеленью и цветами болотных лилий, – но этот сад сделался еще гораздо лучше в своем запустении.
Наташе все нравилось в Сергиевском: этот полузаглохший сад, густая разросшаяся роща с живописными тропинками и оврагами, с сочною растительностию, с вековыми дубами; горы, освещенные солнцем; поемные луга с душистыми стогами и синеющая вдали Волга. Красота природы имела на нее сильное влияние, и потому она не чувствовала ни малейшей привязанности к месту своего рождения – к плоскому и болотистому селу Брюхатову, где ничего не было перед глазами, кроме изб, вросших в землю, да куч сгнившей соломы среди необозримой глади.
Григорий Алексеич, также любивший природу, часто сопутствовал Наташе в ее прогулках.
Агафья Васильевна отправилась восвояси не совсем в приятном расположении духа. Выехав за околицу села Сергиевского, она завела с своею Любашею весьма горячий разговор, который был заключен следующею энергическою речью:
– Я, сударыня, знать ничего не хочу… Что, ты думаешь, что женихи вот так сами, без всякой приманки, и побегут к тебе? как же, дожидайся. Ты никого не умеешь заинтересовать собой, никого… это правда, что за мной в твои лета мужчины стадами бегали, ну да это потому, что я умела привлечь их к себе! Впрочем, уж как ты там хочешь, а нынешний год должна будешь сыскать себе жениха. Я тебе не позволю век в девках сидеть и торчать перед моими глазами… Вон посмотри на Наташу, – это, правда, что уж в ней никакого пути нет и гадкая нравственность, – да зато, матушка, глазками да ласками возьмет свое и, к стыду моему, прежде тебя выйдет замуж. Видела ли ты, что к ней и Сергей Александрыч и Григорий Алексеич так и льнут, а ты между тем, как дура, все время сидела оплеванная…
Агафья Васильевна говорила вздор. Наташа никогда не употребляла никаких стараний привлекать к себе и вовсе не умела ласкаться и делать глазки. С Сергеем Александрычем обращалась она как с родным – свободно и просто. Не любить братца ей казалось невозможным, потому что с самой колыбели ежедневно все толковали ей о родственной любви, и она, совсем еще не зная Сергея Александрыча, поставляла уже себе за долг любить его. А присутствие нового, незнакомого ей лица производило на нее сначала даже тяжелое впечатление. С Григорьем Алексеичем первые дни обращалась она совершенно как степная, деревенская барышня: едва отвечала на его вопросы, и то не глядя ему в лицо.
Но робость, которую она ощущала в присутствии Григорья Алексеича, была побеждена в ней скоро его тихим, льющимся в душу голосом, его мягким, кротким и задумчивым выражением лица. В звуках его голоса слышалось Наташе, так по крайней мере думала она, что-то родное, что-то давно знакомое. Его взгляд пробуждал в ней любопытство и участие к нему. «Он, верно, испытал много несчастий, – думала она, – он, верно, много страдал!» Наташа сравнивала его с братцем, и Григорий Алексеич еще более выигрывал в глазах ее от этого сравнения. Она начинала чувствовать к нему несравненно большую симпатию, чем к Сергею Александрычу, и сама не понимала, как это случилось. Ей даже приходила в голову мысль, что, если б Григорий Алексеич был ее братцем?
Сергей Александрыч смущал Наташу своим слишком смелым взглядом и постоянно насмешливым выражением, а барышни, особенно деревенские, очень боятся насмешек. Сергей Александрыч никогда и ни о чем не говорил с ней серьезно, это оскорбляло ее самолюбие; он часто как-то странно посматривал на нее и пожимал ей руку с каким-то особенным выражением. Это пожиманье руки всегда производило неприятное впечатление на Наташу и заставляло ее краснеть. Наташа никак не подозревала, что она сама подала невольный повод братцу к этим странным пожатиям и взглядам. Дело в том, что Сергей Александрыч был вообще не слишком высокого мнения о женской добродетели и имел слабость (может быть, очень простительную) думать, что никакая женщина не в состоянии устоять против него. Эта мысль сильно укоренилась в нем – и он был даже искренно убежден в том, что и лоретка, с которою он жил в Париже, чувствовала привязанность собственно к нему, а не к его деньгам. Совершенно случайная встреча с Наташею в коридоре и вопросы ее о браслете в первый день приезда его к тетушке, истолкованные им не совсем по-родственному, подали ему повод слегка приволакиваться за нею, впрочем, вероятно, без цели, а так, для развлечения…
Любовь, которая начинала пробуждаться в Наташе к Григорью Алексеичу, ставила ее, впрочем, совершенно вне всякой опасности в отношении к Сергею Александрычу. Сближение Наташи с Григорьем Алексеичем делалось быстро. Григорий Алексеич был необыкновенно внимателен к ней. Он выбирал ей книги для чтения, иногда переводил для нее самые занимательные страницы, объяснял ей темные и непонятные для нее места и сам читал ей по вечерам Руссо, под влиянием которого находился в эту эпоху.
Олимпиада Игнатьевна, к удовольствию Наташи, была, по-видимому, очень расположена к Григорью Алексеичу и нисколько не думала препятствовать ни этим чтениям, ни ее разговорам с ним, однако же не выпускала из виду и наблюдала за ней с материнскою внимательностию. Под руководством Григорья Алексеича Наташа оказала замечательные успехи во французском языке и скоро стала понимать французские книги без всякого затруднения. Взгляд ее, что нисколько не удивительно, постоянно становился яснее. Любовь просветляла ее мысли и облегчала ее понимание. Каждый день Григорий Алексеич открывал для нее что-нибудь новое. С каждым днем он незаметно способствовал ее развитию. Это были самые светлые, самые счастливые минуты в жизни Наташи. Григорий Алексеич блаженствовал, любуясь успехами своей ученицы.
Он не сомневался в том, что она любит его, и для этого, конечно, не нужно ему было иметь большой проницательности. Наташа так изменилась в короткое время, что даже строгий и смотревший на все с высшей точки зрения Петруша глубокомысленно заметил однажды, что «натура ее не такая дюжинная, как он думал прежде, что она начинает прозревать, вступает в момент сознания» и что-то еще в этом роде.
Даже и лицо Наташи приняло другой характер, более серьезный. Присутствие любви обнаружилось во всем существе ее. Такая перемена в Наташе не укрылась, между прочим, и от наблюдательности Олимпиады Игнатьевны…
Однажды Сергей Александрыч, лежавший на диване и куривший сигару, вдруг обратился к Григорью Алексеичу… В комнате никого не было.
– А что, ты влюблен в Наташу? признайся.
Этот неожиданный вопрос застал Григорья Алексеича врасплох.
– Что-о? – произнес протяжно Григорий Алексеич.
– Я говорю, что ты влюблен в Наташу, – продолжал Сергей Александрыч, потягиваясь на диване.
– Какой вздор! кто это тебе сказал? – Григорий Алексеич несколько принужденно засмеялся, схватил со стола какую-то книгу и начал перелистывать ее.
– Будто вздор? – продолжал Сергей Александрыч… – Отчего ж? В Наташу можно влюбиться, если еще чувствуешь в себе способность влюбляться! Она хорошенькая… У нее глаза недурны, рука хороша… За тебя отдадут Наташу с радостию, – и мне будет очень приятно иметь тебя родственником. Маменька ее серьезно уже поговаривает о том, что ее пора пристроить, и умильно поглядывает на тебя. Хочешь, я буду твоим сватом?
Григорий Алексеич швырнул на стол книгу, которую перелистывал, вскочил со стула и побледнел.
– Твои шутки совсем не остроумны… – произнес он сквозь зубы.
Сергей Александрыч внутренне улыбнулся.
– Если тебе не нравится мой разговор, я, пожалуй, замолчу… Но послушай… (Сергей Александрыч совершенно переменил тон и привстал на диване.) Наташа в самом деле девушка добрая, – но знаешь ли, я думаю, что ты, – разумеется нехотя, но делаешь ей много вреда. Ты насильно вырвешь ее из ее сферы, раздражишь ее воображение разными поэтическими бреднями, с трагическим ужасом укажешь ей на безобразие деревенской жизни, а потом преспокойно раскланяешься и уедешь в Петербург.
– Никогда! Никогда! – вскрикнул гордо Григорий Алексеич, вскочив со стула.
– Так, стало быть, ты хочешь на ней жениться? Григорий Алексеич болезненно вздрогнул при этом вопросе и в бессильном страдании опустился на стул.
– Ты вообще противоречишь себе, – продолжал Сергей Александрыч, – кричишь против идеализма, преследуешь романтиков, которые тебе везде мерещатся, даже и здесь, в селе Куроедове, которое в честь мою названо теперь Сергиевским, а сам вечно бродишь в идеалах; проповедуешь о необходимости ясного, практического взгляда на жизнь, а смотришь на нее бог знает как и хочешь переделать ее по нелепым фантазиям разных сумасбродов. По-моему, тот только понимает практическую жизнь, кто умеет пользоваться ею. Что за охота вечно страдать в настоящем, бесполезно мечтая о каком-то лучшем будущем? Ты на все смотришь мрачно, даже на Агафью Васильевну; тебя возмущает даже Васька – мой приказчик, потому что он кланяется мне до земли и не смеет мигнуть в моем присутствии… Все это, конечно, глупо и нелепо, но смешно и забавно. Все это существует, следовательно, должно существовать. И поверь мне, эта же самая Наташа, которую ты хочешь теперь возвышать, развивать и для которой, верно, скоро не будет на земле достойных идеалов, – без всякой церемонии вышла бы замуж за какого-нибудь толстого и глупого Федота Карпыча, рожала бы, как и все, каждый год детей, солила бы грибы, варила варенье, угощала бы гостей наливками своей стряпни, называла бы своего Федота Карпыча душкой, или Пульпультиком, как у Гоголя, или как-нибудь в новом роде и была бы в своем милом неведении очень довольна, спокойна и счастлива, – а может быть, Федот Карпыч в первые же месяцы после бракосочетания надоел бы ей и опротивел – и это могло бы очень случиться…
– Полно!.. – закричал Григорий Алексеич, – это несносно, ты имеешь дар осквернять все хорошее. В этом я не сомневался…
И с этими словами он вышел из комнаты.
Сергей Александрыч спокойно проводил его глазами, закурил другую сигару и, протянувшись с наслаждением на диване, подумал:
«Кажется, добрый и умный малый, а чудак!»









































