Текст книги "Родственники"
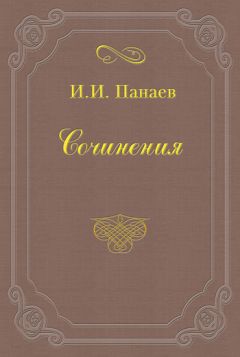
Автор книги: Иван Панаев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Глава VII
После разговора Сергея Александрыча у Григория Алексеича пропал сон и аппетит, лицо осунулось, глаза впали – и он несколько дней одиноко и мрачно бродил в саду и в роще, стараясь избегать всех, и в особенности Наташи. «Я люблю ее, – думал он, – но чем же, в самом деле, должна кончиться эта любовь? – браком?» И при этом вопросе, который до разговора с Сергеем Александрычем не приходил ему в голову, дрожь пробежала по его телу… «Браком! – повторял он, – браком!» – в волнении взад и вперед прохаживаясь по аллее сада. Тихие, безмятежные картины брачной жизни, которыми некогда восхищался он, в эту минуту ему не являлись более. Напротив, как нарочно, вся прозаическая сторона этой жизни выступила перед ним во всей наготе: домашние хлопоты и тревоги, раздирающий уши крик детей, неизбежное охлаждение к жене, ее слезы и вздохи, его тоска и отчаяние и прочее. Григорий Алексеич был убежден, что безумно связывать себя вечным обетом, добровольно лишать себя свободы. «Но что же мне делать? – спрашивал он сам себя, – бежать отсюда? запереться в самом себе, обречь себя на одиночество и влачиться по свету без надежд и без цели! И куда бежать?» Мысль об одиночестве показалась ему еще страшней мысли о браке. «Нет, – подумал он, – я не создан для одинокой, эгоистической жизни, мне необходимо иметь возле себя существо любящее, близкое, родное по духу, с которым бы я делил и чувства, и мысли, и горе, и радости! К чему мне моя постылая свобода?»
И Григорий Алексеич, колеблемый этими мыслями, то решался объясниться с Наташей и ее матерью – и разом кончить все, то хотел уехать из Сергиевского. Иногда, минутами, казалось ему, что он вовсе не любит Наташу, что он просто увлекся ею, что между ними не существует настоящей симпатии, что в ней нет достаточной теплоты, что она больше все понимает головой, чем сердцем, – и мало ли чего не казалось ему? Несколько раз в день менял он свои мысли и взгляды и часто совсем упадал духом в горьком сомнении и нерешительности.
В таком мрачном расположении духа забрел он однажды вечером (это было уже в половине июля) в самую отдаленную и заглохшую часть сада и, утомленный более мыслями, чем ходьбою, бросился на траву между кустами орешника, спускавшегося у самых ног его в глубокий овраг, на дне которого между камнями лениво пробивался ручей с глухим журчаньем. На другом берегу оврага была роща. Впереди и кругом Григорья Алексеича все было дико и мрачно. Сквозь плотную, густую массу зелени, окружавшую его, не мог проскользнуть луч солнечный. «Нет, – думал Григорий Алексеич, – нет, я напрасно обвиняю ее в неспособности любить: у нее глубокое, любящее сердце; чем более я наблюдаю ее, тем более вижу, что она может любить с увлечением, с страстию…
Это широкая, избранная натура, которой доступно и понятно все… И я сомневался в ней! Какая глупость! Теплоты недостает не в ней, а во мне, – и Григорий Алексеич при этом бил себя в грудь… – Сердце мое с каждым днем черствеет более и более; никогда не испытав любви, я уже сознаю в себе неспособность любить так, как бы следовало, а бывают, впрочем, минуты, в которые мне еще кажется, что я могу любить со всем жаром и полнотою молодости; но это обман, ложь! я никогда не буду в состоянии удовлетворить ее любви, для чего же напрасно смущать ее покой? Я решительно не стою ее! Мне следует быть с ней как можно холоднее, как можно осторожнее. Но это опять глупость! я не выдержу… Нет, мне просто нельзя оставаться здесь ни одной минуты, я должен бежать отсюда куда-нибудь, все равно, только как можно далее; каждая минута замедления будет с моей стороны преступною слабостию…»
Но как будто это так легко?
Он задумался и через минуту произнес почти вслух:
– Кончено. Сегодня же еду! – и очень решительно побежал по тропинке.
Тропинка эта привела его на довольно открытое место. Тут он приостановился и вздохнул свободнее. Зеленые стены леса и его сумрак душили его, ему необходимы были в эту минуту свет и пространство.
«Я посмотрю в последний раз, – думал он, – на эти луга, на Волгу; в последний раз, потому что я никогда уже не ворочусь сюда».
И, подумав это, Григорий Алексеич: пошел более покойным и ровным шагом.
Подходя к самому скату горы, с которой виднелась Волга, Григорий Алексеич вдруг вздрогнул и как бы прирос к земле.
В десяти шагах от него сидела на скамейке Наташа.
На ней было белое платье. Черные волосы ее локонами спускались до груди… Все вокруг нее и вся она облита была розовым отблеском догорающей вечерней зари. Воздух дышал благоуханною свежестью. Все было тихо, вершины деревьев чуть колебались. Григорий Алексеич долго стоял не шевелясь и едва переводя дыхание. Наташа была очень хороша. Он смотрел на нее долго и благоговейно и потом робко подошел к ней.
Наташа обернулась, когда он стоял в двух шагах от нее.
– Ах, это вы! – сказала она.
Григорий Алексеич молчал, опустив голову на грудь.
– Какой прекрасный вечер, – заметила Наташа. – А где вы были? Верно, в роще?
– Да, в роще… нет, впрочем, я ходил в саду, – отвечал Григорий Алексеич, – а вы давно здесь сидите?
– Это моя любимая скамейка, – сказала Наташа, – я здесь часто сижу. Отсюда чудный вид.
– В самом деле, хороший вид. Мне это место также нравится… но я, может быть, помешал вам… может быть, вы хотите быть одни?
– Нисколько, – отвечала Наташа.
– Так вы мне позволите сесть возле вас?
– Садитесь.
Григорий Алексеич сел на скамейку. Они несколько минут молчали.
– Вам, верно, надоела деревня? – сказала первая Наташа, – вы не привыкли к ней – вы день ото дня становитесь скучнее.
– Вы замечаете это? – возразил Григорий Алексеич.
– Да. Что ж, это вам кажется странным? И не я одна, и другие замечают это.
– Что мне за дело до других?
Наташа посмотрела на него с недоумением.
– Скажите, отчего вы так посмотрели на меня? – спросил Григорий Алексеич.
– Так… – Наташа несколько смешалась. – Ну, признайтесь, ведь вам скучно здесь?
– А отчего же вы думаете, что в другом месте мне было бы веселее? Напротив, я люблю деревню. Деревенская жизнь для меня не так чужда, как вы думаете, потому что я постоянно до девятнадцати лет жил в деревне. Здесь мне и весело и грустно… Но мне иногда кажется, что нет человека в мире счастливее меня, иногда я думаю, что я самый несчастный из людей…
Григорий Алексеич сам не знал, что говорил, он оторвал ветку от куста и бросил ее. Он хотел еще что-то сказать – и остановился.
Сердце Наташи замерло. Она предчувствовала что-то необыкновенное.
– Послушайте, – сказал Григорий Алексеич, – мне давно хотелось говорить с вами; вы простите меня, если я говорю нескладно… У меня нет более сил скрывать от вас… Рано или поздно вы бы должны были узнать это…
Григорий Алексеич вдруг схватил руку Наташи. У Наташи потемнело в глазах, рука ее задрожала…
– Выслушайте меня – пожалуйста… я должен сказать вам – я люблю вас…
Легкий, едва слышный звук вырвался из груди Наташи, и слезы потоком хлынули из ее глаз.
– Я еще никого не любил в жизни… я люблю в первый раз, – продолжал он с возрастающим жаром и смелостию, – еще за полчаса перед этим я упрекал себя в холодности и неспособности любить, мне казалось… но теперь мне ясно, я не понимал самого себя, теперь я чувствую, как горячо и сильно я люблю… без вас для меня нет ничего в жизни.
Наташа сидела недвижно. Слезы крупными каплями продолжали падать на ее грудь.
Она не верила тому, что слышала; до сей минуты ей казалось почти невозможным, чтобы он мог полюбить ее, – он, по ее мнению, достойный любви первой, лучшей женщины в мире!
– Скажите же мне что-нибудь… взгляните на меня!.. Наташа подняла голову, улыбнулась сквозь слезы и пожала его руку…
– Только одно слово! – повторял Григорий Алексеич.
Наташа хотела сказать это слово, но разгоревшееся лицо ее вдруг побледнело.
В эту минуту ей послышался шорох в густых кустах сзади скамейки…
Глава VIII
Часа через два после этого Олимпиада Игнатьевна, Наташа, Петруша, Григорий Алексеич и Сергей Александрыч сидели все вместе в гостиной в ожидании ужина. Наташа была несколько рассеяннее обыкновенного и как-то все невпопад отвечала на вопросы Сергея Александрыча. Григорий Алексеич, напротив, был в самом приятном и веселом расположении духа и даже очень одобрительно улыбался, слушая Петрушу, декламировавшего ему свои новые стихи.
Олимпиада Игнатьевна раскладывала гранпасьянс, вздыхала, охала и изредка поглядывала на дочь с заботливым беспокойством… Месяц прямо смотрел в широкое окно, обливая комнату своим бледным светом и бросая длинные и серебряные полосы на пол. От времени до времени слышался в комнате доносившийся издалека однообразный и мерный стук ночного сторожа.
Олимпиада Игнатьевна оставила карты и обратилась к дочери.
– Что с тобой, Наташа, что ты, нездорова, что ли?
И она приложила руку к ее голове.
– У тебя в лице нет кровинки, а голова такая горячая!.. За тобой надо смотреть, как за ребенком. По вечерам теперь сырость такая, а ты ходишь в саду в одном тоненьком платьице. Того и гляди, схватишь лихорадку.
– Я ничего, – отвечала Наташа, – у меня так только, немного болит голова. Это пройдет.
– То-то пройдет, – ворчала Олимпиада Игнатьевна. – Поди-ка ты спать, напейся на ночь малины да закутайся хорошенько; это будет лучше.
Наташа в ту же минуту встала и подошла к маменькиной ручке. Олимпиада Игнатьевна перекрестила ее и поцеловала в лоб.
Сергей Александрыч посмотрел на Наташу с улыбкою и пожал ей руку. Григорий Алексеич молча поклонился ей; и когда она вышла, Петруша отправился вслед за нею.
– Я провожу тебя до твоей комнаты, – сказал он ей.
– Спасибо. Зачем же? Я могу дойти и одна, – отвечала Наташа.
– Мне хочется поговорить с тобою, сестра, – произнес Петруша таинственно.
– О чем? – спросила Наташа, вздрагивая, – пожалуй, когда-нибудь после, только не теперь, Я в самом деле не очень здорова.
Петруша нахмурился.
– Послушай, Наташа… – голос Петруши делался все таинственнее, – никогда еще я не чувствовал в себе такой сильной потребности говорить с тобой. Теперь я, может быть, выскажу тебе то, что другой раз мне не удастся высказать. Ты знаешь, что у меня минуты откровения не часты.
Наташа ничего не отвечала.
Войдя в свою комнату, она обратилась к Петруше, который все следовал за нею:
– Тебя, верно, братец, ждут ужинать.
– Я не хочу ужинать, – отвечал Петруша, располагаясь на диване.
– А маменька-то? Она будет беспокоиться… ты ведь знаешь ее… ей бог знает что придет в голову… Она подумает, что и ты нездоров.
– Оставь ее; пусть думает себе, что хочет…
– Поди скажи, чтобы меня не ждали ужинать, – сказал он, обращаясь к горничной, которая ставила на стол свечу.
Когда горничная ушла, Петруша подошел к Наташе, с чувством посмотрел на нее и крепко пожал ее руку.
– Я понимаю тебя, Наташа, – произнес он значительно, – от меня ты не должна ничего скрывать… Верь мне, я могу быть твоим другом; ты можешь смело высказать мне все, что лежит у тебя на сердце… тебе известен мой образ мыслей.
– Что такое? что ты хочешь сказать? – спросила Наташа.
– Неужели ты думаешь, – продолжал Петруша, – что от меня могла ускользнуть перемена, которая произошла в тебе с некоторого времени? Неужели ты воображаешь, что я не понимаю сердца женщины? От меня ты не утаишь ничего. Не бойся. Я, может быть, объясню тебе многое, что еще ты сама не ясно сознаешь в себе… Послушай, Наташа, я еще до сих пор в жизни не встречал женщины, родственной мне по духу, и, может быть, никогда не встречу. Что ожидает меня в будущем? Капля радостей и море страданий! У меня натура артистическая, субъективная, а такого рода натуры не могут быть счастливы в настоящем обществе! Они находят удовлетворение только в самих себе… Знаешь ли ты, что возможность любви, горячей, беспредельной, лежит у меня здесь в зародыше?
Петруша ударил себя в грудь.
– Много чувств и мыслей безвыходно замкнуты в этой груди. Меня считают сухим и холодным. Наружность моя, точно, такова, но наружность обманчива, сестра… Внутренний огонь пожирает меня! Родись я не здесь, среди этого пошлого, бессмысленного, апатического общества, я мог бы сделать многое, я не бесполезно прошел бы жизненное поприще; но здесь, сестра, здесь нет пищи для моей деятельности! Кому здесь понять меня? В глазах старого, отжившего поколения я не более как сумасбродный мальчишка, нахватавший самых вредных идей; но меня не понимают многие и из молодого поколения, и те, которые считают себя развитыми, которые трактуют о современных вопросах. А это нестерпимо. Например, Сергей Александрыч, – он обращается со мной совершенно как с ребенком и глядит на меня с высоты величия. Он воображает, что стоит наряду с веком, потому что был в Париже и в Лондоне, а между тем это человек отсталый; у него душа дряблая, старческая, неспособная сочувствовать, и какой пошлый взгляд на жизнь! Искусство, поэзия для него не существуют, тонкие поэтические черты для него решительно неуловимы…
Петруша вскочил со стула и начал прохаживаться по комнате.
Наташа, заметно встревоженная началом разговора Петруши, почти не слыхала последних слов его. Мысли ее заняты были совершенно другим.
Петруша остановился перед нею.
– Знаешь ли, – продолжал он, – если кто-нибудь немного может понимать меня, так это разве Григорий Алексеич… по крайней мере мне так кажется.
Наташа не приобрела еще искусства владеть собою. Лицо ее вдруг изменилось при этом имени, и она с любопытством взглянула на брата.
– У Григорья Алексеича сердце теплое: поэтическая сторона жизни доступна ему, но, кажется, и в нем начинает остывать юношеский пыл, энергия убеждения, и он начинает расходиться с новым поколением. А это жаль, очень жаль! Он тоже воображает, что знание жизни приобретается только одним опытом… старческая, пошлая мысль!.. но я все-таки уважаю этого человека и всегда охотно протягиваю ему руку. В нем есть хорошие стороны. Это один из немногих людей, которые в случае нужды могут быть полезны… Ах, жизнь, жизнь!.. не многим дается ее светлое понимание… Да!.. а люди не легко и не вдруг познаются!.. А я, однако, с первого раза умел оценить Григория Алексеича… Ему я даже обязан тем, что узнал тебя.
– Как это? – спросила Наташа.
– Без него я не подозревал бы того, что ты способна к развитию, к воспринятию высших идей. С тех пор как он здесь, ты сделала огромный шаг. Ты многим обязана Григорью Алексеичу.
Петруша взял снова руку сестры и еще крепче прежнего пожал ее.
– Ты любишь его, Наташа! признайся мне. Я вижу все – и должен сказать тебе… эта любовь радует меня, потому… потому что она совершенно разумна.
Наташа молчала. Она не могла произнести ни одного слова, если бы и хотела отвечать на вопрос Петруши. Грудь ее тяжело и неровно дышала, а сердце болезненно билось.
– Признайся мне как другу, как духовному брату, – говорил неотвязчивый Петруша с экстазом, – о, я свято сохраню твою тайну, я не оскорблю деликатность твоего чувства; я не захочу нагло ворваться в святилище твоего сердца для того, чтобы напрасно возмущать его… Ты любишь Григорья Алексеича? скажи мне.
– Да, да, – прошептала Наташа, задыхаясь и закрывая лицо руками…
Долго оставалась она в таком положении. Петруша смотрел на нее, скрестив руки на груди и усиливаясь как можно более придать значения и важности своей физиономии, и когда Наташа открыла лицо и решилась взглянуть на брата, он обнял ее и потом как-то вдохновенно начал поводить глазами.
– С этой минуты я твой, сестра, – произнес он дрожащим голосом, – в эту минуту мы породнились с тобой духовно. Располагай мной… Если матушка, почему бы то ни было, вздумает препятствовать вашему соединению или станет притеснять тебя, она в одно время лишится и сына и дочери!.. Это будет для нее нравственною казнию; никто, может быть, не подозревает здесь, на что я способен в крайних случаях!.. Нам надо действовать смело, прямо… О, как весело вступать в открытую борьбу с предрассудками и невежеством! Сердце замирает от восторга при этой мысли.
Петруша продолжал говорить о Григорье Алексеиче, о маменьке, о будущей участи человечества, об освобождении женщины, о мировой любви, о самом себе и о своих стихотворениях.
Когда он все высказал, простился с сестрою и уже отворил дверь, чтобы выйти из ее комнаты, Наташа бросилась к нему и остановила его на минуту.
– Послушай, братец, – произнесла она, крепко и судорожно сжимая его руку, – то, что я сказала тебе, останется между нами… бога ради! Я прошу тебя…
– И ты еще можешь сомневаться во мне, – перебил Петруша оскорбленным тоном, – после всего, что я говорил тебе? Я открыл тебе всю мою душу, все мои верования и убеждения. Стало быть, ты не поняла меня?
– О нет, нет! – вскрикнула Наташа со слезами на глазах, – прости меня… я уверена в тебе…
Дня через три после этого Петруша написал стихи к Наташе, в которых он подтверждал между прочим, что «в его груди, как в могиле, навеки замрет ее святая тайна». Но он не выдержал и прочел эти стихи Сергею Александрычу. Сергей Александрыч похвалил их; Петруша смягчился и, разнеженный этою похвалою, внутренно примирился с ним на эту минуту и, сам не чувствуя как, передал ему от слова до слова весь разговор свой с Наташей.
Между тем слухи о любви Наташи к Григорью Алексеичу с различными прибавлениями и преувеличениями распространялись быстро в родственном кругу и, переходя из уезда в уезд, сделались самою интересною новостию в губернии и для посторонних.
Толки эти были очень забавны и разнообразны. И кому бы пришло в голову, что первая, пустившая эти толки, одушевившие всю губернию, была Стешка, горничная Агафьи Васильевны? Агафья Васильевна, нередко посещавшая Сергиевское, с каждым приездом своим убеждалась, что на сбыт Любаши плоха надежда, что Григорий Алексеич, «не соблюдая никакого приличия и благопристойности, так и подлипает к Наташе», и заключила из этого, что он должен быть самый беспутный человек. Агафья Васильевна затаила злобу свою до времени и начала наблюдать за ними исподтишка посредством своих агентов. Стешка через Петровича передавала ей все, что Делалось в Сергиевском.
Петрович, в угоду Стешке и отчасти по собственной наклонности, исполнял ревностным и добросовестным образом должность шпиона. Рука, раздвигавшая ветви кустарника в саду в минуту объяснения Григорья Алексеича с Наташею, принадлежала Петровичу, и на другой же день все виденное и слышанное им он передал Стешке, которая, в свою очередь, сейчас же, как следует, донесла об этом своей барыне.
– А! так вот как! – вскрикнула в бешеном торжестве Агафья Васильевна, – вот оно что! Сама на шею бросается к нему!.. сама обнимает его! Она бесчестит собою всю нашу фамилию, всю нашу губернию! Да уж полно, дворянская ли кровь течет в ней?.. Уж не согрешила ли Олимпиада-то Игнатьевна?
Агафья Васильевна дала полную волю языку и начала везде трезвонить о Наташе и о Григорье Алексеиче.
Но грозные тучи клевет и сплетней, скоплявшиеся на губернском горизонте, еще не разразились над Сергиевским. Там было еще все ясно и безмятежно. Олимпиада Игнатьевна хорошо понимала, что делалось кругом ее, и часто с большим любопытством расспрашивала своего племянника о Григорье Алексеиче. Ей было неприятно только одно – почему Григорий Алексеич не служит.
– Как же он не заботится о своей карьере? – спрашивала она, – разве он имеет такое обеспеченное состояние?.. Вот вы, батюшка, – прибавляла она, – это другое дело. Вас бог благословил… У вас полторы тысячи душ крестьян. Слава богу, вам не о чем заботиться. Ну, а молодому человеку, не богатому, грешно не думать о службе и праздно проводить время.
Сергей Александрович старался объяснить тетушке, что Григорий Алексеич проводит время не совсем праздно, что он много читает, занимается литературой, пишет статьи для журналов; но тетушка сомнительно и недовольно покачивала головой и говорила:
– Воля ваша, что же это за занятия такие? Ведь это он делает для своего удовольствия… Ведь это все же не то, что коронная служба… Ведь за эти занятия он не получит ни чина, ни награды, ни какого профита.
Глядя на дочь свою и на Григория Алексеича, когда они сидели вместе, старушка иногда думала:
«Господи! буди воля твоя!»
Случалось также, что, глядя на них, она думала: «Как бы это узнать достоверно, есть ли у него состояние, обеспечен ли он?» – потому что Сергей Александрыч не дал ей положительного ответа на этот вопрос. С Наташей при Григорье Алексеиче она обращалась гораздо нежнее и ласковее обыкновенного и часто говорила ему в ее присутствии:
– Как я благодарна вам, батюшка, за то, что вы занимаетесь с ней, читаете ей, толкуете, учите ее.
Но наедине с дочерью Олимпиада Игнатьевна давала ей другого рода наставления.
– Ты, пожалуйста, Наташа, – говорила она, – не очень слушай то, что тебе рассказывает и нашептывает Григорий Алексеич, не верь всему, что там написано, в этих книгах, которые он тебе читает.









































