Текст книги "Родственники"
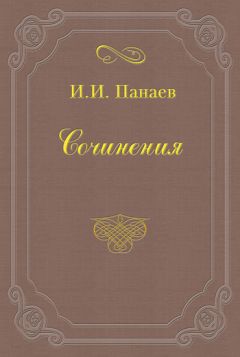
Автор книги: Иван Панаев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Глава IX
А вот что Григорий Алексеич нашептывал Наташе:
– Если бы вы знали, как я теперь счастлив! А была минута, когда я хотел бежать отсюда, бежать от вас…
– Зачем же бежать? – перебила Наташа с недоумением.
– Я сомневался во всех и во всем – я сомневался в самом себе, я сомневался в вас. Я думал, что вы не любите меня.
– Неужели вы думали это? – спросила Наташа, – я могла думать, я… но это совсем другое. И до сих пор… Скажите мне, бога ради, за что вы меня любите?.. Я и до сих пор не понимаю этого!
– Вы не знаете самое себя, – говорил Григорий Алексеич, с восторгом смотря на нее, – за что? вы дали смысл и содержание моей жизни. Ваш взгляд, ваше слово, одно присутствие ваше разливает святое чувство в груди моей. Вы еще не знаете, насколько вы выше этих людей, среди которых родились и живете. Посмотрите хорошенько вокруг себя, на самых близких родных своих, на их образ жизни, на их дикие, нелепые предрассудки. Есть ли у вас что-нибудь общее с ними? Вы, верно, оставите их без сожаления?
– Если мне придется когда-нибудь оставить их, – отвечала она, – я, конечно, не буду жалеть никого, кроме маменьки…
– Я понимаю, что вы привязаны к ней по привычке; но послушайте, я должен прямо сказать вам все, я должен быть откровенен с вами: вы не можете любить ее искренно, и если думаете, что ее любите, – вы обманываете самое себя.
– Что это вы говорите? – с ужасом сказала Наташа. – Она – моя мать! Я знаю, что у нее доброе сердце и она очень любит меня. Как же мне не любить ее?
– Да, она любит вас до той минуты, покуда вы молчаливо и безусловно будете во всем покоряться ее требованиям, но если вы хоть раз вздумаете обнаружить перед ней собственную волю, которая будет противоречить ее воле, тогда эта любящая мать с добрым сердцем явится перед вами в настоящем свете… Она без жалости подавит вас своею материнскою властию, она не позволит вам дохнуть свободно, прикинется еще вдобавок притесненною, будет стонать, охать и всем жаловаться на вас. И никто не примет вашу сторону, все будут за нее… Между ею и вами не может существовать никакой откровенности, никакой симпатии. Вы должны, напротив, скрываться от нее, казаться перед ней не тем, чем вы есть, приносить ей ежеминутные жертвы и для собственного спокойствия поступать по ее желанию против своих убеждений, против своей совести…
– О нет, – прервала Наташа, – ни за что на свете; теперь я чувствую, что никто не в состоянии заставить меня сделать что-нибудь против моих убеждений.
– Но знаете ли вы, – продолжал он, – может быть, минута испытания уже близка для вас. Я беден, я почти ничего не имею; ваша матушка не подозревает этого, она, верно, думает, что у меня есть какое-нибудь состояние, и только потому так благосклонно обращается со мною, – но я должен буду открыть ей все, вывести ее из заблуждения, и тогда…
– Вы слишком дурно думаете об ней. Вы не знаете ее. Она не захочет препятствовать моему счастию. Я скажу ей, что я люблю вас, что я никого никогда не буду любить, кроме вас.
– Вы слишком чисты душою, слишком неопытны; но если мои подозрения оправдаются – тогда что?
– Тогда… – Наташа задумалась. Григорий Алексеич впился в нее своими глазами… «А! она колеблется», – мрачно подумал он.
– Тогда, – сказала Наташа голосом спокойным и твердым, – тогда у меня не останется никого, кроме вас.
Григорий Алексеич при этих словах стал перед Наташею на колени и начал жарко целовать ее руки в безумном упоении.
– Бога ради, что вы делаете? – произнесла Наташа, которая, несмотря на волнение, сохранила присутствие духа, – вы забыли, где мы; вас могут увидеть…
Григорий Алексеич поднялся медленно, отвел рукою длинные свои волосы, которые упадали ему на лицо, взглянул на Наташу млеющими глазами и прошептал:
– Да, я совсем забыл… простите меня, я не помню, что делаю; я так счастлив!
Он снова сел возле нее и несколько минут жадно вдыхал в себя вечерний воздух.
– Мы не останемся здесь, – продолжал он, успокоиваясь, разнеживаясь и как будто мечтая вслух, – мы уедем отсюда, мы поселимся в Петербурге, устроим маленькое хозяйство, будем допускать к себе только немногих избранных друзей. Я буду трудиться, и как легок и приятен мне будет всякий труд! Мысль, что я тружусь не для себя только, а для существа родного, близкого мне, – эта мысль будет одушевлять и вдохновлять меня… До сей минуты деятельность моя была в усыплении, потому что я не имел цели в жизни, потому что кругом меня было все бесприветно и пусто. До сих пор я бродил во мраке и ощупью, я воображал себя мудрецом, а между тем был глуп, как ребенок. Только теперь я начинаю понимать и видеть все ясно; только теперь я чувствую в себе настоящую силу и желание деятельности. Человек, никогда не любивший, хотя бы прожил сто лет, не имеет права сказать, что он жил!
Григорий Алексеич говорил долго, Наташа слушала его с восторгом, и в воображении ее уже развертывалась картина прекрасного будущего. Для Наташи каждое его слово дышало святой, непреложной истиной. Она смотрела на него с полною верой.
Но Григорий Алексеич не мог долго оставаться в таком безмятежном и блаженном состоянии духа. Одно обстоятельство, совершенно, впрочем, ничтожное, вдруг нарушило внутреннюю его гармонию.
Он лежал после обеда на диване в своей комнате и мечтал. Мечты его мало-помалу начинали спутываться и принимать неопределенные и туманные образы, глаза закрывались, и он готов уже был совсем заснуть, как вдруг кто-то сильно и выразительно крякнул над самою его головою.
Григорий Алексеич открыл глаза и с досадою обернулся назад.
На пороге двери стоял Петрович с свойственным ему глубокомысленным видом.
– Что тебе надо? – спросил Григорий Алексеич.
– Да, признаться, надо-то мне Сергея Александрыча, – отвечал Петрович, заглядывая в комнату.
– Его нет здесь.
– То-то нет, я и вижу, что нет. Да где же бы они это могли быть?
– Не знаю.
– Гм! Надо пойти отыскивать их. Барыня их спрашивает зачем-то…
– Поди отыскивай… Мне что за дело.
Но Петрович не двигался с места.
– Ну, что ж тебе?
– Эх, батюшка Григорий Алексеич, – проговорил Петрович, вздыхая, – то ись, как я вас люблю… верите ли богу… я много произошел в своей жизни и много господ видал на своем веку… Вот и Василий Васильич Бочкаревский, знаете его? уж на что барин, – да нет, куда до вас, далеко! Все не то. Этакая счастливица наша барышня, в сорочке, видно, родилась, ей-богу!
– Это что значит? – сказал Григорий Алексеич, вскакивая с дивана.
Петрович немного смутился.
– Вы простите меня, Григорий Алексеич, то ись, может статься, я и глупое слово сказал, оно, может, вам и неприятно, что я примешал ваши сердечные чувствия, но ведь шила в мешке не утаишь, батюшка, ей-богу. Мы, то ись все, не иначе понимаем вас, как женихом Натальи Николавны, и радуемся этому! Ежеминутно, так сказать, бога благодарим…
Григорий Алексеич кусал губы от нетерпения и досады.
– И сама барышня, – продолжал Петрович, – ономнясь приходит в девичью… и я тут случился, знаете… и говорит: ну, девушки, говорит, будет вам работа… приданое, говорит, мне шить…
– Она сказала это? – вскрикнул Григорий Алексеич, бледнея и дрожа всем телом. – Ты лжешь!..
– Чего же вы, батюшка, гневаетесь-то? Убей меня бог. Вот тут и Палагея была, и Аннушка, и Матрена, всё живые люди. Спросите у них, коли мне не верите.
Петрович клялся и божился, но Григорий Алексеич не слыхал уже ничего и не видал.
У Григорья Алексеича помутилось в глазах; он в отчаянье бросился на диван, потом вскочил и начал бегать из угла в угол, бормоча сквозь зубы несвязные и отрывистые фразы:
– Прекрасно!.. приданое… девкам поверять свои тайны… это в духе деревенской барышни!.. Как это мило!
Наташа вдруг потеряла для него свое высокое значение и превратилась в пустую, ничтожную девочку.
«И я допустил себя так глупо увлечься ею! – думал он, – и я мог вообразить, что она оторвалась от грязной и гадкой действительности, в которой родилась и выросла! Это сумасбродство, нелепость! Сергей Александрыч прав; он ничем не увлекается; он смотрит на вещи просто, положительно, и потому у него взгляд бывает часто яснее и вернее моего. И может ли она любить, может ли она понимать любовь в ее святом, в ее высоком значении, когда она уж теперь начинает хлопотать о приданом и рассуждает об этом со своими девками? Ей просто хочется выйти замуж, женихов нет, а я, дурак, тут кстати подвернулся, – она и расплылась передо мною и начала сентиментальничать…»
Григорий Алексеич целый вечер дулся, не говорил с Наташей ни слова и едва отвечал на ее вопросы. Ночь провел он беспокойно, проснулся ранее обыкновенного и оделся наскоро, чтобы идти гулять. Он боялся встретить кого-нибудь, особенно Сергея Александрыча, потому что чувствовал потребность быть один, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь заметил его страдания. Григорий Алексеич вышел на крыльцо. Утро было теплое, небо было подернуто тонкими и бледными облаками. Роса крупными матовыми каплями лежала на листках бузинных кустов, разросшихся на дворе у самого дома; луг перед домом только что был скошен, и воздух напитан запахом травы… На крыльце, прислонясь к колонне, стояла Наташа; глаза ее были красны, и веки распухли.
Григорий Алексеич увидел ее и хотел вернуться назад, но уже было поздно. Наташа обернулась к нему. Григорий Алексеич сухо поклонился ей, остановился в раздумье и не знал, что делать. Встреча была с обеих сторон неожиданна. Ни Григорий Алексеич, ни Наташа несколько минут не знали, что сказать друг другу.
– Какое прекрасное утро, – произнесла наконец Наташа в замешательстве.
– Да, – отвечал Григорий Алексеич рассеянно и не глядя на нее.
– Отчего вы так рано встали сегодня? – спросила она.
Григорий Алексеич не отвечал ни слова. Наташа повторила свой вопрос.
– И вы, кажется, встали сегодня раньше обыкновенного? – сказал он раздражительно. – Я, признаюсь, не ожидал вас встретить здесь…. Вы, верно, чем-нибудь озабочены, какими-нибудь хлопотами по хозяйству?.. Это делает вам честь. Заниматься хозяйством очень полезно, полезнее даже, чем читать.
– Что это значит? Что это за тон? – спросила она. – Объясните мне, что это значит? Вы так изменились со вчерашнего дня. Я не понимаю вас…
– Вы меня не понимаете?.. – возразил Григорий Алексеич с ядовитою улыбкою, – может быть!
Но в эту минуту он взглянул на Наташу. Ее расстроенный вид, ее распухшие от слез глаза, ее бледность – все это вдруг поразило его.
«Какое же, однако, я имею право оскорблять ее?.. – подумал он. – К тому же верить словам глупого лакея… Может быть, все это было не так. Он переврал». Григорий Алексеич вдруг бросился к Наташе с чувством.
– Простите меня, – сказал он, – не слушайте меня, я сам не знаю, что говорю! я болен. – И он в отчаянии судорожно ломал свои руки, как нервическая женщина.
– Что с вами? – спросила она, взяв его руку и глядя на него с участием.
Григорий Алексеич не только успокоился совершенно, но ему показалось, что в ее невольном движении выразилась вся сила, вся беспредельность ее любви к нему.
Весь этот и следующий день он был необыкновенно доволен и весел. Может быть, довольствие это продолжалось бы и долее, если бы не Петруша. Петруша давно искал удобного случая сблизиться с Григорьем Алексеичем и серьезно поговорить с ним о Наташе, о самом себе и о человечестве, которое сильно его тревожило. И когда случай этот, по мнению Петруши, представился, – он передал весь разговор свой с сестрою.
– Так она вам призналась, что любит меня? вам? – возразил Григорий Алексеич, выслушав его и с некоторою злостью измеряя его с ног до головы.
– Да, – отвечал Петруша гордо и торжественно.
– В самом деле?
Григорий Алексеич улыбнулся презрительно.
– Впрочем, – продолжал Петруша, – впрочем, и без признания Наташи я знал и видел всё… ваша и ее тайна была давно угадана мною. Я понял вас с первой минуты вашего приезда сюда. На меня вы можете положиться.
Григорий Алексеич принужденно захохотал.
– Благодарю вас: поверьте, мне очень лестно быть поняту вами, – только я не советую вам слишком полагаться на вашу проницательность. Она легко может обмануть вас, молодой человек!
Петруша побледнел, закусил губу и отстал от него.
Григорий Алексеич проводил Петрушу глазами и ударил себя в лоб.
«Я глупец, совершенный глупец! – подумал он. – Неужели я целый век буду жить фантазиями? После всего, что мне наговорил этот мальчишка, после всего этого можно ли, наконец, сомневаться в том, что такое эта Наташа?.. нет, нет! Пора мне отрезвиться от этой любви, выкинуть этот вздор из головы – все это пошлые остатки глупого романтизма!»
С каждым днем Григорий Алексеич все более и более впадал в разлад с самим собою и беспрестанно изменяя свое обращение с бедною Наташею. Иногда казалось ему, что Сергей Александрыч смеется над его любовию и смотрит на него с сожалением, иногда он был убежден в том, что ему расставили сети, что его ловят, что Сергей Александрыч вместе со всеми своими родственниками в заговоре против него и что его хотят заставить жениться на Наташе.
Наташа решительно не понимала, что делается с Григорьем Алексеичем. Все в нем последнее время было для нее необъяснимой загадкой. Беспокойство ее возрастало с каждым днем. Но обстоятельство, никем не предвиденное, вдруг вывело ее из ее неопределенного положения,
Глава X
К числу почетнейших помещиков той губернии, в которой находится село Сергиевское, принадлежит Захар Михайлыч Рулёв. Он имеет генеральский чин и 600 незаложенных душ. Окончив с честию свое служебное поприще, украсив грудь свою орденами и получив генеральский чин при отставке, Захар Михайлович поселился в своей деревне. Ему было тогда 59 лет. Он среднего росту, волосы у него седые, глаза светло – карие, лицо круглое, нос широкий, губы толстые, особых примет никаких. Захар Михайлыч человек прямой, положительный, деятельный и никогда не заискивавший ничьего покровительства. Для Захара Михайлыча все в жизни ясно и просто, как дважды два четыре.
Сельцо Красное, резиденция Захара Михайлыча, отличается необыкновенным порядком и устройством. При въезде в деревню, у околицы, вместо обыкновенного, полусгнившего и почерневшего сруба, крытого соломой, провалившейся внутрь, – каменная караульня, крытая железом. По обеим сторонам вдоль прямой и широкой улицы вытянутые в струнку крестьянские избы. В середине господская усадьба: одноэтажный каменный выбеленный дом, несколько похожий на казарму, и с обеих сторон в виде полукруга флигеля, также выбеленные, а на площадке перед домом небольшая каменная часовенка, около которой симметрически посажено несколько липок, подпертых палками. На каждом флигеле надписи: больница, контора, ткацкие и проч. Площадка всегда начисто подметена и усыпана желтым песком. Сельцо Красное более походит на военное поселение, чем на деревню.
Все крестьяне Захара Михайлыча ходят также по струнке. Он сам постоянно наблюдает за всеми работами и ежедневно прохаживается по своим владениям с толстою сучковатою палкою в руке, которая, как и сам он, не остается в бездействии.
Захар Михайлыч строг, но это не мешает красносельцам любить его и называть добрым барином.
И у Захара Михайлыча, точно, доброе сердце. Когда дело спорится и крестьяне его работают охотно, дружно, он с любовию смотрит на них, опираясь на свою палку, и маленькие глазки его прыгают от удовольствия.
– Ай да ребята! – покрикивает он, – молодцы… – Захар Михайлыч часто употребляет поговорку, без которой коренной русский человек обойтись никак не может. Поговорка эта имеет необыкновенное свойство одушевлять и поощрять крестьян к труду. Работа, ободряемая барским словом, закипает еще дружнее и веселее, и сам Захар Михайлыч иногда, расходившись, сбрасывает с себя сюртук и начинает подмогать своим подданным, да так, что пот дождем каплет с его барского чела… Дворня в сельце Красном многочисленна, как и во всех наших деревнях, но зато у Захара Михайлыча и из дворовых никто не сидит без дела. Тунеядцам нет места в сельце его. Он не гнушается надсматривать и за детьми и за бабами, чтобы и они не проводили время в праздности. Он никогда не выходит из дома без цели и решительно не понимает, что такое прогулка для удовольствия. Красоты природы не существуют для него; он даже питает просто что-то враждебное к живописным местоположениям.
До чтенья Захар Михайлыч не охотник, он читает мало, и то разве, когда бывает болен (что случается с ним очень редко), и ему все равно, что ни читать.
В обращении своем он прост, охотно протягивает руку всем, и равным себе и низшим, и со всеми говорит одинаковым голосом и тоном, несмотря на свое генеральство. Это, впрочем, не нравится никому – и про него говорят, что он не имеет никакого обращения и достоинства и не умеет вести себя соответственно своему званию.
Мужчины в губернии вообще его не слишком жалуют, потому что он любит резать правду в глаза, не соблюдая никаких приличий, и более всех кричит и горячится на выборах; но зато дамы (и преимущественно маменьки) чрезвычайно расположены к нему…
Захар Михайлыч, как близкий сосед, часто посещал село Сергиевское. Он был очень доволен приездом Сергея Александрыча, потому что в свободное от хозяйственных занятий время любил поболтать с хорошим человеком о суете мирской. Захар Михайлыч вообще сходился с людьми скоро, потому что не углублялся в разбор их внутренних качеств. Люди в понятии его разделялись на добрых и злых, на честных и бесчестных: других разделений он не признавал и не слишком уважал ум и образованность.
Фамильярное обращение Захара Михайлыча сначала не нравилось Сергею Александрычу, но потом он примирился с этим.
Григорий же Алексеич просто не терпел Захара Михайлыча.
– Несноснее этого человека я ничего вообразить не могу, – говорил он Сергею Александрычу, – я решительно не пустил бы его на порог дома: болтает без умолку, надоедает глупыми вопросами, пошлая, самодовольная рожа…
День за днем уходил быстро, наступила осень. Поправка дома Олимпиады Игнатьевны пришла к окончанию. Начались приготовления к переезду. Наташе тяжело было оставлять Сергиевское. Накануне переезда она в последний раз обошла весь сад, прощаясь с ним. Дорожки были устланы желтыми листьями; георгины, которыми она любовалась за три дня перед этим, поблекли и почернели от мороза. Наташе было грустно, и она долго сидела и плакала на той поляне, где Григорий Алексеич в первый раз признался ей в любви.
Сергей Александрыч, располагавший возвратиться осенью в Петербург, должен был остаться в своей деревне на неопределенное время. Он от нечего делать занимался охотой и метал банк двум соседям-помещикам, которые почти поселились у него. Григорий Алексеич ездил в село Брюхатово сначала довольно часто, но с каждым разом возвращался оттуда все более и более в мрачном расположении духа. Он уже не мог говорить с Наташей наедине так свободно, как в Сергиевском.
Олимпиада Игнатьевна обращалась с ним уже несравненно холоднее и начинала находить в нем большие недостатки. Все это произошло, между прочим, оттого, что Петруша, оскорбленный Григорьем Алексеичем, отзывался о нем с невыгодной стороны. Петруша даже наушничал маменьке на сестру. Он знал, что играет роль не совсем благородную, но находил для себя тысячу оправданий.
«Я должен спасти Наташу, – утешал он самого себя, – и я спасу ее во что бы то ни стало! употреблю для этого все средства. К доброй цели можно смело идти путями окольными и не совсем чистыми… Я уже, слава богу, вышел из периода прекраснодушия… Наташа увлечена безумною страстию. Она стоит на краю бездны… но я сзади ее, я сторожу ее движения, я не допущу ее до погибели… Нет! такие фразеры, как этот Григорий Алексеич, теперь не проведут меня!»
Охлаждению Олимпиады Игнатьевны к Григорью Алексеичу невольно способствовал также и Захар Михайлыч, который после переезда их из Сергиевского стал довольно часто посещать их. В голове Олимпиады Игнатьевны блеснула новая, смелая мысль, что, может быть, Захар Михайлыч ездит недаром, хотя он, правду сказать, не подавал ей ни малейшего повода к этой мысли. Захар Михайлыч, по-видимому, не обращал никакого внимания на Наташу и почти ни слова не говорил с ней. Он все рассуждал с самой Олимпиадой Игнатьевной, и по большей части о делах хозяйственных, а иногда раскладывал вместе с нею гранпасьянс; но предчувствия любящего материнского сердца редко бывают обманчивы. Однажды Захар Михайлыч сказал Олимпиаде Игнатьевне:
– Знаете ли вы, о чем я хочу поговорить с вами? – Угадайте-ка… Бьюсь об заклад, что не угадаете.
– О чем же, батюшка? – спросила Олимпиада Игнатьевна.
– Я – ведь вы меня знаете – человек военный, – продолжал он, – и не люблю никаких предисловий, а режу всегда напрямик… Отдайте-ка за меня вашу дочку, Олимпиада Игнатьевна, право. Она мне очень нравится: девушка милая, скромная… – Захар Михайлыч остановился.
Олимпиада Игнатьевна смотрела на Захара Михайлыча, как будто не веря ушам своим.
– Ну, что же вы на это мне скажете?
– Боже мой! – воскликнула Олимпиада Игнатьевна, зарыдав, – дайте мне немножко прийти в себя… Ах, батюшка мой, Захар Михайлыч… Ах, боже мой, боже мой!.. Я… я никогда и думать не смела о такой чести. Мне этого и во сне-то пригрезиться не могло. Да стоит ли того моя Наташа?
– Эх, к чему это говорить, Олимпиада Игнатьевна, – возразил Захар Михайлыч, который не любил пустословья и слезных сцен. – Я вам скажу откровенно, у меня давно в голове мысль: что же, в самом деле, для кого я тружусь, для кого все устроиваю, для кого наживаю деньги? Кто помянет меня за все это? Близких родных у меня нет, а дальняя родня… бог с ней! Я знаю, что они, как вороны крови, ждут моей смерти; да к тому же что я за дурак, чтоб оставить им свое состояние? К тому же мне, признаться, последнее время что-то скучновато стало жить одному. Я человек простой, без затей, а Наташа ваша, кажется мне, предобрая. Поверьте, что она не будет со мною несчастлива… Ну, хотите ли иметь меня своим зятем? отвечайте просто.
– Поверьте, батюшка, – произнесла Олимпиада Игнатьевна голосом, дрожавшим от волнения, и воздев руки горе, – поверьте, что предложение ваше я почитаю не иначе, как неизреченным божеским милосердием к нам. Я не знаю… я…
– Так, стало быть, вы согласны? – перебил Захар Михайлыч, – это-то я и хотел знать… Ну, так, стало быть, по рукам, любезнейшая Олимпиада Игнатьевна, – так, что ли?
Он протянул ей свою большую и жилистую руку, которую она пожала крепко и с чувством и потом бросилась к нему на шею обнимать и целовать его.
Захар Михайлыч посидел еще после этого немного и потом взял свой картуз.
– У меня есть кое-какие делишки, – сказал он, прощаясь с Олимпиадой Игнатьевной, – прощайте, любезная теща. Мне нужно поспеть домой засветло.
Он уже сделал шаг к порогу и вдруг произнес: «Ба, ба, ба!» – и вернулся, как человек, забывший перчатки или шляпу, или что-нибудь подобное.
– Позвольте-ка, а согласится ли еще ваша Наташа-то быть моею женою? Это я и упустил совсем из виду. Ведь надо узнать ее согласие, иначе нельзя.
– Можете ли вы сомневаться в этом? – вскрикнула Олимпиада Игнатьевна.
Захар Михайлыч несколько призадумался.
– Ну, да ведь бог их знает! молодые девушки не больно жалуют нашу братью, стариков.
– Что это вы говорите такое? Уж будто вы себя стариком почитаете? Как вам не грех!.. Наташа моя девушка благоразумная, и притом покорная дочь.
– То-то, то-то!.. Вы уж, пожалуйста, переговорите с ней обо всем, объясните ей все; я не берусь за это, я не мастер говорить, особенно с девушками.
Когда Захар Михайлыч уехал, Олимпиада Игнатьевна отправилась к себе в спальню. Там у постели ее стоял кивот с наследственными образами в старинных окладах, перед которыми теплилась неугасаемая лампада. Она стала на колени перед этими образами и молилась с чувством, горячо и долго.
Помолившись, она кликнула к себе Наташу.
– Друг мой Наташенька, – произнесла она в волнении, – друг мой милый… – и залилась слезами, прижав ее к груди.
Давно, а может быть и никогда, Олимпиада Игнатьевна не прижимала дочь к своей груди так крепко.
– Господь услышал мои грешные молитвы, – продолжала Олимпиада Игнатьевна, – и награждает тебя через меру за твое послушание, за твою покорность матери. Папенька – то твой, голубчик, не дождался этой минуты. Ну, пусть он хоть оттуда порадуется нашему счастью!
Олимпиада Игнатьевна остановилась и утерла слезы. Наташа с беспокойством смотрела на нее. Но Олимпиада Игнатьевна взяла ее за руку и сказала нежным голосом, указав на диван:
– Сядь сюда, ангел мой… – потом осмотрелась кругом, приперла дверь и, наконец, села возле Наташи. – Я должна поговорить с тобой серьезно. Ты у меня доброе, благоразумное дитя… – и она погладила Наташу по головке. – Ты всегда была моим утешением. Я уверена, что ты примешь так, как следует, то, что я скажу тебе… Захар Михайлыч приезжал к нам сегодня затем, чтобы просить у меня руки твоей. Ты понимаешь, Наташа, как нам должно быть лестно такое предложение. Захар Михайлыч с именем, генерал, богат, пользуется всеобщим уважением, и притом всем известно, что у него доброе сердце. Лучшего мужа тебе нельзя найти. С ним ты будешь счастлива; он не то, что эта молодежь. Он человек солидный, прекрасных правил, отличной нравственности. Что касается до меня, я уже дала ему полное согласие и готова хоть сию минуту благословить вас; но он желал, чтобы я переговорила с тобою, друг мой.
Олимпиада Игнатьевна, окончив это, посмотрела на Наташу, ожидая ее ответа.
Наташа молчала. Она как будто окаменела от слов маменьки.
– Что же ты скажешь на это? – спросила ее Олимпиада Игнатьевна.
– Да я не знаю его, я никогда не говорила с ним двух слов… – сказала Наташа.
– Так что ж? Наговоришься после, мой друг…
– О нет, маменька! – вскрикнула Наташа. – Я не могу любить этого человека, я не знаю его. Маменька! я должна теперь высказать вам все… Вы не захотите моего несчастья. Вы поймете меня…
Наташа, рыдая, бросилась на грудь к Олимпиаде Игнатьевне и произнесла:
– Я люблю Григорья Алексеича, я никогда не пойду ни за кого на свете, кроме его.
– Так ты решишься выйти замуж без моего благословения и согласия?
– Он также любит меня, – продолжала Наташа, – он хотел говорить с вами… Вы благословите нас?
– С этой минуты нога его не будет на пороге моего дома, – произнесла Олимпиада Игнатьевна решительно, – потому что с этой минуты ты невеста Захара Михайлыча. Понимаешь?..
– Нет, – сказала Наташа еще с большею решительностью и силою, – я никогда не буду его невестою…
Олимпиада Игнатьевна посмотрела на Наташу, как будто желая удостовериться, не помешалась ли она.
– Наташа! Наташа! что это значит! Ты хочешь убить меня? Наташа!
– Что же вам угодно от меня? – спросила Наташа, совершенно потерянная.
– Как! и ты еще спрашиваешь, что мне угодно?.. Я хочу, чтобы ты повиновалась мне! я больше ничего не хочу, больше ничего от тебя не требую…
– Маменька, простите меня. Я не могу, это не в моей власти. – Наташа бросилась к ногам матери.
– Прочь от меня, неблагодарная! Ты убила меня! – закричала Олимпиада Игнатьевна, шатаясь…









































