Текст книги "Бремя памяти"
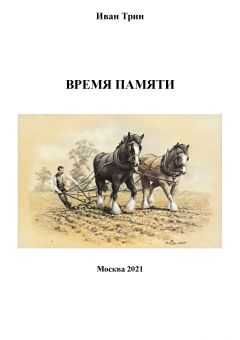
Автор книги: Иван Тринченко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава десятая. Подросток в вихре войны
Литва. С вхождением Литвы в состав Советского Союза, воинская часть отца была переведена под город Шауляй, и уже весной 1940 года мы переехали туда и поселились в Шауляе на улице Виленской, в доме № 18. Впечатлений с переездом было много. Отдельная квартира в городе! После общежитий в военных городках, она нам казалась царскими хоромами. Иностранная (литовская) речь на улицах, другая архитектура, костёлы с остроконечными окнами и шпилями, черепичные крыши почти всех домов; непохожие на наши магазины с красочными витринами и открытыми прилавками; продукты (например, сливочное масло брикетом в упаковке с картинкой я увидел впервые там).
В магазинах и на вокзале я также видел группы людей говорящих на чужом, но явно не литовском языке. Мама говорила, что это немцы, жившие в Литве, но теперь уезжающие в Германию. Бросалось в глаза, что многие немецкие женщины носили меховые шубы и пышные воротники из целых черно-бурых лис поверх платья.
На новом месте, практически ещё недавно в другой стране, было много, для нас мальчишек, необычного и интересного: почтовые открытки, марки и альбомы, монеты. Мы с Колей тоже стали собирать. Для начала решили обыскать дом и все его закоулки. И тут нам баснословно повезло. Мы забрались на чердак, просматривали мебельную рухлядь и разный хлам и ничего интересного не нашли.

Фото. Я и Витя. Весна 1941 г.
Хотели было спускаться вниз, как Коля в одном из закоулков пнул ногой большой пук неряшливо скомканных, пыльных газет, и чуть не споткнулся о что-то твёрдое. В мятых газетах оказалась тяжёлая жестяная банка прежних литовских и латвийских серебряных монет, литов и латов. Монет было штук сто, если не больше, так как размер банки был объёмом не менее одного литра. Так мы с Колькой стали обладателями большого обменного фонда. Оказалось, что не только мы – некоторые школьники тоже занимались этим. Образовался своеобразный школьный рынок обмена редкими предметами, а наша находка обещала нам большие преимущества в деле обмена.
В городе на базе старой русской школы была организована школа для детей военнослужащих, но учились и дети горожан. Например, в нашем классе учился местный польский мальчик Волковский. Учителя были русские, но не знаю из местных или приехавших из России. Некоторые преподаватели были из военнослужащих. Я помню учителя истории в очках, высокого и тощего, в военном обмундировании, но без знаков отличия в петлицах. Он был нашим классным руководителем. Литовского языка, по крайней мере – в программе четвёртого класса, пока не было.
Отца, как и других офицеров полка, возили на службу автобусом, но вскоре он купил мотоцикл «Wanderer». Отличная машина. По воскресеньям на нем часто катался брат Коля и иногда катал меня, а однажды даже дал порулить.
Но… с окончанием четвёртого класса, счастливая и беззаботная полоса моего детства закончилась.
Перед грозой. Лето 1941 года. Мне 12 лет, но я отчётливо помню напряжённость международной обстановки. В разговорах взрослых все чаще возникала тема скорой возможности войны с фашисткой Германией. Примерно дней за 7-10 до её начала знакомый отца литовец Гасюнас – врач местной поликлиники, находясь у нас в гостях, настоятельно уговаривал отца отправить семью из Литвы домой в Россию, в связи с угрозой войны.
Он говорил о том, что в городе не спокойно, ходят упорные слухи о скором нападении германской армии, сосредоточившейся на границе, и что он сам слышал по немецкому радио о каких-то претензиях Германии к Советскому Союзу. Кроме того, он сообщил, что тон передач зарубежных радиостанций резко изменился – стал пугающим в ожидании надвигающихся грозных событий.
Отец, с явно наигранной бравадой, отвечал ему словами официальной пропаганды, что войны с Германией в скором времени не будет, так как заключён Пакт о ненападении между двумя государствами, и что: «Красная Армия всех сильней!», «Чужой земли нам ни пяди не надо, но своей – ни вершка не отдадим!», «Если враг на нас нападёт, то воевать будем на его территории» и так далее, и в том же духе. (Я взял эти фразы в кавычки, так как это цитаты многочисленных плакатов, заголовков газетных статей и лозунгов, они звучали в те дни и недели везде и постоянно).
Вместе с тем, в ответах отца не чувствовалось уверенности, а после ухода гостя, родители бурно обсуждали тему возможности войны. Мама согласна была бы уехать с детьми на родину в Россошь, но в то же время родители ясно понимали, что в такой напряжённой обстановке срочный отъезд семьи офицера Красной Армии без санкции начальства, мог быть расценён, как паникёрство или, что ещё хуже, наличие у отца особой информации, отличной от официальной.
Возникли бы вопросы: а что за источники, и распространяющие ложную информацию сеющие страх и панику? А не шпион ли, или провокатор он сам? В любом случае отец был бы сурово наказан, вплоть до расстрела, перед которым у него выбили бы признание, что он сведения эти получил лично от фюрера.
За три дня перед нападением немецких войск к отцу пришёл живший в соседней квартире старый еврей, бывший хозяин этого дома и магазина на первом этаже. Он был сильно взволнован и расстроен до слез, и умолял отца отправить семью в Россию, а также оказать и ему возможное содействие в его с женой отъезде в Россию: "Хоть в Сибирь! Иначе фашисты нас обязательно уничтожат!". Он сообщил также, что почти всё население крайне взволновано и, что война начнётся уже в ближайшие дни. Бедный отец, что он мог сделать? Обстоятельства были такими, что и свою семью нельзя было вывезти.
Даже мы мальчишки были свидетелями участившихся полётов немецких разведывательных самолётов над нашей территорией и с некоторым интересом состязались в знании их двумя фюзеляжами, соединёнными передним и задним крыльями. Летали также юнкерсы и мессершмиты.
От всех этих событий в голове моей был сумбур: с одной стороны смятение и тревожная напряжённость взрослых не могли не передаться и мне, а с другой стороны в моем мальчишеском сознании было место и своеобразному восторгу: «Наконец-то настоящая война! Самолёты, танки несутся на врага, пушки палят, пиф-паф, Ура! Здорово! Наши побеждают. Фашисты бегут! Урррааа!»
Тогда мы, мальчишки, пели песенку:
«Старый барабанщик,
Старый барабанщик,
Старый барабанщик крепко спал.
Вдруг проснулся, перевернулся,
Всех фашистов разогнал!»
Мы подхватили и радостно распевали бравурный марш танкистов из фильма «Трактористы». с любимым артистом Николаем Крючковым. Этот фильм вышел на экраны перед войной.
«… Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин
И Первый Маршал (Ворошилов) в бой нас поведёт!»
Ура-патриотический дух тогда пронизывал все средства массовой информации, кино, музыку, песни, прозу и стихи (и меня). Помню по радио и в школе звучали такие «детские» стихи:
Климу Ворошилову письмо я написал:
Товарищ Ворошилов, народный комиссар!
В Красную Армию нынешний год,
В Красную Армию брат мой идёт,
– затем мальчик заверяет маршала, что если его брата убьют, то:
– Стану вместо брата с винтовкой на посту.
Естественно этот массированный звон и формировал у мальчишек (а может быть и у многих взрослых) ожидание лёгкой победоносной войны.
22-е июня. Накануне, отец как всегда уехал в часть. Больше он домой уже не возвращался. А 22-го я проснулся от того, что кто-то тормошит меня. У кровати стояла сестра Тоня с младшим братишкой на руках: – «Ваня, вставай, мамы нет, война началась!». Я вскочил с постели, кинулся к окну, посмотрел на улицу, а там, к моему удивлению, ничего необычного. Было 6–7 часов утра. Ярко светило солнце. Весело щебетали воробьи на деревьях, под окнами.
В это время низко над городом пролетели три немецких самолёта в сторону железнодорожной станции, и через пару минут звуки разрывов бомб и стрельба пушек. «Вот здорово!», подумал я, всё ещё находясь в приподнятом настроении по поводу войны. Оглянулся, а сестра плачет, кричит: – «Где же мама, я боюсь!». Затем стрельба стихла, пришла мама, быстро накормила нас и начала собирать вещи. Она рассказала, что ей удалось узнать от жён военнослужащих, сбежавшихся чуть свет к штабу гарнизона.
На рассвете немцы перешли границу. Началась война. Их самолёты разбомбили наш военный аэродром и запасные секретные взлётно-посадочные площадки. Бомбили станцию и некоторые объекты в Шауляе ("а я спал и ничего не слышал – вот досада" – подумал я). О жертвах никто ничего не может сказать. В связи с близостью границы, комендант приказал быстро готовиться к эвакуации семей военнослужащих в ближайший тыл на непродолжительный срок с тем, чтобы вернуться после того, как наши войска отбросят немцев назад, поэтому надо взять с собой только самое необходимое общим весом 10–15 кг. на семью.
Мама была вне себя ещё и потому, что из-за нарушенной связи, в гарнизоне ничего не было известно о судьбе пионерского лагеря, расположенного километрах в 20 от города (а там был мой старший брат Коля). Туда уже комендант направил посыльных, но сведений пока никаких нет. А предстояло уезжать! Как? Без Коли? Да как же мать может бросить сына!? УЖАС!!!
После завтрака мы с братишкой Витей (ему тогда было четыре с половиной года) взяли по бутылке кваса, приготовленного мамой накануне, и вышли на улицу. Там было пусто, пешеходов не было. Из-за поворота улицы показалась колонна из трёх автомобилей.
В кузове первого грузовика сидело человек 15 военных, многие из которых были в лётной форме, и все они были перевязаны белыми бинтами. «Раненые!» – с удивлением подумал я. А когда проезжал второй грузовик, я оторопел от неожиданно охватившего меня ужаса: в его кузове не то на тюках, не то на груде чего-то ещё, выше бортов видны были несколько окровавленных тел.
Я ничего ещё не успел сообразить как, проехала следующая за грузовиками, военная санитарная машина. Миновав нас метров на 50, она вдруг остановилась, из неё выскочил наш отец и побежал к нам. Не добежав нескольких метров, он вдруг остановился, глядя на нас, застыл на минуту: лицо перекошено, глаза бегают с меня на Витю, губы дёргаются, а тут настойчивый сигнал ожидающего автомобиля. Он что-то нам крикнул, махнул рукой, повернулся, побежал обратно к машине и уехал.
Никогда не забуду его лица и взгляда, на которых была отражена невыразимая борьба с собой, которую сейчас я бы выразил так: – «Это же мои дети, здесь в чужом городе. Армия уходит. А они? Оставить их врагу на верную гибель сил нет, а спасти их не могу – война, я военный». Это было отражение невероятного человеческого ужаса, собственного бессилия и отчаяния. Моя военная эйфория улетучилась.
Затем были торопливые сборы. Мама готовила нам в дорогу одежду и самое необходимое. Я тоже был обеспокоен, не хотелось оставлять коллекцию яичек, а за потерю коллекции монет я чувствовал ещё и ответственность перед Колей, которого всё ещё не было из пионерского лагеря. Пару раз пытался подсунуть жестяную банку с тяжёлыми монетами в чемодан, но каждый раз мама её выбрасывала.
К моему удивлению она зашивала в подкладку курточек наши документы: свидетельства о рождении, адреса родственников в Воронежской области и немного денег. На мой вопрос, зачем она это делает, ответила, что это на случай если кто-либо потеряется. Вряд ли тогда я до конца осмысливал её слова.
К нам несколько раз забегал бывший хозяин магазина. Бедный старик, он явно сошёл с ума: бегал в вверх и вниз по лестнице, весь мокрый, так как в жаркий день одет был в меховую шубу. Он судорожно бормотал, что-то несвязное чем ещё больше нагонял волнений и страха. Мама места себе не находила, беспокоясь о старшем сыне, и ещё трижды бегала в комендатуру гарнизона узнать о судьбе детей, оставшихся в пионерском лагере. Только часам к 8 вечера Коля прибежал домой. Оказалось, что посланные за детьми машины попали под обстрел и где-то разминулись с группой детей, уже шедших в город пешком под водительством их спасителя – молодого литовца, одного из воспитателей лагеря.
Бег первый
Эшелон беженцев. В 10 часов вечера мы уже были на станции. Эшелон русских беженцев состоял из товарных вагонов-теплушек, С ещё не успевшим выветриться духом перевозки живой скотины. В одном из вагонов размещалась полевая кухня, а в другом охрана и медпункт. В вагоне, куда мы забрались, не было никаких нар.
В правой части небольшого двухосного вагона, ближе к двери, за полотняной занавесью стояла невысокая, железная бочка с небольшим количеством воды. Вскоре, уже в начале пути, я узнал её назначение: – параша – ёмкость для нечистот. В левом торце на стене укреплён бак с питьевой водой и жестяной кружкой на цепочке. На пол вагона брошен ворох соломы.
Было очень тесно и душно. На площади в 20–25 кв. метров размещалось человек 20 – семьи военнослужащих.
Ехало много детей, включая маленьких. Все сидели на узлах или прямо на полу. Особенно мне запомнилась молодая женщина, одетая в лёгкое разорванное платье и без вещей. Она стояла у стены вагона, все время то плакала и звала детей, то как-то необычно хихикала. Мама шепнула нам, что она бежала из одной из уничтоженных с воздуха точки, а дети её или погибли или потерялись при бомбёжке. Она от горя потеряла рассудок.
И только ночью эшелон тронулся в путь, и путь этот оказался не таким уж коротким и не в ближайший тыл. Правда или нет, но были разговоры о том, что эшелон ушёл из города вовремя, так как Шауляй был захвачен немцами на следующий день.
Утром при подъезде к какой-то литовской станции нас бомбили. При налёте самолётов поезд остановился, была дана команда бежать в стороны – прочь от вагонов. Я не успел пробежать и минуты, как начали свистеть, а затем и рваться бомбы. Стучали пулемётные очереди. Я лежал, ничком вдавившись в какую-то ямку. Всего было сброшено 5–6 бомб. Самолёты улетели, и мы вернулись в вагоны. Но поезд ещё долго стоял.
Оказалось, что то ли бомба попала в один из задних вагонов, то ли он был прошит осколками и пулями, но есть раненые и убитые. Я бегал туда посмотреть и видел, как грузили раненых в вагон, а в глубокую воронку от авиабомбы сбросили два трупа. В память (мне, как «нумизмату») врезалась одна деталь: вторым бросили труп старой женщины, и когда он кувырнулся через край ямы, из него посыпались золотые монеты, видимо они были зашиты в какую-то часть одежды, которая при ударе порвалась. Никто не кинулся их подбирать, а воронку быстро засыпали землёй. Поезд уже двигался дальше.
Потом – ещё несколько раз нас обстреливали с воздуха. Эшелон каждый раз останавливался, и мы разбегались в стороны. Один раз, во время медленного движения поезда, на подъёме, мы были свидетелями воздушного боя. Навстречу двум мессершмитам выскочил как-то снизу наш истребитель И-16 и завязался бой, некоторое время они кружили, был слышен треск пулемётных очередей, затем наш самолёт задымил, загорелся и, описав большую огненно-дымовую дугу, врезался в землю.
Меня охватил ужас, заколотилось сердце, но тут я увидел, что несколько литовских рабочих путейцев, сидевших на откосе наблюдая бой, вскочили и радостно зааплодировали. Это было так неожиданно и дико для меня, что я только и повторял: «Гады, гады…». А во время стоянки эшелона на станции Даугавпилс, поступило срочное сообщение о приближающемся налёте немецких бомбардировщиков. Рассказывали, что начальник нашего эшелона потребовал от машиниста литовца немедленно вывести состав за пределы станции и тот сделал это только под угрозой расстрела на месте.
Я потом ещё долго не мог понять причину их поведения, а она ведь была. Мы тогда не знали, что наш эшелон продвигался уже не по советской территории, так как во всех недавно присоединённых к Союзу прибалтийских республиках с первого дня войны, ещё до прихода немецких войск, практически уже не существовало советской власти. Больше того, шла разнузданная охота поднявшегося местного литовского подполья и националистов на советских служащих, коммунистов и евреев. Их хватали и расстреливали на месте без суда и следствия.
Думаю, что после освобождения советскими войсками и повторного установления советской власти в Литве, политика, осторожности, замалчивания правды многих негативных событий того времени в этих республиках, на мой взгляд, была неоправданной. Это могло, кое кому облегчить скрыть, а может быть и уничтожить документы о таких фактах. А цена их немалая. Что касается нас, то можно только представить, что было бы с нами, если бы мы там остались.
* * *
Вот так я встретил войну. И это было только начало наших мучений. Но все по порядку. Покинув Литву, эшелон направился почти в центр России, в город Инзу, Ульяновской области. Никому не разрешили сходить до прибытия к месту назначения, где все должны были пройти проверку. Добирались до Инзы несколько дней. Измучились в теплушках, которые превратились в вонючие душегубки. Это, с позволения сказать, путешествие, претерпели сотни семей советских военнослужащих Шауляя и его окрестностей, бежавших от неминуемой гибели.
(Невероятно! Одной из семей в том же эшелоне оказалась семья Романовых, дружившая с нами в Шауляе, как тогда говорили – «домами». И я с благодарностью судьбе могу сообщить, что Романов Владимир Андреевич, пятилетним ребёнком проделавший в этом же эшелоне тот же тяжёлый путь, увидел мой краткий рассказ об этом ужасе в газете «Метро», за 22 июня 2016 г. и разыскал меня).
Наконец нам разрешили ехать на родину. Через пару дней мы уже в деревне. Первые дни мы со старшим братом ещё погуляли, поправляясь от переживаний во время нашего первого бега. Однако уже в самом начале войны ситуация да и вся жизнь как в стране, так и в деревне, резко изменилась. Отцы наших дружков, как и почти все другие мужчины хутора, были мобилизованы в армию, остались только женщины, старики и дети, а работы в колхозе не убавилось: надо было довести посевы до урожая и убрать его.
Работали все от темна, – до темна, в том числе и мальчишки, – наши с братом дружки. Пошли и мы работать вместе со всеми. К тому же и заработок был не лишним, так как мама из-за отсутствия известий от отца не получала никакого пособия, а нас пять душ. Когда мама, а медсёстры, как и врачи, все были военнообязанными, пошла в Россошанский военкомат для регистрации, ей предложили службу в военном госпитале медсестрой в хирургическом отделении. У нас было фото, на котором мама в военной форме. Мама сняла в Россоши квартиру, а мы, старшие дети, с первого сентября пошли в школу, я в шестой класс.
Крупицы памяти
Под осколками. До начала школьных занятий я ещё работал в колхозе. В тот день я выехал на конных граблях подгребать остатки соломы на жнивье, на дальнем поле, откуда уже видна была станция Россошь. День был холодный. Сделав несколько кругов я остановился, чтобы дать отдых лошади, и тут услышал сразу несколько хлопков где-то наверху, в небе, а когда донеслись звуки пушечных выстрелов, я стал осматриваться и увидел высоко в небе, прямо над собой, кучку красивых облачков и среди них самолёт. Выстрелы и разрывы снарядов продолжались. Самолёт развернулся градусов на 90 и продолжал лететь сквозь облачка разрывов.
Если бы не сознавать, что идёт война и это немецкий самолёт прилетел бомбить станцию, убивать наших людей, а может быть и нас, то картину в небе можно было бы назвать красивой. Предзакатное небо – на горизонте смутно-розоватое, в зените – ещё светло-голубое. На нём тёмный крестик самолёта и вспыхивающие вокруг него белые облачка.
Я засмотрелся, как вдруг услышал какой-то свист, затем другой, третий, затем более громкий, нарастающий шелестящий, закончившийся шлепком о землю где-то совсем рядом. Я сообразил, что это осколки зенитных снарядов и присел под брюхом лошади. Бой длился минут пять, но мне показалось – очень долго.
Сопливый Маг. Сын хозяйки квартиры Лёнька оказался моим одноклассником. Я уже говорил, что в этом возрасте я, конечно с подачи и по примеру Кольки, увлекался чтением и как раз в это время читал Гоголя. Однажды вечером мы с Лёнькой сидели на лавочке в саду и я ему что-то рассказывал из прочитанного. Совсем стемнело, а я никак не мог остановиться и не знаю, что на меня нашло, но я загробным голосом стал уверять его, что я не я, а дьявол Вий, принявший обличье мальчишки, знаю и вижу его насквозь.
Плёл ему ещё какую-то чертовщину и под конец зловещим шёпотом сказал, что я его смерть и в эту ночь приду за ним. Для пущей важности я молча встал и тихо, не оглядываясь, ушёл в тёмный сад. Там из-за кустов я видел, как он быстро убежал в дом. Вместе с тем я был уверен, что он в свои 12 лет не примет всерьёз мои россказни и посмеётся над моей болтовнёй.
Я поднялся к себе в комнату лёг спать и довольный уснул. Но…утром я проснулся от женского крика и плача. Это хозяйка пришла к маме с жалобой на меня и с требованием нам всем убираться с квартиры. Оказывается Лёнька не спал, плакал и дрожал от страха всю ночь, всё ожидал прихода Вия.
Мама при хозяйке отшлёпала меня и с трудом успокоила женщину, пообещав, что я больше дурить не буду.
Потом она мне объяснила, что если мы потеряем эту квартиру, будем жить на хуторе и нам придётся за пять километров ходить – ей на работу, а мне в школу. Лёньке я признался, что всё насочинял, а он поверил и как девчонка разнюнился. После мы с ним подружились и часто вместе делали уроки и дежурили на крыше дома. Больше я не дурил.
Огниво. В годы войны трудно было со спичками, их расхватали ещё в первый день. В городе их изредка продавали или выдавали по карточкам. А в брошенной всеми деревне? Приходилось, как первобытным людям, беречь жаркие угольки в золе от топки до топки, и особое искусство требовалось, чтобы сохранить их всю ночь до утра. А утром вновь раздували, вернее – вздували, огонь с помощью губного ветродуя и щепотки сухой соломенной трухи. Нередко незадачливая хозяйка теряла его и вынуждена была бежать к соседям «за огоньком».
Но тяжелее всего приходилось курильщикам. Не носить же за пазухой горшок с углями! Как известно, нужда заставляет шевелить мозгами. Вспомнили древний способ добывания огня с помощью огнива, то есть высеканием искры ударом железа по кремнию. (Как известно, таким же образом осуществлялся запал порохового заряда в старинных кремнёвых ружьях и пистолетах).
Почти все оставшиеся в деревне мужики и мальчишки быстро обзавелись самодельными огнивами, главными составляющими которых были: кресало – кусок небольшой, но достаточно увесистой железной пластинки; кремень – плоский кусок кремниевого камня, размером в пятак; и трут – жгут, сплетённый из просушенной в печи старой ваты. (Самым доступным материалом для трута у нас мальчишек считалась серая вата, вытащенная из старой телогрейки или одеяла) Как правило, этот жгут находился в короткой металлической трубке и был длиннее её.
Для добывания огня трут укладывался под кремень и они зажимались между большим и указательным пальцами левой руки (или наоборот, у левши), по кремню сверху вниз наносился скользящий удар кресалом, высекались искры и падали на трут, который начинал тлеть. Пара взмахов руки, тлеющий огонёк раздувается и… можно прикуривать или вздувать огонь. Шнур с тлеющим концом втягивался назад в трубку, конец которой на минуту закрывался большим пальцем. Без доступа воздуха тление быстро угасало, после чего все части огнива, всё это хозяйство обычно пряталось в небольшой мешочек – кисет.
Бег второй
Война не дремала. К осени 1941 года огромные территории Советского Союза были захвачены немцами. Фронт продвигался и к Россоши. Стали частыми бомбардировки станции Россошь и каких-то объектов в других сторонах от хутора. Я уже мог отличить гул немецких самолётов от наших и даже среди немецких бомбардировщиков – Юнкерса 88 от Хейнкеля 111, (марки мы, хуторские пацаны знали от расквартированных лётчиков). Неприятно, а по а ночам и страшновато, слышать этот заунывный гул: «Вдруг – к нам?», ведь у нас на хуторе есть что бомбить – уже шли работы по организации военного полевого аэродрома.
Ижевск. Поздней осенью, в связи с угрожающим положением на фронте, военный госпиталь, в котором служила наша мама, получил приказ об эвакуации в глубокий тыл, город Ижевск. Что делать? Мама, конечно, могла бы остаться в деревне. Её бы отпустили по её семейным обстоятельствам. Но как скрыть принадлежность к семье офицера, уже один раз бежавшей от немцев? Народ в деревне разный, кто-то может сболтнуть, а кто-то и донести, и что может произойти в результате? В газетах и по радио беспрестанно говорилось о зверствах фашистов. А как быть с продолжением учёбы детей? Посоветовавшись с дедушкой, мать решилась на эвакуацию, и мы всей семьёй уехали с госпитальным эшелоном.
Конечно, она приняла правильное решение, но положение нашей семьи на новом месте и условия жизни в Ижевске оказались настолько трудными, что уже через пару месяцев семья оказалась в буквальном смысле на грани существования. Для меня месяцы, проведённые там, показались одним сплошным чёрным днём с, непрекращающимся ни на минуту, изнуряющим чувством голода и холода.
Кроме нашего отгороженного простынями угла большой комнаты, то ли школы, то ли другого какого-то казённого помещения, с тюфяками на полу и керосинкой на табуретке, я практически ничего не помню. Ни города, кроме одной улицы сразу за воротами, ни учителей, ни класса, ни учеников, ни самой школы, т. е. учился ли я вообще, – ничего! Всё заслоняло чувство голода и страха умереть.
(Написав эти строки, позвонил сестре Антонине и спросил, помнит ли она что-либо о жизни в Ижевске? Она ответила, что совершенно ничего – сплошная дыра в памяти).
А дело в том, что мама не получала аттестат на отца, так как от него не было вестей. По карточкам выдавали: ей 500 и нам – по 300 граммов клёклого чёрного хлеба в день. Это и было всё наше питание, если не считать нескольких селёдок, пол-литра растительного масла, килограмма крупы на месяц! И это всё на целых 30 дней для семьи из четырёх человек. Ведь мы приехали в зиму, не имея никаких запасов, и рядом не было никаких родственников в деревне, как у большинства местных жителей. Мама находилась в госпитале по 12 и более часов в сутки, так как она была хирургической сестрой, а работы хирургам в войну хватало на все 24 часа.
Естественно у неё не было времени и возможности доставать и экономно готовить пищу. Обычно мы съедали хлеб сразу, как приносили его из магазина, а дальше… сидели голодные. В довершение ко всему где-то в январе у мамы выкрали (вырезали карман), карточки дней на десять. Это был конец!
Спасение. Мама поняла, что если останется ещё на пару недель, семья вымрет, и пошла к комиссару госпиталя с просьбой о содействии в отъезде на родину, к тому времени ещё не занятой немцами. Комиссар – женщина с тремя шпалами в петлицах (подполковник) по-русски говорила с акцентом и мама думала, что она латышка или эстонка. Внимательно маму выслушала и помогла с увольнением из армии и отправкой на родину. Маме выдали подъёмные, хотя деньги тогда уже ничего не стоили, и мы тронулись в путь.
(Здесь уместно небольшое отступление: 25 лет спустя, в Нидерландах, когда я служил советником нашего посольства, активно действовало Общество дружбы Нидерландов и СССР, секретарём местного отдела была женщина по имени Марсела (фамилии не помню), свободно говорившая по-русски. Как-то на одном из приёмов я спросил, откуда у неё такой русский язык и был поражён услышанным.
Оказывается, она окончила среднюю школу в Ижевске, где её отец, голландский инженер коммунист, ещё до войны был направлен своей компартией в СССР, в качестве инженера для оказания помощи в строительстве и освоении предприятий тяжёлой промышленности. Во время войны он работал главным инженером на одном из оборонных заводов в Ижевске, а её мать была тем самым комиссаром в военном госпитале, что приняла участие в судьбе нашей семьи. Действительно, – правду говорят, что мир тесен!).
Так как Ижевск находился на тупиковой ветке железной дороги, а тогда прямого поезда Ижевск-Москва не было, мы поехали на ст. Аргыз в надежде сесть на проходящий поезд. Билеты купить было невозможно, и мы вынуждены были несколько дней сидеть на вокзале. Продукты кончились. Мама сутками стояла у кассы и всё безрезультатно: как только «выбрасывали» (тогда в ходу было такое слово) несколько билетов, касса бралась штурмом и маму каждый раз отталкивали.
Мы уже пару дней ничего не ели. Я был в полузабытьи, как-то в перехваченном мною взгляде мамы со жгучей остротой прочитал, что я – первый! А когда мама вытряхнула из холщового мешочка последнюю ложку сухарной трухи, которая исчезла во рту моего маленького братишки, я потерял сознание. Очнулся на другой день, на полке движущегося вагона, от того, что что-то вливалось мне в рот. Это мама давала мне тёплый чай. Я был в тяжелейшем состоянии. Мама признавалась позже, что она уже не надеялась, что я выживу. Лицо и ноги у меня опухли от голодной водянки до такой степени, что чтобы снять с меня сапоги, пришлось их распороть.
Оказалось, что мир – не без добрых людей. Нас спасла небольшая группа военных, ожидавшая поезда на соседней лавке вокзала. Они помогли маме взять билеты, посадили нас в поезд и даже поделились продуктами.
С какой-то станции в пути, мама дала дедушке телеграмму и когда мы приехали на станцию Россошь, он уже встречал нас, и заплакал, увидев, какими мы стали. На руках перенёс нас в сани. По приезде в хутор, бабушка причитала, смешно, как курочка, взмахивая руками. Еле державшаяся на ногах мама прилегла отдохнуть. Дедушка ещё во дворе распрягал лошадь. А в это время, бабушка успела усадить нас за стол, достала из печи чугунок с дымящимся борщом. Запах его был головокружителен. Она уже было стала наполнять тарелки, как вошёл дедушка и, кинувшись к бабушке, вырвал ковш из её рук и закричал:
– Что ты, старая, погубить ребят хочешь? – Он, повидавший всего на войнах и голодухах, хорошо знал, что после такой голодовки можно не только загубить здоровье, но и саму жизнь, если дать сразу много поесть, тем более такой хорошей и жирной пищи. Под его присмотром, в первые дни бабушка сначала давала немного воды, затем три-четыре ложки супа. Час спустя, опять вода, затем немного борща и картошки, и т. д.
Через неделю-полторы мы были уже почти в норме и отправились в Россошь на учёбу в школу, которую мы оставили в октябре. Учителям с трудом удалось кое-как восполнить прорехи в освоении нами учебных программ. Я очень отстал, ведь всю зиму по существу не учился, вернее не в состоянии был учиться. Однако меня кое-как перевели в следующий класс. Краткий перерыв. В деревне произошли перемены. На поле за хутором в сторону села Евстратовки, уже действовал аэродром, лётчики и другие офицеры были расквартированы в домах нашего и соседнего хуторов. У нас в доме расположился штаб части. Двадцать-тридцать самолётов были какие-то незнакомые, с отдельными кабинами стрелков сверху на фюзеляже. От механиков узнали, что это американские лёгкие бомбардировщики марки Мартин. Рёв моторов был сильный, а скорость мала. Мы, мальчишки, звали их «мартынами».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































