Читать книгу "Накануне"
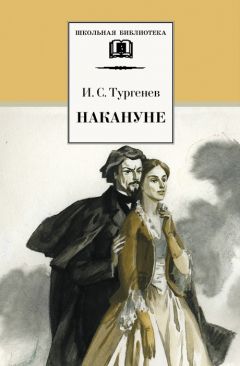
Автор книги: Иван Тургенев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Да. Инсарову в то время пошел восьмой год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участи братниного семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, а оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых двенадцать лет. Оттого он так хорошо говорит по-русски.
– Он говорит по-русски?
– Как мы с вами. Когда ему минуло двадцать лет (это было в начале сорок восьмого года), он пожелал вернуться на родину. Был в Софии и Тырнове, всю Болгарию исходил вдоль и поперек, провел в ней два года, выучился опять родному языку. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти два года подвергался большим опасностям; я раз увидел у него на шее широкий рубец, должно быть след раны; но он об этом говорить не любит. Он тоже в своем роде молчальник. Я пытался его расспрашивать – не тут-то было. Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В пятидесятом году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими, а потом, когда он выйдет из университета…
– Что же тогда? – перебила Елена.
– А что Бог даст. Мудрено вперед загадывать.
Елена долго не спускала глаз с Берсенева.
– Вы очень заинтересовали меня своим рассказом, – промолвила она. – Каков он из себя, этот ваш, как вы его назвали… Инсаров?
– Как вам сказать? по-моему, недурен. Да вот вы сами его увидите.
– Как так?
– Я его приведу сюда, к вам. Он послезавтра переезжает в нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире.
– Неужели? Да захочет ли он прийти к нам?
– Еще бы! Он очень будет рад.
– Он не горд?
– Он? Нимало. То есть, если хотите, он горд, только не в том смысле, как вы понимаете. Денег он, например, взаймы ни от кого не возьмет.
– А он беден?
– Да, не богат. Ездивши в Болгарию, он собрал кой-какие крохи, уцелевшие от отцовского достояния, и тетка ему помогает; но все это безделица.
– У него, должно быть, много характера, – заметила Елена.
– Да. Это железный человек. И в то же время, вы увидите, в нем есть что-то детское, искреннее, при всей его сосредоточенности и даже скрытности. Правда, его искренность – не наша дрянная искренность, искренность людей, которым скрывать решительно нечего… Да вот я его к вам приведу, погодите.
– И не застенчив он? – спросила опять Елена.
– Нет, не застенчив. Одни самолюбивые люди застенчивы.
– А разве вы самолюбивы?
Берсенев смешался и развел руками.
– Вы возбуждаете мое любопытство, – продолжала Елена. – Ну, а скажите, не отомстил он этому турецкому аге?
Берсенев улыбнулся.
– Мстят только в романах, Елена Николаевна; да и притом в двенадцать лет этот ага мог умереть.
– Однако господин Инсаров вам ничего об этом не говорил?
– Ничего.
– Зачем он ездил в Софию?
– Там отец его жил.
Елена задумалась.
– Освободить свою родину! – промолвила она. – Эти слова даже выговорить страшно, так они велики…
В это мгновение вошла в комнату Анна Васильевна, и разговор прекратился.
Странные ощущения волновали Берсенева, когда он возвращался домой в тот вечер. Он не раскаивался в своем намерении познакомить Елену с Инсаровым, он находил весьма естественным то глубокое впечатление, которое произвели на нее его рассказы о молодом болгаре… не сам ли он старался усилить это впечатление! Но тайное и темное чувство скрытно гнездилось в его сердце; он грустил нехорошею грустию. Эта грусть не помешала ему, однако, взяться за «Историю Гогенштауфенов» и начать читать ее с самой той страницы, на которой он остановился накануне.
XI
Два дня спустя Инсаров, по обещанию, явился к Берсеневу с своею поклажей. Слуги у него не было, но он без всякой помощи привел свою комнату в порядок, уставил мебель, подтер пыль и вымел пол. Особенно долго возился он с письменным столом, который никак не хотел поместиться в назначенный для него простенок; но Инсаров, с свойственною ему молчаливою настойчивостью, добился своего. Устроившись, он попросил Берсенева взять с него десять рублей вперед и, вооружившись толстой палкой, отправился осматривать окрестности своего нового жилища. Он вернулся часа через три и на приглашение Берсенева разделить с ним его трапезу отвечал, что он не отказывается обедать с ним сегодня, но что он уже переговорил с хозяйкой дома и будет вперед получать свою еду от нее.
– Помилуйте, – возразил Берсенев, – вас будут скверно кормить: эта баба совсем стряпать не умеет. Отчего вы не хотите обедать со мною? Мы бы расход пополам делили.
– Мои средства не позволяют мне обедать так, как вы обедаете, – отвечал с спокойной улыбкой Инсаров.
В этой улыбке было что-то такое, что не позволяло настаивать: Берсенев слова не прибавил. После обеда он предложил Инсарову свести его к Стаховым; но тот отвечал, что располагает посвятить весь вечер на переписку с своими болгарами и потому просит его отсрочить посещение Стаховых до другого дня. Непреклонность воли Инсарова была уже прежде известна Берсеневу; но только теперь, находясь с ним под одной кровлей, он мог окончательно убедиться в том, что Инсаров никогда не менял никакого своего решения, точно так же как никогда не откладывал исполнения данного обещания. Берсеневу, как коренному русскому человеку, эта более чем немецкая аккуратность сначала казалась несколько дикою, немножко даже смешною; но он скоро привык к ней и кончил тем, что находил ее если не почтенною, то, по крайней мере, весьма удобною.
На второй день после своего переселения Инсаров встал в четыре часа утра, обегал почти все Кунцево, искупался в реке, выпил стакан холодного молока и принялся за работу; а работы у него было немало: он учился и русской истории, и праву, и политической экономии, переводил болгарские песни и летописи, собирал материалы о восточном вопросе, составлял русскую грамматику для болгар, болгарскую для русских. Берсенев зашел к нему и потолковал с ним о Фейербахе. Инсаров слушал его внимательно, возражал редко, но дельно; из возражений его видно было, что он старался дать самому себе отчет в том, нужно ли ему заняться Фейербахом, или же можно обойтись без него. Берсенев навел потом речь на его занятия и спросил: не покажет ли он ему что-нибудь? Инсаров прочел ему свой перевод двух или трех болгарских песен и пожелал узнать его мнение. Берсенев нашел перевод правильным, но не довольно оживленным. Инсаров принял его замечание к сведению. От песен Берсенев перешел к современному положению Болгарии, и тут он впервые заметил, какая совершалась перемена в Инсарове при одном упоминовении его родины: не то чтобы лицо его разгоралось или голос возвышался – нет! но все существо его как будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обозначалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажигался какой-то глухой, неугасимый огонь. Инсаров не любил распространяться о собственной своей поездке на родину, но о Болгарии вообще говорил охотно со всяким. Он говорил, не спеша, о турках, об их притеснениях, о горе и бедствиях своих сограждан, об их надеждах; сосредоточенная обдуманность единой и давней страсти слышалась в каждом его слове.
«А ведь, чего доброго, – подумал между тем Берсенев, – турецкий ага, пожалуй, поплатился ему за смерть матери и отца».
Инсаров не успел еще умолкнуть, как дверь растворилась и на пороге появился Шубин.
Он вошел в комнату как-то слишком развязно и добродушно; Берсенев, который знал его хорошо, тотчас понял, что его что-то коробило.
– Рекомендуюсь без церемоний, – начал он с светлым и открытым выражением лица, – моя фамилия Шубин; я приятель вот этого молодого человека. (Он указал на Берсенева.) Ведь вы господин Инсаров, не так ли?
– Я Инсаров.
– Так дайте же руку и познакомимтесь. Не знаю, говорил ли вам Берсенев обо мне, а мне он много говорил об вас. Вы здесь поселились? Отлично! Не сердитесь на меня, что я так пристально на вас гляжу. Я по ремеслу моему ваятель и предвижу, что в скором времени попрошу у вас позволения слепить вашу голову.
– Моя голова к вашим услугам, – проговорил Инсаров.
– Что же мы делаем сегодня, а? – заговорил Шубин, внезапно садясь на низенький стул и опираясь обеими руками на широко расставленные колени. – Андрей Петрович, есть какой-нибудь план на нынешний день у вашего благородия? Погода славная; сеном и сухою земляникой пахнет так… словно грудной чай пьешь. Надо бы сочинить какой-нибудь фокус. Покажем новому обитателю Кунцева все его многочисленные красоты. («А его коробит», – продолжал думать про себя Берсенев.) Ну, что ж ты молчишь, мой друг Горацио? Раскрой свои вещие уста. Сочиним мы фокус или нет?
– Я не знаю, – заметил Берсенев, – как Инсаров. Он, кажется, собирается работать.
Шубин повернулся на стуле.
– Вы хотите работать? – спросил он как-то в нос.
– Нет, – отвечал тот, – нынешний день я могу посвятить прогулке.
– А! – промолвил Шубин. – Ну и прекрасно. Ступайте, друг мой Андрей Петрович, прикройте шляпой вашу мудрую голову, и пойдемте куда глаза глядят. Наши глаза молодые – глядят далеко. Я знаю трактирчик прескверненький, где нам дадут обедишко препакостный; а нам будет очень весело. Пойдемте.
Полчаса спустя они все трое шли по берегу Москвы-реки. У Инсарова оказался довольно странный, ушастый картуз, от которого Шубин пришел в не совсем естественный восторг. Инсаров выступал не спеша, глядел, дышал, говорил и улыбался спокойно: он отдал этот день удовольствию и наслаждался вполне. «Благоразумные мальчики так гуляют по воскресеньям», – шепнул Шубин Берсеневу на ухо. Сам Шубин очень дурачился, выбегал вперед, становился в позы известных статуй, кувыркался на траве: спокойствие Инсарова не то чтобы раздражало его, а заставляло его кривляться. «Что ты так егозишь, француз!» – раза два заметил ему Берсенев. «Да, я француз, полуфранцуз, – возражал ему Шубин, – а ты держи середину между шуткою и серьезом, как говаривал мне один половой». Молодые люди повернули прочь от реки и пошли по узкой и глубокой рытвине между двумя стенами золотой высокой ржи; голубоватая тень падала на них от одной из этих стен; лучистое солнце, казалось, скользило по верхушкам колосьев; жаворонки пели, перепела кричали; повсюду зеленели травы; теплый ветерок шевелил и поднимал их листья, качал головки цветов. После долгих странствований, отдыхов, болтовни (Шубин пробовал даже играть в чехарду с каким-то прохожим беззубым мужичком, который все смеялся, что с ним ни делали господа) молодые люди добрели до «скверненького» трактирчика. Слуга чуть не сшиб каждого из них с ног и действительно накормил их очень дурным обедом, с каким-то забалканским вином, что, впрочем, не мешало им веселиться от души, как предсказывал Шубин; сам он веселился громче всех – и меньше всех. Он пил здоровье непонятного, но великого Венелина[20]20
Юрий Иванович Венелин (настоящая фамилия – Гуца; 1802–1839) – выдающийся болгарский историк, лингвист и фольклорист; с 1825 года жил в России.
[Закрыть], здоровье болгарского короля Крума, Хрума или Хрома[21]21
Болгарский князь с 802 года, выдающийся полководец, сражавшийся с византийскими вой сками.
[Закрыть], жившего чуть не в Адамовы времена.

– В девятом столетии, – поправил его Инсаров.
– В девятом столетии? – воскликнул Шубин. – О, какое счастье!
Берсенев заметил, что посреди всех своих проказ, выходок и шуток Шубин все как будто бы экзаменовал Инсарова, как будто щупал его и волновался внутренне, – а Инсаров оставался по-прежнему спокойным и ясным.
Наконец они вернулись домой, переоделись и, чтобы уже не выходить из колеи, в которую попали с утра, решились отправиться в тот же вечер к Стаховым. Шубин побежал вперед известить об их приходе.
XII
– Ирой Инсаров сейчас сюда пожалует! – торжественно воскликнул он, входя в гостиную Стаховых, где в ту минуту находились только Елена да Зоя.
– Wer?[22]22
Кто? (нем.)
[Закрыть] – спросила по-немецки Зоя. Взятая врасплох, она всегда выражалась на родном языке. Елена выпрямилась. Шубин поглядел на нее с игривою улыбочкой на губах. Ей стало досадно, но она ничего не сказала.
– Вы слышали, – повторил он, – господин Инсаров сюда идет.
– Слышала, – отвечала она, – и слышала, как вы его назвали. Удивляюсь вам, право. Нога господина Инсарова еще здесь не была, а вы уже считаете за нужное ломаться.
Шубин вдруг опустился.
– Вы правы, вы всегда правы, Елена Николаевна, – пробормотал он, – но это я только так, ей-богу. Мы целый день с ним вместе гуляли, и он, я уверяю вас, отличный человек.
– Я об этом вас не спрашивала, – промолвила Елена и встала.
– Господин Инсаров молод? – спросила Зоя.
– Ему сто сорок четыре года, – отвечал с досадой Шубин.
Казачок доложил о приходе двух приятелей. Они вошли. Берсенев представил Инсарова. Елена попросила их сесть и сама села, а Зоя отправилась наверх: надо было предуведомить Анну Васильевну. Начался разговор, довольно незначительный, как все первые разговоры. Шубин наблюдал молчком из уголка, но наблюдать было не за чем. В Елене он замечал следы сдержанной досады против него, Шубина, – и только. Он глядел на Берсенева и на Инсарова и, как ваятель, сравнивал их лица. «Оба, – думал он, – не красивы собой; у болгара характерное, скульптурное лицо; вот теперь оно хорошо осветилось; у великоросса просится больше в живопись: линий нету, физиономия есть. А пожалуй, и в того и в другого влюбиться можно. Она еще не любит, но полюбит Берсенева», – решил он про себя. Анна Васильевна появилась в гостиную, и разговор принял оборот совершенно дачный, именно дачный, не деревенский. То был разговор весьма разнообразный по обилию обсуждаемых предметов; но коротенькие, довольно томительные паузы прерывали его каждые три минуты. В одну из этих пауз Анна Васильевна обратилась к Зое. Шубин понял ее немой намек и скорчил кислую рожу, а Зоя села за фортепьяно, сыграла и спела все свои штучки. Увар Иванович показался было из-за двери, но пошевелил перстами и отретировался. Потом подали чай, потом прошлись всем обществом по саду… На дворе стемнело, и гости удалились.
Инсаров действительно произвел на Елену меньше впечатления, чем она сама ожидала, или, говоря точнее, он произвел на нее не то впечатление, которого ожидала она. Ей понравилась его прямота и непринужденность, и лицо его ей понравилось; но все существо Инсарова, спокойно твердое и обыденно простое, как-то не ладилось с тем образом, который составился у нее в голове от рассказов Берсенева. Елена, сама того не подозревая, ожидала чего-то более «фатального». «Но, – думала она, – он сегодня говорил очень мало, я сама виновата; я не расспрашивала его; подождем до другого раза… а глаза у него выразительные, честные глаза!» Она чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а подать ему дружески руку, и она недоумевала: не такими воображала она себе людей, подобных Инсарову, «героев». Это последнее слово напомнило ей Шубина, и она, уже лежа в постели, вспыхнула и рассердилась.
– Как вам понравились ваши новые знакомые? – спросил на возвратном пути Берсенев у Инсарова.
– Они мне очень понравились, – отвечал Инсаров, – особенно дочь. Славная, должно быть, девушка. Она волнуется, но в ней это хорошее волнение.
– Надо будет к ним ходить почаще, – заметил Берсенев.
– Да, надо, – проговорил Инсаров и ничего больше не сказал до самого дома. Он тотчас заперся в своей комнате, но свеча горела у него далеко за полночь.
Берсенев не успел еще прочесть страницу из Раумера, как горсть брошенного мелкого песку стукнула о стекла его окна. Он невольно вздрогнул, раскрыл окно и увидал Шубина, бледного как полотно.
– Экой ты неугомонный! ночная ты бабочка! – начал было Берсенев.
– Тс! – перебил его Шубин, – я пришел к тебе украдкой, как Макс к Агате[23]23
Макс и Агата – герои оперы Вебера «Волшебный стрелок» (1820).
[Закрыть]. Мне непременно нужно сказать тебе два слова наедине.
– Да войди же в комнату.
– Нет, не нужно, – возразил Шубин и облокотился на оконницу, – этак веселее, больше на Испанию похоже. Во-первых, поздравляю тебя: твои акции поднялись. Твой хваленый необыкновенный человек провалился. За это я тебе поручиться могу. А чтоб тебе доказать мою беспристрастность, слушай: вот формулярный список господина Инсарова. Талантов никаких, поэзии нема, способностей к работе пропасть, память большая, ум не разнообразный и не глубокий, но здравый и живой; сушь и сила, и даже дар слова, когда речь идет об его, между нами сказать, скучнейшей Болгарии. Что? ты скажешь, я несправедлив? Еще замечание: ты с ним никогда на ты не будешь, и никто с ним на ты не бывал; я, как артист, ему противен, чем я горжусь. Сушь, сушь, а всех нас в порошок стереть может. Он с своею землею связан – не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! Зато и задача его легче, удобопонятнее: стоит только турок вытурить, велика штука! Но все эти качества, слава Богу, не нравятся женщинам. Обаяния нет, шарму; не то что в нас с тобой.
– К чему ты меня приплел? – пробормотал Берсенев. – И в остальном ты не прав: ты ему нисколько не противен, и с своими соотечественниками он на ты… я это знаю.
– Это другое дело! Для них он герой; а, признаться сказать, я себе героев иначе представляю; герой не должен уметь говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом – стены валятся. И он сам не должен знать, зачем он двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра.
– Что тебя Инсаров так занимает? – спросил Берсенев. – Неужели ты только для того прибежал сюда, чтоб описать мне его характер?
– Я пришел сюда, – начал Шубин, – потому что мне дома очень было грустно.
– Вот как! Уже не хочешь ли ты опять заплакать?
– Смейся! Я пришел сюда, потому что я готов локти себе кусать, потому что отчаяние меня грызет, досада, ревность…
– Ревность? к кому?
– К тебе, к нему, ко всем. Меня терзает мысль, что если б я раньше понял ее, если б я умеючи взялся за дело… Да что толковать! Кончится тем, что я буду все смеяться, дурачиться, ломаться, как она говорит, а там возьму да удавлюсь.
– Ну, удавиться ты не удавишься, – заметил Берсенев.
– В такую ночь, конечно, нет; но дай нам только дожить до осени. В такую ночь люди умирают тоже, только от счастья. Ах, счастье! Каждая вытянутая через дорогу тень от дерева так, кажется, и шепчет теперь: «Знаю я, где счастье… Хочешь, скажу?» Я бы позвал тебя гулять, да ты теперь под влиянием прозы. Спи, и да снятся тебе математические фигуры! А у меня душа разрывается. Вы, господа, видите, что человек смеется, значит, по-вашему, ему легко; вы можете доказать ему, что он самому себе противоречит, – значит, он не страдает… Бог с вами!
Шубин быстро отошел от окошка. «Аннушка!» – хотел было крикнуть ему вслед Берсенев, но удержался: на Шубине действительно лица не было. Минуты две спустя Берсеневу даже почудились рыдания: он встал, отворил окно; все было тихо; только где-то вдали какой-то, должно быть, проезжий мужичок тянул «Степь моздокскую».
XIII
В течение первых двух недель после переселения Инсарова в соседство Кунцева он не более четырех или пяти раз посетил Стаховых; Берсенев ходил к ним через день. Елена всегда ему была рада, всегда завязывалась между им и ею живая и интересная беседа, и все-таки он возвращался домой часто с печальным лицом. Шубин почти не показывался; он с лихорадочною деятельностию занялся своим искусством: либо сидел взаперти у себя в комнате и выскакивал оттуда в блузе, весь выпачканный глиной, либо проводил дни в Москве, где у него была студия, куда приходили к нему модели и италиянские формовщики, его приятели и учители. Елена ни разу не поговорила с Инсаровым так, как бы она хотела; в его отсутствие она готовилась расспросить его о многом, но когда он приходил, ей становилось совестно своих приготовлений. Самое спокойствие Инсарова ее смущало: ей казалось, что она не имеет права заставить его высказываться, и она решалась ждать; со всем тем она чувствовала, что с каждым его посещением, как бы незначительны ни были обмененные между ними слова, он привлекал ее более и более; но ей не пришлось остаться с ним наедине, а чтобы сблизиться с человеком – нужно хоть однажды побеседовать с ним с глазу на глаз. Она много говорила о нем с Берсеневым. Берсенев понимал, что воображение Елены поражено Инсаровым, и радовался, что его приятель не провалился, как утверждал Шубин; он с жаром, до малейших подробностей, рассказывал ей все, что знал о нем (мы часто, когда сами хотим понравиться другому человеку, превозносим в разговоре с ним наших приятелей, почти никогда притом не подозревая, что мы тем самих себя хвалим), и лишь изредка, когда бледные щеки Елены слегка краснели, а глаза светлели и расширялись, та нехорошая, уже им испытанная, грусть щемила его сердце.
Однажды Берсенев пришел к Стаховым не в обычную пору, часу в одиннадцатом утра. Елена вышла к нему в залу.
– Вообразите себе, – начал он с принужденной улыбкой, – наш Инсаров пропал.
– Как пропал? – проговорила Елена.
– Пропал. Третьего дня вечером ушел куда-то, и с тех пор его нет.
– Он не сказал вам, куда он пошел?
– Нет.
Елена опустилась на стул.
– Он, вероятно, в Москву отправился, – промолвила она, стараясь казаться равнодушной и в то же время сама дивясь тому, что она старается казаться равнодушной.
– Не думаю, – возразил Берсенев. – Он ушел не один.
– С кем же?
– К нему третьего дня, перед обедом, явились два каких-то человека, должно быть его соотечественники.
– Болгары? почему вы это думаете?
– А потому, что, сколько я мог расслышать, они говорили с ним на языке, мне неизвестном, но славянском… Вот вы всё находите, Елена Николаевна, что в Инсарове таинственного мало: уж на что таинственнее этого посещения? Представьте: вошли к нему – и ну кричать и спорить, да так дико, злобно… И он кричал.
– И он?
– И он. Кричал на них. Они как будто жаловались друг на друга. И если бы вы взглянули на этих посетителей! Лица смуглые, широкоскулые, тупые, с ястребиными носами, лет каждому за сорок, одеты плохо, в пыли, в поту, с виду ремесленники – не ремесленники и не господа… Бог знает что за люди.
– И он с ними отправился?
– С ними. Накормил их да ушел с ними. Хозяйка мне сказывала, – они вдвоем целый огромный горшок каши съели. Так, говорит, вперегонку и глотали, словно волки.
Елена слабо усмехнулась.
– Вы увидите, – промолвила она, – все это разрешится чем-нибудь очень прозаическим.
– Дай Бог! Только напрасно вы употребили это слово. В Инсарове нет ничего прозаического, хотя Шубин и уверяет…
– Шубин! – перебила Елена и пожала плечом. – Но сознайтесь, что эти два господина, глотающие кашу…
– И Фемистокл ел накануне Саламинского сражения[24]24
В 480 г. до н. э. Фемистокл, афинский полководец, уничтожил персидский флот у острова Саламина.
[Закрыть], – с улыбкой заметил Берсенев.
– Так; но зато на другой день и было сражение. – А вы все-таки дайте мне знать, когда он вернется, – прибавила Елена и попыталась переменить разговор, но разговор не клеился.
Появилась Зоя и стала ходить по комнате на цыпочках, давая тем знать, что Анна Васильевна еще не проснулась.
Берсенев ушел.
В тот же день, вечером, принесли от него записку Елене. «Вернулся, – писал он ей, – загорелый и в пыли по самые брови; но зачем и куда ездил, не знаю; не узнаете ли вы?»
– Не узнаете ли вы! – прошептала Елена. – Разве он говорит со мной?
XIV
На следующий день, часу во втором, Елена стояла в саду перед небольшою закуткой, где у ней воспитывались два дворовые щенка. (Садовник нашел их заброшенными под забором и принес их барышне, про которую ему сказали прачки, что она, мол, всяких зверей и скотов жалует. Он не ошибся в расчете: Елена дала ему четвертак.) Она заглянула в закутку, убедилась, что щенки живы и здоровы и что солому им постлали свежую, обернулась и чуть не вскрикнула: прямо к ней, по аллее, шел Инсаров, один.
– Здравствуйте, – промолвил он, приближаясь к ней и снимая картуз. Она заметила, что он точно сильно загорел в последние три дня. – Я хотел прийти сюда с Андреем Петровичем, да он что-то замешкался; вот я и отправился без него. В доме у вас никого нет: все спят или гуляют, я и пришел сюда.
– Вы как будто извиняетесь, – отвечала Елена. – Это совсем не нужно. Мы все очень рады вас видеть… Сядемте тут на скамейке, в тени.
Она села. Инсаров поместился возле нее.
– Вас, кажется, дома не было это время? – начала она.
– Да, – отвечал он, – я уходил… Вам Андрей Петрович сказывал?
Инсаров глянул на нее, улыбнулся и начал играть картузом. Улыбаясь, он быстро моргал глазами и выдвигал вперед губы, что придавало ему очень добродушный вид.
– Андрей Петрович, вероятно, вам также сказал, что я ушел с какими-то… безобразными людьми, – проговорил он, продолжая улыбаться.
Елена немного смутилась, но тотчас почувствовала, что Инсарову надо всегда говорить правду.
– Да, – сказала она решительно.
– Что же вы подумали обо мне? – спросил он ее вдруг.
Елена подняла на него глаза.
– Я подумала, – промолвила она… – я подумала, что вы всегда знаете, что делаете, и что вы ничего дурного не в состоянии сделать.
– Ну, и спасибо вам за это. Вот видите ли, Елена Николаевна, – начал он, как-то доверчиво подсаживаясь к ней, – наших здесь небольшая семейка; есть между нами люди мало образованные; но все крепко преданы общему делу. К несчастию, без ссор нельзя, а меня все знают, верят мне; вот и позвали меня разобрать одну ссору. Я отправился.
– Далеко отсюда?
– Я за шестьдесят верст ездил, в Троицкий посад. Там, при монастыре, тоже есть наши. По крайней мере, недаром хлопотал: уладил дело.
– И трудно вам было?
– Трудно. Один все упрямился. Деньги не хотел отдать.
– Как? Из-за денег была ссора?
– Да; и деньги-то небольшие. А вы что полагали?
– И вы для таких пустяков за шестьдесят верст ездили? Три дня потеряли?
– То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки замешаны. Тут отказаться грех. Вы вот, я вижу, даже щенкам не отказываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я время-то потерял, это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.
– Кому же?
– А всем, кому в нас нужда. Я вам все это так сбухта-барахта рассказал, потому что я дорожу вашим мнением. Я воображаю, как Андрей Петрович вас удивил!
– Вы дорожите моим мнением, – проговорила Елена вполголоса, – почему?
Инсаров опять улыбнулся.
– Потому что вы хорошая барышня, не аристократка… вот и все.
Настало небольшое молчание.
– Дмитрий Никанорович, – сказала Елена, – знаете ли вы, что вы в первый раз со мной так откровенны?
– Как так? Мне кажется, я всегда говорил вам все, что думал.
– Нет, это в первый раз, и я очень этому рада, и я тоже хочу быть откровенною с вами. Можно?
Инсаров засмеялся и сказал:
– Можно.
– Предваряю вас, что я очень любопытна.
– Ничего, говорите.
– Мне Андрей Петрович много рассказывал о вашей жизни, о вашей молодости. Мне известно одно обстоятельство, одно ужасное обстоятельство… Я знаю, что вы ездили потом к себе на родину… Не отвечайте мне, ради Бога, если мой вопрос вам покажется нескромным, но меня мучит одна мысль… Скажите, встретились ли вы с тем человеком…
Дыхание захватило у Елены. Ей стало и стыдно и страшно своей смелости. Инсаров глядел на нее пристально, слегка прищурив глаза и трогая пальцами подбородок.
– Елена Николаевна, – начал он наконец, и голос его был тише обыкновенного, что почти испугало Елену, – я понимаю, о каком человеке вы сейчас упомянули. Нет, я не встретился с ним, и слава Богу! Я не искал его. Я не искал его не потому, чтоб я не почитал себя вправе убить его, – я бы очень спокойно убил его, – но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет о народном, общем отмщении… или нет, это слово не годится… когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В свое время и то не уйдет… И то не уйдет, – повторил он и покачал головой.
Елена посмотрела на него сбоку.
– Вы очень любите свою родину? – произнесла она робко.
– Это еще не известно, – отвечал он. – Вот когда кто-нибудь из нас умрет за нее, тогда можно будет сказать, что он ее любил.
– Так что, если бы вас лишили возможности возвратиться в Болгарию, – продолжала Елена, – вам было бы очень тяжело в России?
Инсаров потупился.
– Мне кажется, я бы этого не вынес, – проговорил он.
– Скажите, – начала опять Елена, – трудно выучиться болгарскому языку?
– Нисколько. Русскому стыдно не знать по-болгарски. Русский должен знать все славянские наречия. Хотите, я вам принесу болгарские книги? Вы увидите, как это легко. Какие у нас песни! не хуже сербских. Да вот постойте, я вам переведу одну из них. В ней говорится про… Да вы знаете ли хоть немножко нашу историю?
– Нет, я ничего не знаю, – ответила Елена.
– Постойте, я вам принесу книжку. Вы из нее хоть главные факты узнаете. Так слушайте же песню…
Впрочем, я вам лучше принесу написанный перевод. Я уверен, вы полюбите нас: вы всех притесненных любите. Если бы вы знали, какой наш край благодатный! А между тем его топчут, его терзают, – подхватил он с невольным движением руки, и лицо его потемнело, – у нас всё отняли, всё: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут…
– Дмитрий Никанорович! – воскликнула Елена.
Он остановился.
– Извините меня. Я не могу говорить об этом хладнокровно. Но вы сейчас спрашивали меня, люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на земле? Что одно неизменно, что выше всех сомнений, чему нельзя не верить после Бога? И когда эта родина нуждается в тебе… Заметьте: последний мужик, последний нищий в Болгарии и я – мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!
Инсаров замолк на мгновение и снова заговорил о Болгарии. Елена слушала его с пожирающим, глубоким и печальным вниманием. Когда он кончил, она еще раз спросила его:
– Так вы ни за что не остались бы в России?
А когда он ушел, она долго смотрела ему вслед. Он в этот день стал для нее другим человеком. Не таким она провожала его, каким встретила его за два часа тому назад.
С того дня он стал ходить все чаще и чаще, а Берсенев все реже. Между обоими приятелями завелось что-то странное, что они оба хорошо чувствовали, но назвать не могли, а разъяснить боялись. Так прошел месяц.
XV
Анна Васильевна любила сидеть дома, как уже известно читателю; но иногда, совершенно неожиданно, проявлялось в ней непреодолимое желание чего-нибудь необыкновенного, какой-нибудь удивительной partie de plaisir[25]25
Увеселительной прогулки (фр.).
[Закрыть]; и чем затруднительнее была эта partie de plaisir, чем больше требовала она приготовлений и сборов, чем больше волновалась сама Анна Васильевна, тем ей было приятнее. Находил ли на нее этот стих зимой – она приказывала нанять две-три ложи рядом, забирала всех своих знакомых и отправлялась в театр или даже в маскарад; летом – она ехала за город, куда-нибудь подальше. На другой день она жаловалась на головную боль, кряхтела и не вставала с постели, а месяца через два в ней опять загоралась жажда «необыкновенного». То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тревога в доме: нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем; с ним же поскакал и дворецкий закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов; Шубину вышел приказ нанять ямскую коляску (одной кареты было мало) и приготовить подставных лошадей; казачок два раза сбегал к Берсеневу и Инсарову и снес им две пригласительные записки, написанные сперва по-русски, потом по-французски Зоей; сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем partie de plaisir чуть не расстроилась: Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном, фрондерском расположении духа (он все еще дулся на Августину Христиановну) и, узнав, в чем дело, решительно объявил, что он не поедет; что скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцево – нелепость, – и, наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от partie de plaisir, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнатку, говоря: «Утопающий и за соломинку хватается». Его разбудили; он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл пальцами и, к общему изумлению, согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала миленьким; Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал: «Quelle bourde!»[26]26
Какая нелепость! (фр.)
[Закрыть] (он любил при случае употреблять «шикарные» французские слова) – а на следующее утро, в семь часов, карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничная и Берсенев; Инсаров поместился на козлах; а в коляске находились Увар Иванович и Шубин. Увар Иванович сам движением пальца подозвал к себе Шубина; он знал, что тот будет дразнить его всю дорогу, но между «черноземной силой» и молодым художником существовала какая-то странная связь и бранчивая откровенность. Впрочем, на этот раз Шубин оставил своего толстого друга в покое: он был молчалив, рассеян и мягок.









































