Текст книги "Побег из детства"
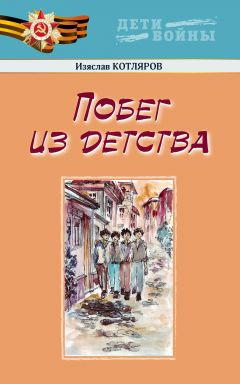
Автор книги: Изяслав Котляров
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Дождь
Столбик, на котором косо висит их калитка, все также клочковато облеплен мохом. Только теперь мох высох. При каждом ударе калитки его кудрявые лохматинки уже не дрожат, а осыпаются белесой пылью. Хорошо бы найти во рву гильзу стреляного снаряда, вколотить в нее второй, наверное, подгнивший столбик. Тогда и калитка выровняется. Лешка придерживает пружинисто выгнутые, словно плетеные, жердочки и опять удивляется своему вербовому прутику, который все больше становится деревцем: и листочки распустил, и веточки со всех сторон побежали. Живет!
Тропинка вдоль огорода уже вовсю зеленеет. Вот это да! Ее топчут и топчут, а траве хоть бы что: прет из-под земли, переплетается. Зато на бабушкиных грядках еще почти пусто. Рыхло чернеют они, но таким сладковато-холодным, сочным запахом дышат, что Лешка недоуменно останавливается, стараясь разгадать его. Он жадно втягивает в себя воздух, смотрит на зеленеющие деревья, на белые у забора, сметенные ветром лепестки отцветающего сада. Ну конечно же, это запах яркого, щедро разрезанного арбуза! Откуда он здесь? Когда-то в Казахстане мама приносила с колхозной бахчи темно-зеленые арбузы, называя их кавунами. С хрустом разрезала один пополам, выпуская из него такой же сладковато-холодный запах…
– Эй, Щегол! – Лешка только теперь заметил за пирамидой березовых дров Толика. – А ну, отгадай, чем сейчас воздух пахнет?
Толик привычно тряхнул головой, откидывая со лба упавшую к глазам челочку, да так и замер, обнимая охапку белеющих поленьев.
– Ну ты и даешь, Леха! Я уж думал, пожар какой тушить надо.
– И хотел бежать туда со своими дровами? – шутливо подхватывает Лешка.
Толик закидывает охапку поленьев на самый верх пирамиды и тоже не скрывает улыбки.
– А ты ничего, догадливый. Вот только помочь никак не догадаешься. Смотри, сколько я их уложил – скоро вровень с забором будет. – Толик стряхивает с вельветовой футболки кусочки березовой коры, обирает застрявшие щепочки. – И двор подмести надо, – неожиданно по-хозяйски заключает он.
– Помочь можно. Почему бы и нет? – охотно соглашается Лешка и сдвигает по локоть рукава рубахи. Не хватало еще насажать на них пятен. От бабушкиных упреков тогда спасения не будет. Но Лешке неприятно думать, что именно так были сдвинуты рукава гимнастерки на волосатых руках Кондрата Павловича…
– Ага! Захотел поработать? – Толик явно доволен неожиданной помощью.
Лешка смотрит и впервые удивляется тому, как незаметно вытянулся Щегол: брючата вельветовые по щиколотку стали. А были длиннющие. Но это ничего, что щупленьким кажется. На турнике «мертвую петлю» лучше всех крутит, а по канату не хуже обезьяны лазает. Все к путешествиям готовится.
– Ну, чего уставился, Лешка? Бери лучше вон те поленья, что у колоды, и мне бросай. – Толик тряхнул челочкой, глянул на облака и в который раз удивил: – А то скоро дождик пойдет.
Вот это да! Ну и Щегол! С чего ему дождик мерещится? Лешка швыряет березовые, ровно разрубленные чурки, а сам все на облака косится. Белые они и лохматые. Плывут себе обыкновенно, лепятся друга на друга, вроде одну огромную снежную бабу скатать решили. Только по краям какая-то чернота обнажилась.
– Щегол, а как зовутся эти облака? – Лешка швыряет особенно заковыристое, суковатое полено. Казалось, оно даже не долетит к Толику, но тот гибко вытянулся всем телом и поймал. Одной рукой удержал. Ну и Щегол! «А вот это? А это?» – мысленно спрашивает Лешка и, почти не поднимая головы, швыряет, швыряет поленья. Но Толик хоть бы что! Удивленно посмеивается да подзадоривает:
– Молодец, Леша-а! Ты как миномет. Пониже чуть-чуть прицел бери, а то снаряды за забор улетят!
Ловко работает. Левой рукой ловит Лешкину чурку, а другую правой, не глядя, в штабель укладывает. И на Лешкин вопрос отвечает:
– А зовутся облака-а эти ку-уче-во-до-ожде-выми. Можешь познакомиться! – смеется Толик. И, все также растягивая слова, поучает: – Они, Лешень-ка, от ку-че-вых. Тех, что и-ног-да лета-ают высо-око-высо-око, так что нам с тобой их и не видно. Километров на десять под-нимают-ся. А потом, как сей-час, набу-ха-ют, тем-не-ют и дождиком становятся…
Действительно, темнеют. Вон и бабушка испуганно выбежала белье с веревки снимать. Ветер гулко хлопает ее передником, будто вытряхивает его. Бабушка неловко прижимает передник руками и, виновато моргая, поглядывает на небо, где уже не плывут, а властно растягиваются набухшие серой темнотой облака. Лешка торопится, пока его не окликнули, добросать Толику последние поленья, но не успевает.
– Это ты, Лешенька? – в голосе бабушки слышится неуверенность. Еще бы! Не так просто узнать его в этом, как сказал Щегол, стреляющем поленьями миномете! Но подтяжки и рубаха гимнастерочная выдают с головой. – Лешенька, я кому говорю? Лешенька! – уже требовательно звучит бабушкин голос.
Но Лешка не разгибается – подхватывает две последние чурки у дубовой колоды и трудно швыряет их Толику. А тот глазом не моргнул – циркач и только! Одну чурку ухватил правой, другую – левой, победно потряс ими в воздухе и уложил куда-то на самую верхотуру. Теперь можно и к бабушке.
– И где это тебя носит нелегкая? На, держи! – бабушка грузит влажное белье на его все еще гудящие руки и ворчит, ворчит. – Даже поесть поленился прийти. Что-то я тебя не узнаю. То от книжки не оторвать, из дома палкой не выгонишь, то пропадаешь невесть где…
Бабушка замолчала, сердито распутывая завернутый ветром вокруг веревки рукав отцовской гимнастерки. А Толик уже двор подметает – поддел метлу на длиннющую палку – и старается, спешит. Хочет смести до дождя все эти щепки и щепочки. А небо!.. Вот это да! Будто затмение какое. Приблизилось к земле черно-серое, без единого светлого облачка, которые еще недавно беззаботно барахтались в синеве. И ветер низкий, колюче-сухой. Песком швыряется, гнет, изгибает деревья, вытягивает испуганно лопочущие ветви.
– Быстрей, Лешенька, быстрей! Я кому говорю? Неси в дом. Положи белье в тазик на лавочке. Веревку сама сниму, – командует бабушка и смешно придерживает рукой серебристый жгут волос. Боится, чтоб ветер его не унес, что ли?
Лешка уже входил в сенцы, когда за спиной как-то облегченно и гулко, будто подковками, зацокали первые дождинки, а ветер, догоняя, пахнул влажной свежестью.
Потом он сидел за привычным кухонным столом, накрытым выцветшей голубоватой клеенкой, и ел свою «богатырскую еду» – кусок черного ноздреватого хлеба, чуть политого подсолнечным маслом. В тарелке, бережно накрытой другой тарелкой, его ждали две рассыпчатые картофелины и тоже две хамсинки. Лешка ел не спеша, привычно пощипывая хлеб. Он заметил, что табурет, на котором стоял прокуренный керогаз, белел широким, стекающим по ножке к самому полу, пятном, и подумал, что бабушка все-таки не успела, видно, к кипящей кастрюле… И стены кухни какие-то серые, тусклые, в следах керогазной копоти. Раньше Лешка не замечал этого. Стены как стены. Думал, что иначе на кухне и быть не может. А вот у Сереги чисто-чисто в столовой. И шкафы потолок подпирают, и за стеклом зеркального буфета всякие там цветастые чашки да блюдца хвастливо блестят…
Вкусный, однако, этот хлеб. И сытный. Столько еды у Сереги слопал, а так и не понял, наелся или нет. А тут сразу ясно. Может, и не стоило туда идти вовсе?
…Казалось, что дождь уверенно проложил в их саду невидимую дорогу и теперь шел привычным, размеренным маршем. Точно подбадривая себя, он стучал барабанным боем по дощатой крыше сенцев, в которых как-то удрученно сидел Толик. Лешка даже не сразу признал его в сером сумраке сеней. Двери были распахнуты и, чтобы ветер не захлопнул их, подперты той самой метелкой, которой Толик подметал двор. В сени занесло всего несколько капелек. Дождь густо летел откуда-то из-за крыши, обрушиваясь у глухо бренчащего умывальника и надетого на жердочку, забытого Матреной Яковлевной, глиняного кувшинчика. Лешка вдруг вспомнил, что давно не видел Толикиной бабки. А ведь ему всегда казалось, что стоит лишь выйти сюда, в сенцы, как обязательно услышит ее недовольное бормотание: «Принесла вас нелегкая…»
– Слушай, Щегол, а где твоя бабка?
Толик молча отодвинулся, освобождая край низенькой скамьи, на которой предупреждающе звякнуло ведро. И только потом, когда Лешка осторожно уселся, не то сказал, не то выдохнул:
– В больнице она… Сердце… Мать еще не знает, наверное. Сегодня с Нюркой обещалась приехать из детского дома. Да вот дождь. Может, и не решится. Дрова прислала. Целую подводу купила. И жратвы немного передала… Может и не приехать.
Значит, Матрена Яковлевна в больнице. Возможно, даже в той палате с окном у крыльца… Лешка изо всех сил старается не думать о больнице. Он заставляет себя представить худенькую голубоглазую с короткими оттопыренными косичками Нюрку – младшую сестру Толика. В коричневом, чуть ли не до самых ботинок платьице, в черном, отглаженном до утюжного блеска переднике, она редко появлялась в их доме. И всегда с мамой – низенькой, располневшей, удивительно непохожей своим веснушчатым лицом ни на Толика, ни на Нюрку и, наверное, даже на бабку Матрену. Хотя кто знает, какой была эта бабка. Может, тоже рыжей. А теперь, как все старенькие, поседела.
Мама Толика и Нюрки каждым своим появлением словно напоминали Лешке о строгой детдомовской жизни, которой ему и Фроське удалось счастливо избежать. Он не раз об этом думал, слушая заикающуюся Нюрку:
– А мм-мы в к-кин-но все в-вместе с-строем ход-дим. И н-на р-речку т-тоже. И н-на з-завтрак, и н-на з-занятия…
«И з-заикаемся т-тоже в-всем с-строем, в-вместе», – хотелось вставить Лешке, но он только покусывал губы, чтобы не удивить и без того смущенную Нюрочку. А вообще-то, ей, наверное, не так уж и плохо было с мамой, которая работала в этом же детдоме то ли учительницей, то ли воспитательницей. Пожалуй, все-таки воспитательницей, потому что стоило ей только появиться во дворе, как сразу же начинала всех шумно воспитывать.
– Ты обрати внимание на свои руки, – говорила она так громко, будто Толик находился не рядом с ней, а, по крайней мере, на другом конце улицы. – Этими руками не то что есть – работать нельзя. Каждый палец твоих рук другого пальца грязнулей обозвать может!
Толик неохотно бренчал во дворе умывальником, а Сергеевна, как ее звала бабушка, уже допекала Матрену Яковлевну:
– Ах, мама, мама! Ну зачем вы ее все в мундирах-то варите? Я же вам острый ножик прислала – почистили бы картошечку. Времени вам не хватает, что ли? Вся посуда от этой экономии портится.
А бабка Матрена в ответ на ее слова только кривила высохшие губы и прятала руки под жесткий брезентовый передник.
Однажды Сергеевна добралась и до Лешки. Бесцеремонно тронула его за подбородок холодными пальцами и спросила:
– А почему мы хандрим? Отличник? И хорошо, и плохо! Наверное, у тебя нет любимого предмета? Все одинаково любишь? Это плохо… Очень плохо. Надо уже знать, чего ты хочешь…
Лешка оторопел тогда от ее холоднющих пальцев, от слов, которыми его впервые ругали за «пятерки». Но самое удивительное было в том, что хиленькая Нюрочка тоже изучающе рассматривала Лешку холодными голубенькими глазками и старательно, как-то по-старушечьи кивала головкой, подтверждая каждое слово мамочки. Ему тогда здорово хотелось подергать ее за оттопыренные косички, расшевелить, чтобы убедиться – умеет ли она хоть бегать. Он с трудом сдерживал себя, думая о неожиданных словах Сергеевны…
– Ох, и шумная женщина! – облегченно вздыхала Лешкина бабушка, когда Толикина мама уходила поучать в свою комнату, как-то особенно выразительно хлопнув дверями.
– Может и не приехать. Куда ей в такой дождь? Да с Нюркой, – угрюмо повторяет Толик и, кажется, еще больше ежится.
А дождь, как нарочно, старается. Каждый листик дождинкой трогает. И тот вздрагивает, будто спросонок, отряхивается от пыли. И запах арбузный еще отчетливее стал. Сладковато-холодный, вкусный такой. Он тоже, наверное, отмылся, очистился… Вот это да! Шу-шшу! Шу-у! Шелестит дождь. Совсем небо собой исчеркал – ничего не видно. Только иногда ветер подстегнет косо летящие дождинки. Они испуганно метнутся к самому забору – и на мгновение чуть-чуть посветлеет. А потом опять возвращаются – веселые, настырные. Хорошо! Хотя, конечно, дождь мог и удружить Щеглу. Обождать мог, пока Сергеевна с Нюркой приедут.
– Ничего, доберутся, – успокаивает Лешка Толика, – не такая твоя мамка, чтобы дождя испугаться.
«Она его укорять станет, что он неправильно льет, и вообще, ни к чему сейчас – зря старается. Ему и надоест. Обидится и убежит дождь куда-нибудь в другое место», – мысленно добавляет он.
– Ну что им стоило, этим кристаллам, ночью из своих облаков высыпаться, – недоумевает Толик.
– Как это? – удивляется Лешка.
– А ты не знаешь? Или уже забыл, откуда дождь берется? Чему тебя только в школе учат, Леха?
Ох, и любит он поучать Лешку! Вот и теперь даже повеселел. Небось, снова о своих путешествиях мечтает. Интересно с ним. Не то что они сегодня с Венькой – все о жратве да о жратве.
– Щегол, а куда бы ты хотел поехать? Ну, не сейчас, а потом…
– Когда геологоразведочный институт окончу? – Толик охотно подхватывает разговор и отвечает совсем обычными, тысячу раз слышанными Лешкой словами: – Да куда пошлют. Может, в Сибирь, на Дальний Восток, на Урал. Мало ли куда?!
Ветер снова замахнулся невидимой плетью, и дождь густой волной припустил к забору, очистив на мгновение краешек светлого неба. Несколько дождинок стукнулось у Толикиных ног и, точно крохотные гвоздики, ушло в дощатый пол сенцев, оставив округлые пятнышки шляпок.
Лешка недовольно ежится от влажного холода. И еще ему совсем не нравится Толикин ответ. «Куда пошлют…» Ну, а сам, сам куда он хочет? Но Толик уже мечтательно улыбается:
– А вообще, Леха, я хотел бы махнуть на Северный или на Южный полюс. Не отказался бы и в Антарктиду. А еще лучше, Леха, знаешь, куда? В тропические леса! – Толик даже возбужденно вскакивает, и Лешка на своем конце скамьи едва не падает на пыльный пол. А ведро не удержалось – загромыхало вовсю. Толик досадливо посмотрел на него и даже поднимать не стал. – Представляешь, там целый год тепло. А леса! Деревья ростом по 50 метров и больше. Под ними прячутся те, что яркого света боятся. А еще ниже кустарники всякие, по стволам лианы карабкаются, ползут. И все там сразу: осень, лето, весна. Одни деревья листья теряют, другие еще только цветут, а на третьих плоды зреют. Там тебе, Леха, и пальмы, и фикусы, и бамбуки, и папоротники. Бананы растут – ешь, сколько хочешь. Это такие плоды мучнистые, как хлеб…
Толик даже захлебывается словами, нетерпеливо стучит ребром ладони об угол скамьи, будто свои слова рубит:
– Правда, и страшно там. Слоны, носороги, обезьяны – это еще ничего. А вот тигры, леопарды, ягуары, да еще в реках – крокодилы, бегемоты… И климат там… Но зато как инте-ересно-о! – чуть ли не нараспев заключает Толик и, наконец, опомнившись, отбрасывает с глаз челочку.
Вот это да! У Лешки даже дыхание перехватило от такого рассказа. И жарко стало, словно над ним уже не дождь раскачивался, а душно струилось тропическое солнце, от которого не могли заслонить и огромные, укутанные лианами деревья.
– Слушай, Щегол, а где эти… Ну, тропические леса… Далеко?
– Здесь, близко… На соседней улице, – угрюмо улыбается Толик. Он уже словно забыл о своем рассказе и снова сердито посматривает на булькающие лужицы, что разлеглись в борозде между грядок.
Лешка тоже обиженно замолчал. Подумаешь, воображала! Сказать ему трудно. «На соседней улице!..» Сам бы, небось, давно и в соседний город помчался, если б там эти леса росли. Важничает, как индюк!
Но Толик и не думает важничать. Он зябко обтягивает на спине вельветовую футболку, потом, как-то совсем по-стариковски согреваясь, трет руки.
– И бабка в больнице… Нет, не приедут. Куда им в такой дождь. Нюрка побоится. Хотя могла бы и не бояться. Не сахарная – не растает… А леса эти, Леха, далеко. В Южной Америке, в Экваториальной Африке, на Малайском архипелаге… Так что не на соседней улице – не добежишь.
Лешка уже хотел ему тоже ответить что-нибудь примирительно шутливое, но, сутулясь, заслоняя собой дверной проем, переступил порог сенцев отец. Он широко распахнул полы шинели, отряхивая дождевые капли, и сердито буркнул что-то, спотыкаясь о ведро, которое они с Толиком так и забыли поднять. Теперь ведро жалобно забренчало.
Отец еще раз тряхнул шинелью, укладывая воротник, и, не оборачиваясь, приказал:
– Лешка, марш в комнату! Есть разговор!
– Дядя Андрей, это не он, это я ведро уронил! Вы не думайте, что Лешка виноват! – Толик держал в руках злополучное ведро, а оно все еще тоненько дзинькало жалуясь.
– Да ладно, ладно… Я не о том… Пошли, Лешка!
И голос у отца странный какой-то. Совсем не такой, как обычно. Словно из нескольких голосов сплетен. И никогда отец Лешку Лешкой не звал, все больше – сын: «Как ты думаешь, сын? А что, если нам, сын, сделать так?» Неужто его это проклятое ведро разозлило? Лешка, недоумевая, распахивает фанерные двери их комнаты:
– Чего тебе, па?
Расплата
Шинель уже лежит на спинке отцовской кровати, нелепо свесив рукава. А руки отца зачем-то сердито расстегивают непослушными пальцами широкий, узорчато простроченный ремень. И рот у него как-то странно искривлен, будто воздуха ему не хватает, что ли?
– Н-насытился сегодня, п-паршивец? Д-да? А вот т-теперь з-закуси ремнем!
Лешка слышит этот сердито заикающийся голос отца и испуганно пятится к дверям. Но ослепляющая боль, кажется, насквозь прожигает Лешкины штаны. Он и опомниться не успел, как очутился на кровати. В лицо душно упиралось байковое одеяло, а за спиной снова знакомо резанул воздух ремень. Лешка весь съежился, пережидая горячий поток боли, сильнее втиснул лицо в одеяло, чтобы не закричать. В третий раз просвистел в воздухе ремень и, словно передумав, обессилено плюхнулся рядом с Лешкой на кровать.
– Нет-нет, так нельзя… Погоди, сын. Что же это такое?! Давай поговорим. Ты хоть сам понимаешь, что ты наделал? Пошел на унижение к человеку, которого я и человеком назвать не могу…
Отец, сутулясь, сидел на своей кровати, подмяв под себя чуть прожженный рукав шинели. В кудрявых черных волосах нервно вздрагивали почти невидимые пальцы.
– Нет, ты представляешь, что ты наделал?! Живот жрать требует? Так ведь есть у тебя еще и голова! Она командовать должна, а не он. Гордость, совесть еще есть, окромя голода! Неужто ты, мой сын, и не понимаешь этого? Да я в твоем возрасте на кожевенном заводе наравне со взрослыми…
Отец встал, и Лешке показалось, что сейчас он снова потянется за этим ремнем. Ну и пусть! Пусть бьет!
– На, бей, бей! Сколько хочешь! Не закричу! Бей! – теперь Лешка уже сам вдавливал лицо в колкий ворс одеяла, глушил и никак не мог заглушить судорожного рыданья.
Ушел, словно тоже вдавленный, загнанный куда-то жаркий стыд, разлилась, растворилась по всему телу внезапная боль. А досада и злость остались. Так хорошо было в полусумрачных сенцах рядом с дождем говорить со Щеглом о сказочном тропическом лесе. А он все испортил. И ремнем еще… Сказал бы… И так сам уже решил, что больше к этому Сереге – ни шагу. Тошно там было. Пусть бьет себе, пусть… Но что это? Фанерная дверца с размаху ударяет по стене – и на пороге испуганно возникает бабушка. Она удивленно и как-то обиженно моргает. Но вот взгляд ее красновато-усталых глаз натыкается на свернутый колечком ремень, и она обессилено охает:
– Ой, горе мне! Андрей, что же это ты?! Как можешь? Много ли тебя отец покойный ремнем потчевал? А? – бабушка трет, вытирает руки о передник и так укоризненно смотрит, словно хочет досказать этим взглядом то, на что ей и слов не хватает. И Лешке уж совсем плакать хочется от растерянных бабушкиных слов. Слезы еще ничего – они тихие. Главное – отвернуться, чтобы лица не видно было. Хуже то, что дышать стал какими-то всхлипами.
– Я отца не позорил! И не хочу, чтобы он…
Отец и не повернулся к бабушке. Все стоит, трогает лбом, наверное, охлажденное дождем стекло окна. И только плечи заметно вздрагивают под обвисающей, освобожденной от ремня гимнастеркой.
– Ох, горе мне! – снова вздыхает бабушка и, как маленькому, промокает Лешке глаза своим уже влажным платочком. – Что же он с тобой сделал, внучек? Дождался отцовской ласки! Дождался…
– Не смей так, мама! – теперь отец оглядывается, и на его впалых, плохо выбритых щеках то возникают, то снова гаснут красные гневные пятна. – Не смей! Спроси лучше, что он натворил! Ты только представь себе: как нищий, пришел в дом Кондрата Шивцева обедать. Он же предал меня. Понимаешь, мать, пре-едал! У меня с этим Кондратом принципиальное несогласие. Немцам был верным псом. В полиции два года пробыл. И не пробыл, а служил! Теперь считает, что за все уплатил по советским законам. Воевал в штрафбате, отсидел в лагерях. И даже хотел на довоенную должность вернуться. Война, мол, все списала. Сейчас, дескать, новая жизнь. Просил меня посодействовать. Наглость какая! Я его с треском за двери выставил! А этот, сопляк, к нему с поклоном. Не могу-у! Да ты представляешь, сын, если бы мы на фронте делали, как нам лучше?!
– Уймись, Андрей. Он ведь ребенок еще. А ты к нему – со своей партийной колокольни, – уже тихо, как-то примирительно говорит бабушка. – Забыл, что ли, выше лба уши не растут.
– Да какой он ребенок?! Парень уже. И понимать должен, что совесть, честь и гордость не порожние слова. Думать должен! Эх, да что я тебе, мать, говорю?! Сама меня с отцом этому учила…
Он взял с этажерки какую-то книгу и снова отвернулся к окну. А у бабушки по извилистым морщинкам дряблых щек побежали слезы.
– Пойдем, внучек, ко мне, – она опасливо косится на свернутый колечком ремень и обнимает Лешку за вздрагивающие плечи.
Бабушка так и не отпустила его до самой кровати, поддерживая, как больного. Может, потому и встретила их Фроська сочувствующим взглядом. Приподняла над подушкой лохматую голову, сдула с глаз кудряшки и шепчет:
– А я все слышала… Очень больно было?
Слышала… Сквозь такую фанерную перегородку не то что это – жужжание мухи различить можно. Но он ничего не отвечает. Да и как ответишь, если в горле пересохло. Лешка только горестно кивает головой и вежливо просит:
– Ба, дай, пожалуйста, воды…
И пока бабушка суетливо семенит на кухню, Фроська успевает ошарашить его еще одним вопросом:
– А что, Леша, у Кондрата там вкусно было?
И вправду, видать, все слышала. Теперь будет донимать его этим обедом. Ну почему, почему, что ни сделаешь – все какие-то свои корни пускает? Наперед забежать норовит, прижиться хочет, как та вербовая веточка, которую он бездумно ткнул тогда у самой калитки. Лешка сидит на краешке бабушкиной кровати и ему плакать хочется от неожиданно подступившей обиды. Ну, всыпал ему отец! Уплатил за свое. Но нет! Та же Фроська еще не раз попрекнет его тем обедом. «Вкусно было?» – допытывается. И потом не отстанет. Выходит, нельзя сразу ни за что сполна рассчитаться. Долго платить надо. Но почему? Вот всыпали ремня, так, может, хватит? Лешке вдруг показалось, что он кричит этот вопрос. Громко, надрывно. Только не своим, а неприятным, каким-то простуженно-надтреснутым голосом: «Так, может, хватит меня прошлым под девятое ребро колоть, а?» Это же Кондрата Павловича голос! Уж он-то, конечно, хочет, чтобы не помнили, не попрекали, чтобы вся его служба у немцев вместе с войной ушла. Но разве можно забыть, если даже какой-то дурацкий обед и то будут помнить…
Вот это да! Захотел уже, как Серегин батя. Но Серегиного бати ему, Лешке, и теперь не жаль. Куркуль он и предатель! Предатель? Так ведь и на него самого отец только что кричал там, в комнате. «Понимаешь, мать, он ведь меня пре-едал! Понимаешь, пре-едал!» Лешка вспоминает эти слова, и они, как пощечины, жарко бьют по лицу.
Расплываются, растягиваются полоски света от крохотного дрожащего язычка пламени под закопченным стеклом. Яркий мотылек все тянется к этому стеклу, звонко ударяется о него и, обжигаясь, отлетает, а потом – опять, опять… «Чего он, крылатый дурачок, в форточку вылететь не может?» – досадует Лешка.
– Пей, внучек, острожно – холоднющая вода. Отец сходил – только что из колонки, – приговаривает бабушка. А стакан, как живой, дергается в Лешкиной руке и о зубы стучит. Даже Фроська глазищи удивленно на него приподняла.
– Вот так, внучек, вот так, – успокаивает бабушка и незаметно стакан поддерживает. – Поспишь сегодня на моей кровати. А я с Фроськой лягу.
Все в комнате почти такое, как в отцовской: и кровати с досками вместо пружинистых матрацев, и стол колченогий – тоже газетой застлан. Вот только этажерки с книгами не хватает. Но зато над Фроськиной кроватью коврик висит. Давнишний еще. Наверное, довоенный. Мишки на нем косолапые по деревьям лазают. Резвятся. Медведица куда-то в лес уставилась – сторожит, видно… А постель у бабушки помягче. Сена здесь больше, что ли? Или ворочает она его – слежаться не дает? И его, Лешку, учит ворочать. Да зачем? И так спится. Ну и подушка! Голова проваливается. Пуховая она у нее? Вот это да! И простыня мылом пахнет. Чистенькая…
Бабушка в одной ночной рубашке, худенькая, как девочка, наклоняется и громко хукает над стеклом лампы.
– Спать, детки, спать…
За стенкой грузно ворочается отец. Тоже не спит. Все еще сердится и, наверное, какие-то слова ему, Лешке, мысленно говорит. Ругает обиженно… А он и сам понимает. Как заметил ту стеклянную веранду – убежать хотел. Да калитка удержала. Пускай бы себе открывалась… И за столом натерпелся, наслушался. Ненавидят они батю – факт. Кондрат даже кулаком по столу колотил – до того ненавидит. Может, потому, что бате не надо от прошлого отказываться – все там было правильно. А Кондрату без такого отказа никак нельзя.
Вот-вот. Опять отец ворочается. Слышно, как доски под соломенным матрацем хрустят, будто сонно потягиваются. Приснятся ему сегодня, чего доброго, не война, а Кондрат, тетя Ксеня, Серега и он, Лешка. Запросто. Бабушка говорила, что чаще всего снится то, о чем волнуешься… Не спится бате. И ему, Лешке, тоже. А тут еще луна уставилась. Прямо поверх цветастых бабкиных занавесок заглядывает. Разлила пятнышко желтого света у самой лампы по газете. Да так ярко, хоть читай эту газету. И еще по потолку прожектором будто шарит. Лучи у луны есть, что ли? Как это она? Лешка заглядывает в окно и видит – раскачиваются, беспокойно ворочаются ветви. Качнутся – заглянет луна, выпрямятся – прогонят ее. Вот и суетится светом на потолке. Здорово Лешка разгадал ее. Так бы и Веньку вовремя разгадать. Правильно бабка твердила: «Втянет он тебя в какую-нибудь паршивую историю!» Чего уж там – втянул! По самые уши…
– Да успокойся ты! Чего елозишь? – прикрикивает бабушка на Фроську. Неудобно ей, видно, там спать. Не то, что здесь, где даже подушки не чувствуешь – такая она мягкая.
– Ба, плохо тебе. Может, я к себе пойду? – шепчет Лешка, хотя идти ему совсем не хочется.
– Спи себе, Леша. Когда спишь, меньше грешишь, понял? – голос у бабушки весело дрогнул. Улыбается она там, что ли? Но самой, видно, не очень-то спится. – А можно и просто полежать, подумать. Поле-езно бывает. Оно ведь как: иной раз кажешься себе самым разнесчастным человеком. А потом подумаешь, что еще хуже бывает или быть могло. И даже стыдно становится… Я вам детки, одну историю расскажу. А вы запомните ее. И сами прикиньте, что к чему.
Бабушка замолчала, поправляя скомканное Фроськой одеяло, и начала медленно, будто вовсе и не рассказывала, а напоминала себе вслух что-то почти забытое.
– Было это давно. Еще в пору моего детства. Жили мы тогда в городском местечке. Ох, и голодно жили! Нередко целыми днями ни посуды, ни горшков мыть не приходилось. Ибо без надобности они. Чистенькие хранились… Ну, я однажды и набедокурила. – Бабушка снова замолчала, как бы раздумывая, говорить или нет. А Фроська уже нетерпеливо и радостно торопит, переспрашивает:
– Ты, бабушка, набедокурила? А как это?
– Ладно, ладно расскажу, коль начала. Не елозь только, пожалуйста. – Бабушка еще долго пережидала, пока успокоится Фроська, а потом продолжила: – Было мне тогда, наверное, не больше, а может, и чуть меньше годиков, чем нашему Лешке. Не помню того дня, чтоб есть не хотелось. Все о еде проклятой думала. Зоське Ковенковой завидовала. Батя ее землю свою имел, мельницу у помещика арендовал. Сытно жили. Зоська та плюгавенькая была, и волосики у нее на голове даже не росли, а как-то торчали. Реденькие такие. Иногда мне казалось, что она за всех нас объедалась. Всюду с едой ходила. То пряник жует, то булку какую-нибудь уминает, то леденец посасывает. А мы, голодранцы, ей только с завистью в рот заглядывали. Ну, я однажды и уговорила ее стащить для меня булку. Принесла она сдобу – пышную, ароматную. И даже не булка это была, а кулич, который ее мама святить в церкви собиралась. Спохватилась, а кулича-то нет. Умяла я его почти весь. Едва подружек своих – Соню да Машу – угостить успела. Дозналась Ковенчиха, кто ей такое святотатство учинил, и к нам заявилась. Сама меня прутом и отстегала. Потом еще батя добавил сгоряча. В общем, запомнился мне тот кулич…
Ветер на улице окреп – сильнее закачались за окном ветви, и по потолку особенно ярко заскользил лунный свет. Бабушка, видно, тоже заметила эти лунные сполохи и, наблюдая за ними, приумолкла. А может, просто утомилась, или снова Фроська ее побеспокоила? Но до чего же интересно! Оказывается, и бабка в детстве могла учудить. Здорово Зоську уговорила, раз та целый кулич сперла. С маком, наверное, был. Ну и бабка! Вот это да!
– Ты там не уснул, Лешенька? Я кому говорю, Лешенька? – нетерпеливо окликает его бабушка и даже голову над подушкой приподнимает всматриваясь.
– Ну что ты, бабушка?! И не хочется вовсе. Дальше что было? Ты рассказывай, – просит Лешка.
– Да уж расскажу, расскажу. Ради этого и начала, – почему-то вздыхает бабушка. – В тот вечер я себя ненавидела. Да и на других обиду затаила. А тут мама подходит. Обняла меня, посадила с собой рядышком у раскрытой плиты. Горят себе дрова – ярко так, искорками швыряются. А мама сидит чуть раскачиваясь, вспоминает одну историю, ради которой я и затеяла с вами этот разговор…
Жил один очень недовольный человек. Все ему казалось плохо и мало. Однажды утром встречает он священника и жалуется: «Тесно, батюшка, в моей избе. Как быть – ума не приложу. Строиться – ни сил, ни леса нет». А тот ему и советует. «Корова есть? Вот и введи в избу корову!» Удивился человек такому совету. Но все-таки послушался – ввел корову. А утром снова батюшку поджидает. «Еще хуже стало, милосердный! Корова пол-избы заняла. Мычит и этими лепешками пол устилает!» А священник ему новый совет: «Свинья есть? Введи и свинью!» Не стал спорить человек. Ввел и хавронью. А утром ждет не дождется своего советчика. «Совсем измаялся, батюшка! И мычит, и хрюкает. Не то изба, не то хлев. Дети ночью глаз не сомкнули!» А священник только бороду поглаживает, усмехается. «Это хорошо, – говорит. – А куры у тебя есть?» – «Есть и куры, милосердный, – отвечает. – Неужто их тоже в избу пустить?» А батюшка одобрительно головой кивает: «Вот именно – непременно пусти и кур!» Целую ночь мужик глаз не сомкнул: и мычит, и хрюкает, и кудахчет изба. Детки испуганно ревут, жена сумасшедшим зовет. Не дом, а содом. Дождался, наконец, священника. Тот его послушал, горю посочувствовал и велел вывести из хаты корову. На следующее утро мужик повеселел легонько. «Спасибо, – говорит, – милосердный, уже просторнее стало. И не мычит вовсе!» – «А теперь свинью убери!» – командует священник. Убрал хавронью – и пуще повеселел человек. А когда и курей выгнал, совсем счастливым себя почувствовал. «Тесно ли тебе, мужичок, теперь?» – допытывается батюшка. «Что ты, милосердный! Куда как хорошо: и не мычит, и не хрюкает, и не кудахчет. Просторно и чисто стало!» – «Ну вот, а ты жаловался. Живи себе с Богом!»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































