Текст книги "Побег из детства"
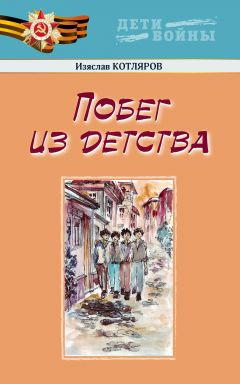
Автор книги: Изяслав Котляров
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Мама
Мама… Лешка помнил ее, конечно, не только в то свое капризное утро, когда так глупо воротил нос и от манной каши, и от булки с маслом, и даже от румяного кулича. Надо же! Кто знает, может, поешь он тогда, как следует, – и сейчас бы не мутило от голода. Лешка все еще досадует на самого себя, а память как бы высвечивает в темноте лицо матери…
Вот они куда-то бегут. Качается и пропадает в удушливом дыму дорога. Ни дождя, ни грозы. А небо все в огненных пересверках. Топот бегущих ног, сплошной несмолкаемый крик, истошный вой, металлический скрежет – все это сливается в протяжное и стонущее: «А-а-а! А-а-а!» Лешка испуганно ерзает на маминой руке, жмется к ее мокрому от слез лицу. Маминых ног совсем не видно в черном дыму, в разворошенной пыли. Кажется, что все они вовсе и не бегут, а плывут в этой бездонной черноте и тонут, тонут… Потом Лешка вдруг замечает, что мама волочит какой-то узел, за который держится и тоже плывет, барахтается Фроська. Лица сестры он не видит, лишь ярко-белый бант нелепо высвечивается. Она что-то кричит, но Лешка ничего не слышит. Только мама вдруг выпускает серый, словно клуб дыма, узел с вещами, хватает Фроськину руку, и они каким-то чудом скатываются прямо к запыхавшемуся краснополосому паровозу.
Он не помнит больше ничего из этого горящего войной времени. Ну конечно же, они ехали, млели от жары, мучились от голода. Но Лешка не помнит. Будто и не было ничего такого в его жизни.
А потом – Казахстан. Теперь он знает, что это одна из советских республик. И что фашистов туда не пропустили. А тогда была просто серая степь прямо у порога глинобитного домика, в котором они с сестрой и матерью прожили несколько военных лет…
Мама… Она помнится ему худенькой, высокой, может быть, потому, что сам он был тогда еще совсем мал. В глазах ее, будто до блеска вымытых слезами, жила такая тревога! Странно, но он яснее всего помнит эти карие, тревожно округленные глаза. Помнит их совсем близко от своего разгоряченного лица. Лешка никак не мог охладить его о колкую, набитую соломой подушку. Тогда он лежал на какой-то скользкой кафельной плите, с ужасом чувствуя, как все больше набухает язык и полнится рот разбухшими деснами.
Он еще ничего не знал о своей болезни, которую все называли непонятным и страшным словом «цинга». Не знал и того, что, спасая его, мать отнесла на базар свое лучшее платье. Продала ради щепотки соли и нескольких крохотных головок чеснока. Она натирала ему этим чесноком десны, и слезы срывались с ее глаз. А Лешка скользил лохмотьями по плите, не понимая, зачем мама делает ему еще больнее…
Теперь Лешка досадует на самого себя. Ну как это его память смогла растерять столько событий! Да и то, что видится – видится ему смутно. Как на снимках Толика Щеглова. Недавно Лешка видел их – серые, точно занавешенные туманом квадратики. На одном проступают только чьи-то глаза, на другом – рука с чуть различимым ведром, на третьем – то ли дом без крыши, то ли стена какого-то сарая. Все смеялись над Толиком и над его крохотным немецким фотоаппаратом. Фроська даже горе-фотографом обозвала, никак не желая признать в руке с ведром свою руку. Толик оправдывался отсутствием резкости, смущенно комкал хрусткие квадратики. И вдруг достал из черного пакетика такую фотографию, что все они только рты раскрыли. Вот это да! Матрена Яковлевна! Она глянула на них всем своим сухоньким, исчерканным морщинами лицом, прищуренными узенькими глазками. Все было, как есть: и завязанная плотным узлом косынка, и жесткий брезентовый передник. Лешке даже показалось, что сейчас она разомкнет тонкие, почти невидимые губы и недовольно буркнет свое обычное: «Принесла вас нелегкая…» Но, пожалуй, самое удивительное было то, что за спиной Матрены Яковлевны отчетливо виднелся и забор с перекошенной калиткой, и даже глиняный кувшин, который Лешка совсем недавно повесил сушиться на одну из березовых жердочек…
Вот так и Лешкина память. То вдруг выставит перед глазами какой-то вагон, какие-то полки, с которых свисают удушливо пахнущие пóтом лохмотья, то грязное, в подтеках черной копоти, вагонное окно. Все, летящее мимо него, тоже кажется измазанным. Да и сам Лешка, наверное, коснулся лицом этой въедливой копоти, потому что мама незнакомо смеется, слюнявит свой платочек и трет, трет им Лешкины щеки… Потом опять все неясно, расплывчато. И вдруг всплывает в памяти новенькое крыльцо, вокруг которого еще кудрявятся золотистые стружки. Видится доброе и грустное лицо какой-то женщины. Вот она протягивает Лешке ломоть желтовато-белого пышного хлеба. Фроська, вся закутанная, словно плащ-накидкой, серым байковым одеялом, бережно ломает свой кусок, шепеляво приговаривая: «Мама, на, шпрячь. Это Шашке. А Шемке?» И тогда женщина выносит еще два ломтя! Ну и хитрюга эта Фроська! Выдумала каких-то Сашку да Семку. А мама испуганно заталкивает под шапочку темную прядь, суетливо дергает Фроську за руку.
И еще видится какая-то лошадь в белом игольчатом инее да черные следы копыт на снегу, которые будто пробили собой зиму… Опять вагон. Но теперь уже сизый от дыма. Двор – весь в кирпичной пыли. А рядом огромная гора битого кирпича, красных досок, ржавого железа. Между двумя кирпичинами весело брызжет искорками огонь. Мама плещет из кастрюли на шипящую сковороду тертым картофелем, и у Лешки голова кружится от горячего запаха. Он обжигается, перебрасывает с ладони на ладонь румяные драники.
Где это? Когда такое с ним было? Лешка никак не может по-настоящему узнать себя в зыбких, ускользающих воспоминаниях. Наверное, точно так же, как не может Фроська узнать своей руки на Толиной фотографии. Но есть у него, Лешки, воспоминание – отчетливое, словно тот снимок Матрены Яковлевны.
Базар… Он обрушился на Лешку скрипом телег, истошным визгом упрятанных в мешки поросят, испуганным гоготом связанных гусей, перепутанными орущими голосами, тоненьким звоном стекла, сердитым ржанием коней и горестной просьбой: «По-одай-те сле-епому ка-алеке!» Суматошная толчея подхватила и понесла Лешку среди бренчащих медалями кителей, промасленных телогреек, пестрых цыганских юбок, вдоль дощатых прилавков, заваленных полосатыми арбузами, бледными дынями, краснобокими яблоками, огненными помидорами, солнечными тазами, зелеными корзинами, черными сковородами, синими резиновыми бахилами…
– Мамочка! – Лешка испуганно закричал, уже почти не чувствуя своих онемевших пальцев в руке матери, все больше путаясь в тяжелом длиннополом ватнике. – Ма!..
Оглушенный и ослепленный базаром, сдавленный чьими-то спинами, локтями, тугими свертками, шершавыми мешками, Лешка теперь боялся только одного – оторваться от спасительной руки матери.
Но вот отплыла в сторону огромная, как лодка, корзина, в которой сидели гуси с длинными, вытянутыми шеями. Отступила чья-то спина в черной кожанке – и они будто на поляну вышли. Рядом сердито клокотала, шутила, смеялась, переругивалась, сорила семечками и сдавленно текла мимо толпа. Ветер лениво трогал раскиданные им же клочья рыжеватого сена. Пегая низкорослая лошадка распряженно стояла между опущенными оглоблями и воровато выдергивала сено из-под сидящей на телеге бабки. Лошадка скосила на Лешку большим круглым глазом, как бы говоря ему: «Вот видишь, так жрать хочется, а она подмяла под себя самое лучшее сено. Выщипываю помаленьку».
Бабка торговала яблоками. Она была вся окружена ими, как дерево, краснобокими, желтыми, розовыми… Стучали о чашу весов черные гири. Виновато опустив рогатую голову, стояла привязанная к столбу корова…
Маленькое красное яблочко вдруг сорвалось с весов и покатилось прямо под ноги Лешке.
– Трымай, хлопчык, гэта твае! – крикнула ему бабка.
Лешка отпустил мамину руку, наклонился к колесу телеги и оторопел: рядом с яблоком лежали… деньги! Красновато-зеленые, плотно смятые в комок, они торчали из-под серебристого обода. Деньги? Сколько раз мама безжалостно обрывала все его просьбы одними и теми же словами: «Нету денег, нету-у, понимаешь, сынок?» Но вот они, эти деньги! Лешка накрыл их рукой и словно обжегся. Отдернул руку. Снова накрыл. Зажал в кулак и понес его маме. А мама испуганно смотрела на него, зачем-то трогала ладонями свои щеки, беспокойно оглядывалась. Лешка подошел к ней и осторожно опустил разбухший кулак в карман маминого пальто. Судорожно разжал пальцы. И тут же заметил деньги у маминых латанных и перелатанных резиновых ботиков. Лешка снова поднял хрустящий комок и снова опустил его в тот же карман. А он опять увесисто шлепнулся у маминых ботиков. Лешка наклонился, но чьи-то грязные, бородавчатые пальцы из-под самой его руки выхватили деньги. Звонко ударили по холодной, гулкой земле босые ноги, затрепетали по ветру клочья рубахи. И вот уже где-то за рыжим косогором, за черной трубой водокачки ныряет в осеннюю синеву взъерошенная голова босоногого мальчишки. Бегут, убегают Лешкины деньги, не купленные ливерные пирожки, арбузы, дыни…
– Дурак, дурак! – взрывается криком Фроська и даже платок сдвигает с лица, чтобы кричать лучше было. – Дурак, дурак! Ну чего ты туда совал?! Чего?! Ведь этот карман дырявый! Дырявый!
А мама все так же оцепенело стоит, трогая свою желтую шляпку с черной шелковой лентой. На впалом лице то жарко вспыхивают, то гаснут алые стыдливые пятна. Дырявый… Дырявый… Ну конечно же… Как это он не понял сразу?!
– Хлопчык, бяры! То ж твае яблыка! – снова кричит ему бабка с подводы.
А он и сам видит то яблоко. Маленькое, красное. Вон оно у обода, почти там, где только что лежали деньги. Но Лешка не может сделать и шага… Дырявый… Дырявый… А мама? Что же она? Почему не задержала рукой те деньги?
Бьют Лешку со всех сторон вкусные запахи жареных пирожков, сладких сочно-красных арбузов… Почему? Задает он себе все тот же вопрос и сегодня. Ведь могла задержать. Могла! И, может быть, те деньги помогли бы ей самой вы-жить, вы-жить! Что помешало тогда матери? Какое чувство? Неужто то самое, которое заставило и отца вытряхнуть сегодня две горсти фасоли из Лешкиной торбочки в конторский и без того полный мешок? Ну конечно же… Лешка еще не знает, как называется это чувство. Но он обязательно узнает и постарается понять его. А в памяти всплывает и то, от чего зябкий страх и сегодня – уже осознанно – знобит спину.
Под расстрелом
– Женька! Топчи к нам. У нас тут компания неполная: два офицера и одна я – рядовая! – кричит, пьяно хохоча, их соседка Марья Павловна. От ее крика и смеха вибрирует даже тоненькая фанерная перегородка. Мама тоже испуганно вздрагивает, обнимая его и Фроську, словно ищет себе защиты. Молчит, не откликается.
– Женька! Ты что, оглохла? Да оставь своих голодранцев! Посиди с нами! – не унимается голосистая соседка. – У нас тут жратва, какая тебе и не снилась.
– Можно не только посидеть, но и полежать, – противно хихикает уже знакомый мужской голос. – Да что ты надрываешься? Сейчас я ее под пистолетом приведу. Отказывать советскому офицеру-победителю никому недозволено.
Загромыхала сердито отброшенная табуретка, но, прежде чем распахнулись фанерные, обитые деревянными брусочками двери, мама успела затолкать его с Фроськой под кровать, застланную досками и сенным матрасом. Успела и сама нырнуть к ним. Теперь Лешка видел только пыльный сапог офицера. В какое-то мгновенье показалось, что именно им он может случайно ударить его по лицу. И Лешка в испуге отшатнулся, задев сестру локтем. Та недовольно зашевелилась, что-то проворчала. И офицер их обнаружил.
– Так вот вы где! Под кроватью лучше валяться, чем разделить компанию с боевым офицером?! А ну, вылазь! Все! Я с вами поговорю иначе. По-нашему, по-фронтовому!
Довелось выбираться. Лешка с удовольствием выскочил первым. Тесниться под кроватью ему вовсе не хотелось. Тем более что из распахнутых дверей ошеломляюще пахло американской свиной тушенкой. Запах этот ему был хорошо знаком. Совсем недавно именно Марья Павловна им вынесла початую жестяную банку этой вкуснятины и сказала Лешкиной маме: «Я не рискую есть. Дня два стоит эта жестянка открытой. А ты сваргань какой суп своим голодранцам. Съедят, небось, не отравятся…» Суп действительно был что надо. Правда, сколько ни старался Лешка зачерпнуть мясо со дна кастрюли, ничего не получалось. Растворилось оно, словно исчезло, оставив только вот этот ошеломляющий запах. И теперь Лешка тоже с голодной жадностью вдыхался в него, совсем забыв о пьяном офицере. А мать, расправляя помятую клетчатую юбку, выговаривала пришельцу: «Я не могу оставить детей. И вообще, не могу. Не по мне это. Я жена такого же фронтовика! Оставьте нас, пожалуйста, в покое. Вы не смеете!..»
– Это я-то не смею?! Что ты, дурочка, мелешь? Я все смею!» – он резко повернулся, едва не упав. И только теперь Лешка заметил в его правой руке немецкий пистолет «Вальтер». Точно такой он видел у кого-то из вернувшихся фронтовиков. Вот это да! Подержать бы его в руках! Но разве попросишь? А между тем тот их гнал уже к погребу. Наклонился, рванул на себя разбухшую от сырости крышку люка и, отбрасывая ее, едва сам не свалился в дохнувшую мраком яму. Лешка даже хотел было удержать его, но тот уже стоял поодаль, грозно размахивая пистолетом:
– А ну-ка, становитесь! Вот здесь! – и ткнул маму в плечо дулом пистолета.
В ответ она зашлась таким криком, какого Лешка от нее никогда не слышал:
– Ты что это, пьяный дурак, задумал?! Вернется муж с фронта, он тебя живого в клочья разорвет! – на ее щеках кругами проявлялись и исчезали красные гневные пятна.
Но кривоногий офицер словно и не слышал ее:
– Щас замолчишь, сучка! Навсегда замолчишь, – бормотал он, вращая перед матерью пистолетом. Маленькие рыжие глазки его прицельно щурились.
И тогда она отчаянно закричала в приоткрытые двери соседней комнаты:
– Марья, черт тебя побери! Успокой этого пьяного дурня!
– Мамочка, я боюсь! Я не хочу, чтобы меня стреляли! – истошным криком вдруг зашлась рядом с ней и Фроська.
Заскрипели, будто застонали, пружины матраца и, на ходу затягивая ремнем гимнастерку, появился, недовольно щурясь, капитан.
– Ну, что тут у вас происходит? Погоди, Николай. Чем ты собираешься их стрелять? Покажи? – он ловко забрал из дрожащей руки пистолет. Отвернулся на мгновение. Что-то покрутил в нем, высыпая себе в ладонь пули, и возвратил пистолет другу. – На, теперь можешь стрелять.
Капитан заспешил к Марье Павловне, а офицерик в бессильной ярости щелкал и щелкал курком, напрасно целясь в них. И Лешка не переставал улыбаться. Ему с самого начала казалось, что дядя шутит. Зря мама подняла такой крик. Сколько раз они с пацанами вот так играли в войну, целясь друг в друга игрушечными пистолетами. Правда, на этот раз пистолет-то был настоящим. Но разве мог бы советский офицер стрелять в них?! Ерунда какая-то!
А между тем их конвоир уже сам бежал в соседнюю комнату с криком:
– Ленька, что ты сделал с моим пистолетом: не стреляет!
Мама не стала терять ни минуты. Подтолкнула их к входным дверям, спасительно распахнула и заставила бежать за собой в сияющую снегом тьму ночи. Она хватала, прижимала к себе на бегу то Лешку, то Фроську, захлебывалась словами: «Это ж что пьяный дурак придумал?! Пережить эвакуацию и почти всю войну… Вернуться на родину и погибнуть от дурных рук своего же офицера!.. Нет, я не могу этого представить! Не могу-у!..»
– Мамочка, мне холодно! – напомнила о себе Фроська. – Куда мы бежим?
– И действительно, куда? – приостановила она их на мгновение. – Надо в другую сторону. К тете Фене. Больше не к кому.
Окна в избе маминой сестры были уже темными, но мать решительно постучала. На встревоженный отклик: «Кто там?» – ответила слезно: «Открой, Фенечка, это я с детьми. Потом все расскажу…»
Едва выслушав сбивчивый рассказ матери, тетя Феня решительно погасила свет:
– Забирайтесь на печь, а я уж на топчане переночую. И тихо. Неровен час и сюда заявится ваш добродетель паршивый! Прости, сестра, покормлю я вас утром. Чем Бог послал. А сейчас лучше не искушать судьбу. Спите.
И вскоре сама показала пример быстрого засыпания: захрапела так, что капризная Фроська, как всегда, не выдержала первой: «Ма, ну чего она так? Поди, разбуди ее, пусть повернется, тогда и храпеть перестанет», – попросила она. Но мать словно и не расслышала ее. «Это ж надо! Что надумал пьяный дурак! Расстрелять нас перед погребом… Фашистам не удалось, а он, свой, мог это сделать… И ведь мог!»
Под их голоса Лешка провалился в сон, так и не осознав тогда, что побывал под расстрелом.
Счастливый и горестный день
Уверенно расположился в Лешкиной памяти и еще один день – такой счастливый и горестный! Девятое мая 1945 года. День Победы.
Утром окно загрохотало всей старенькой, черной от сырости рамой. Лешка даже одеяло на голову натянул, обреченно ожидая, что вот-вот рассыплется склеенное по трещинам полосками бумаги стекло. Но грохот вдруг стих. Только оно все еще тоненько звенело, будто жалуясь. Лешка выглянул. Ничего не случилось. И окно на месте. И желто-бурые влажные пятна все так же ползут по стене, а штукатурка в углу сердито оттопырилась. Того и гляди, начнет глиной шпулять. Но что такое? Теперь грохочет соседнее окно. Да как! Лешка выбрался из своей тепленькой норки, сооруженной из маминого пальто, телогрейки и байкового одеяла. Вскочил на стул, затем на подоконник. Дернул за ржавый крючок форточку. И вздрогнул, пропуская в комнату яркое утро. Потом выглянул и увидел дядю Сеню, который колотил костылем в окно, хрипло выкрикивая:
– Эй, люди добрые! Так и Победу проспать можно! Война окончилась!
Китель его распахнут ветром, впалые щеки радостно розовеют.
– Ура-а! – Лешка спрыгнул с подоконника на пол. – Ура-а! – стянул простыню с посапывающей Фроськи, и та забарабанила ногами, словно не на полу лежала, а плыла по реке. – Вставай! Так и Победу проспать можно! Война окончилась! – прокричал ей Лешка прямо в лицо слова дяди Сени.
– Вот полоумный какой-то! – привычно проворчала Фроська, зябко натягивая простыню. И вдруг, сдув с лица кудряшки, вскочила: – Что? Война? Окончилась? Кто тебе сказал?!
Длинноногая, в коротенькой рваной на плече рубашонке, она запрыгала, как бы обжигаясь о холодные половицы. А в доме уже радостно открывались окна, и было слышно, как на площади о чем-то торжественно вещал репродуктор.
– Ой, правда! Война окон-чилась! Ско-ро папа при-едет… – Фроська сидела на единственном в комнате стуле и растягивала слова, словно на радостях говорить разучилась. Она прижимала к себе вылинявшее, недавно пошитое из двух стареньких гимнастерок платье точно так, как тогда, когда мама впервые принесла его от портнихи. – Ой, Ле-шень-ка! Сейчас побежим, надо маму об-ра-довать!
Лешка уже подвязал бечевкой жесткие, будто брезентовые, брюки и теперь наматывал на ногу портянку. Наматывал не столько для тепла, сколько для ботинка, в который, наверное, без труда вместилась бы еще одна его нога. Он зашнуровывал этот широкий и неуклюжий, как утюг, ботинок, не замечая того, что весело приговаривает одно и то же: «Ско-ро папа-а прие-едет! Ско-ро папа-а прие-едет!»
А Фроська уже металась по комнате, убирая с пола и одеяло, и простыню, и мамино пальто. Она зачерпнула кружкой воды из ведра, плеснула себе в лицо. Звонкие брызги ударили в жестяный тазик.
– Лешенька, а ты не забыл, что нам вчера тетя врач сказала? – Фроська смешно прыгает, застегивая туфли. – Ага, забыл? Приходите завтра утром с одеждой – постараемся вы-пи-сать вашу маму! Вот что она сказала… На, держи!
Ну и денек сегодня! Лешка мнет в руках сверток с маминой одеждой. Круглый, с гладко подобранными краями бумаги. Будто буханка хлеба. Лешка жадно глотает слюну, а та снова заполняет рот. И еще противненько, как бы напоминая о чем-то, холодно ноет в желудке. Может быть, о том, что вчера за весь день он съел только две картофелины в мундирах, крохотную дольку сала, черный сухарь да две чашки кипятка с порошком сахарина. Получалось не так уж мало. Все-таки молодчина Фроська! Где-то раздобыла столько еды. Лешка с уважением смотрит на сестру. С того дня, как они с красными от слез глазами приплелись из больницы, оставив там маму, а потом положили на пыльную плиту этот сверток и, глядя на него, заревели, заголосили, уже никого не стыдясь, Фроська вдруг стала для Лешки совсем другим человеком. А она и действительно стала иной. И плиту сама растопит, и воду вскипятит, а надо – и картошку отварит. Лешка уже знает: если Фроська ушла – обязательно что-нибудь да притащит. Вот и вчера… Но о еде лучше не думать. Особенно, когда есть хочется…
А Фроська!.. Вот это да! Уже и подоконник помыла, и пол мокрой тряпкой вытерла. И в плиту остатки дров затолкала. Даже ту березовую чурку, на которой он вчера якорь вырезал. Ясное дело, старается, чтобы мама похвалила. Ну и пусть! Его тоже можно похвалить. Если и хныкал, когда один оставался, так только чуть-чуть, самую малость. Да и кто не захнычет, когда один в пустой комнате, в которую будто нарочно столько холода напустили, а все, что есть можно, наоборот, вынесли. И еще это пятно рыжее набухает, растет, словно к нему тянется. С такими вот крыльями и клювом выгнутым…
– Сейчас, Лешенька, сейчас… Побежим, – сама себя торопит Фроська, вытирая руки о какую-то тряпицу. Задумчиво останавливается, как бы прикидывая, что еще надо сделать. – Форточку прикрыть бы. А то маме здесь холодно будет, пожалуй, – вслух рассуждает Фроська. Но она смотрит на влажный лоснящийся пол, потом на свои туфли с засохшими комьями вчерашней грязи и не решается идти к окну.
– Ладно… Пусть поет, – неожиданно весело заключает она.
А форточка и впрямь поет, будто черный репродуктор с высокого столба на Почтовой площади именно в нее нацелен. Такая веселая музыка. Только Лешке от нее почему-то плакать хочется. С чего бы это, когда все хорошо: и война окончилась, и мама из больницы выходит, и папа приедет… От радости, что ли? Как мама? Лешка помнит: уже здесь, в Березовке, мама сидела вот на этом стуле и плакала, читая папино письмо, еще недавно красиво сложенное треугольником. Лешку тогда очень удивило, что от маминых слез письмо, написанное карандашом, становилось фиолетовым, будто оно теперь писалось заново. Только уже чернилами. Он даже не сразу догадался спросить у нее, чего она плачет. А когда спросил, мама вдруг улыбнулась, не переставая плакать, прижала Лешку к своему мокрому лицу и удивила еще больше: «Это от радости, сынок… От радости…» Может, и он сейчас так? От радости?
– Ну, побежали! – Фроська сует в его руку свою жесткую и твердую ладошку.
На крыльце она весело запрокидывает голову, отдавая ветру черные кудряшки. Но Лешка уже не смотрит на сестру. Счастливая, ликующая улица обрушивается на него торжественным голосом репродуктора, заливистым смехом, задорным всплеском гармошки. Парни с одинаково красными лицами, цепко ухватив друг друга за плечи, шумно перегородили мостовую. Рядом с ними, неловко подпрыгивая, спешил дядя Сеня. Он все норовил тоже ухватиться за плечо рыжеволосого парня, но лишь высоко вскидывал костыль, оступаясь единственной, обутой в хромовый сапог ногой. Но вот он досадливо махнул рукой, отпуская крепкотелых, уверенно барабанящих по булыжникам кирзовыми солдатскими сапогами парней, и пошел медленно, как бы поплыл, тяжело раздувая прокуренные усы.
– Бежим! – Фроська рванула Лешку за руку. Он притопнул ногой и впервые увидел отчетливо отпечатанный в податливой глине след своего ботинка. След был такой большой и глубокий, что в него тотчас невесть откуда стала просачиваться рыжая вода, образуя еще одну лужицу. Вот это да!
Фроська нетерпеливо дергает Лешку. Она несется, как ветром подхваченная. Он едва успевает за ней. И, наверное, всем кажется, что она куда-то тащит его, а он капризничает, упирается. Ему даже жарко стало от такой обидной мысли. Но ботинки, и без того тяжелющие, обросли глинистыми комьями. Не очень-то заспешишь. Лешка оглядывается. Нет, никто не смотрит на него. Вон девчата поют. Дед Онуфрий у своего крыльца деревянными ложками барабанит. А это тетка Степанида, что семечками всегда торгует. И где она только их зимой берет? Сейчас и на себя не похожа. Если б не все тот же офицерский китель на ней, не признал бы ее. И не стоит она вовсе, а как-то виснет на заборе и гладит, гладит руками заостренный, словно пила, частокол. Но вдруг вся сердито напряглась, подскочила к дяде Сене. Лешке на миг показалось, что ее скуластое лицо исчезло – остались только неимоверно расширенные, наполненные ужасом глаза. Дядя Сеня испуганно остановился, двумя руками опираясь на костыль, а Степанида уже кричала, задыхаясь, с трудом выталкивая слова:
– Сенечка-а… так… ты… точно… видел… там моего Степана? А? Значит, он вернется, а? Сенечка-а?!
Она просительно трогала дядю Сеню за прожженный рукав кителя, застегивала и снова расстегивала на нем серебристую пуговицу у самого воротника и уже обессилено повторяла одно и то же:
– Сенечка-а! Так вернется? Сенечка?!
А он все опирался на костыль, никак не в силах выдернуть его из вязкой земли, и тяжело дышал, отдуваясь в пушистые усы:
– Будет тебе твой Степан! Будет!
Эти звонкие слова дяди Сени весело гремят уже где-то за Лешкиной спиной. Фроська, точно на буксире, тянет его сквозь переплески гармошек, радостную путаницу голосов и дребезжание радио. Теперь они бегут по вбитым в грязь доскам у самого забора, которым недавно обнесли пленные немцы развалины довоенной школы. Лешка даже глаза щурит от слепящего солнечного блеска на раскиданных недавним дождем лужицах, на влажных крышах, от бьющего красным полотнищем флага над блестящей жестяной крышей почтамта…
Но отчего так тревожно щемит сердце? И воздух какой-то жесткий стал, что ли? Даже дышать трудно. И слезы глаза щекочут… «От радости это, от радости!» – сам себя успокаивает Лешка. Под правой лопаткой у него уже давно зудит кожа. Он беспокойно дергается, но рубаха, видать, здорово прилипла к телу. Не отстает. Лешка пытается отнять у Фроськи руку, чтобы запустить ее под рубаху к лопатке. Но где там! Фроська держит железно. «Не суетись!» – совсем как мама, сердито оглядывается она.
За поворотом широко текла бугристо-серая мостовая. Да, именно текла. Почти вся залитая бурой водой по самые макушки булыжников, она так булькала, рябила округлыми серыми бугорками камней, что у Лешки даже голова кружилась. Теперь он нелепо семенил, соскальзывая с этих булыжников. Из-под ног били фонтанчики глинистой воды.
– Ну, ты, медведь косолапый! – Фроська бросила сердитый взгляд сначала на его неуклюжие ботинки, потом на свои пятнисто заляпанные чулки и снова упрямо тряхнула кудряшками: – Давай, братец, давай! Сейчас с горки спустимся, а там, за мостиком, и наша больница.
Здорово шагает Фроська. Раз – и потресканная туфелька ее подлетает к лобастому булыжнику, два – и уже отталкивается от него, едва коснувшись носочком. Раз – и снова отталкивается. И брызг никаких нет. Вот это да! Хорошо ей, длинноногой, в этих туфельках. А в таких вот кандалах не очень-то попрыгаешь. Что такое кандалы – Лешка толком не знает. Может, это деревяшки или железки какие? Но то, что они ходить мешают, это он знает точно. И его «утюги» ничуть не лучше тех самых кандалов. Не лучше? Ну и придумал! Забыл, что ли, как прыгал от радости, когда мама принесла их с базара? Тогда она сняла свои мокрые перепревшие бурки с галошами в заплатах и, сев на табурет, стала примерять правый ботинок. А он, Лешка, схватил левый. Ботинок был что надо! Жесткий, кирзовый, плотно сбитый, словно литой! С черным узорчатым каблуком! Да таким ботинком не то что тряпичный мяч – камни футболить можно. Ткнул ногу – и она в него словно провалилась. Но пальцы уже ласкала теплотой войлочная стелька. Он лихорадочно зашнуровывал ботинок, от волнения не попадая шнурком в черненькие металлические отверстия. Наконец, встал и поволок его за собой. С каждым шагом ступня в нем то двигалась вперед, пока не упиралась в носок, то отступала к жесткому кожаному заднику. Мама устало улыбалась, следя за ним, потом притянула к себе: «Нравится?» Лешка не ответил, но мама и так все поняла. Он опомниться не успел, как сидел уже на табурете, а она горбилась перед ним на корточках и решительно рвала надвое старенькую простыню. Потом бинтовала ею Лешкину ногу, снова зашнуровывала ботинок, плотно – крест-накрест – затягивая шнурок еще красноватыми от холода пальцами. Теперь нога была словно вкована в ботинок. И с какой важностью прошагал он тогда мимо матери, трудно натягивавшей все те же перепревшие бурки, мимо онемевшей от зависти Фроськи…
Нет, ботинки эти ничего. Ботинки что надо! Пусть себе и тяжеловаты. Пусть в них и не угнаться за Фроськой. Но зато у нее вон как хлюпает в туфельках. А ему в этих «утюгах» сухо. Только Фроська как бы не чувствует своих хлюпающих туфелек. Раз – и летит к самому лобастому булыжнику, два – и уже отталкивается от него, едва коснувшись носочком. Тянет и тянет за собой его, Лешку. Ему даже кажется, что отпусти он ее – и вовсе весело ускачет она от него, как кузнечик.
Кузнечиков мама всегда называла кониками. А он и впрямь думал, что если поймать кузнечика и хорошенько кормить – можно вырастить маленькую лошадку. Все свои спичечные коробки однажды заселил ими. Пробил дырочки, чтобы дышать могли – и травку им просовывал, даже крошки хлебные давал. Но они совсем и не думали превращаться в коников. И тогда Лешка рассказал обо всем маме. Как она смеялась! Фантазером назвала. Да еще почему-то папочкиным фантазером. Было это все в том же Казахстане. И никогда больше Лешка не видел ее вот такой счастливой и смеющейся.
Мысль о том, что сейчас за тем мостиком будет белостенное здание больницы и он увидит маму, заставило его увереннее заскользить по размытой глинистой тропинке. Здесь, точно в овраге, пахло устоявшейся сыростью. По обе стороны высились тоже нахохленные от сырости избы. Теперь музыка гремела где-то высоко над Лешкой – приглушенно и отдаленно.
Еще недавно здесь лежал плотно утоптанный снег. А посреди оврага, как река в берегах, светилась ледяная дорожка. Ух, и летели по ней на трехконьковых санках! Жжух-х! Жжух-х! Только снег дымился!.. И что он все думает, вспоминает? Шел бы себе и шел. Так нет – мысли всякие… Интересно, а как другие? Вот Фроська хотя бы? О чем она думает? Лешка уже совсем было собрался спросить ее об этом, но тропинка уткнулась в дощатый мостик, весь заплеванный, замусоренный шелухой семечек, окурками. Слева за ним снова бугрилась мостовая, будто прячась за огромными воротами колхозного рынка. Справа сквозь густые ветви проглядывали белые стены больницы. Черная чугунная ограда, отмытая дождями, влажно лоснилась. На выпуклой клумбе робко зеленели травинки. Они выглядывали даже из-под обломков кирпичей, окаймлявших ее.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































