Текст книги "Побег из детства"
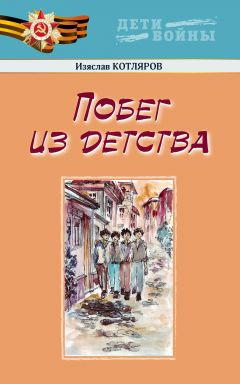
Автор книги: Изяслав Котляров
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Бабушка замолчала, что-то обдумывая, и призналась:
– По правде говоря, детки, тогда мне эта история куда убедительней показалась. А вот сейчас я думаю, что будь все так, как тот батюшка хотел, люди бы никогда к лучшему не стремились. Жили бы как придется. И революции бы никакой не делали. И фашистам покорились бы. Негоже все это человеку… Выходит, одну и ту же историю с годами по-разному понимаешь. Устарела давно мамина притча. Надо, конечно, к лучшему тянуться, но и под ноги хорошенько поглядывать: а что, друг милый, топчешь, добираясь? Может, свое собственное достоинство или фамильную гордость растоптать норовишь…
Бабушка снова вздыхает и сама себе удивляется:
– Вот как оно у меня вышло: начала за упокой, а кончила – за здравие! А в чем права эта побасенка, вы и сами, детки, поймете… Спишь, что ли, Лешенька?
– Думаю, бабушка, – неожиданно для самого себя признается Лешка.
– Вот и хорошо, внучек. Подумай. Самая тяжелая и нужная работа на земле – думать. Кабы все хорошенько подумали, прежде чем делать… Ох-хо! Совсем поясница моя разнылась. К грозе это, что ли?
Дрожащие блики лунного света теперь мечутся даже не на потолке, а на стене у занавешенного темью окна. Причудливо растягиваются, будто норовят в приоткрытую форточку вынырнуть. Весь дом уже спит, наверное. И Фроська старается – тоненько посапывает, словно бабушке вторит, которая такие трели выводит, что даже ушам больно. Ну и бабушка! Вот это да! И во сне трудится. На такой храп не у каждого трубача дыхания хватит. Лешка сам видел, как трудно оркестранты музыку свою из труб выдували…
Уморилась, небось, за день. Наволновалась. А из форточки холодом тянет. Простудится еще. Фроська обязательно ворочаться будет – и одеяло к себе стянет. Сам рядом с ней спал – знает. И не хочется Лешке подниматься – отрывать голову от мягкой бабушкиной подушки, отбрасывать чистенькое, пахнущее мылом одеяло. Но надо. Простудится бабушка, начнет кашлять, а потом и вовсе в больницу сляжет, как Матрена Яковлевна… А пол не такой уж и холодный. Но Лешка все-таки пробирается к окну на цыпочках. Главное, лампу на столе не задеть. Он тянется всем телом к форточке и окунает пальцы в желтоватый лунный свет. Вот это да! Но как пальцами ни шевелит, ничего не ощущает. Не чувствует ими света. Странно. Он толкает форточку, обрубая струйку знобящего холодка, а лунному свету хоть бы что – как струился, так и струится.
Ну, вот и все. Лешка ныряет под одеяло. Главное, всегда решиться – раз надо. И заставить себя сделать. Теперь пусть бабушка посапывает. Не простудится. А она вроде тише стала. Но зато отец за стеной покрикивает во сне. Опять командует или на него, Лешку, все еще сердится?
Бабушка. Смерть дедушки
Впервые Лешка увидел бабушку у кладбищенской ограды в день похорон матери. Они с Фроськой сиротливо жались друг к другу на мокрой и теперь уже опустевшей подводе, прятали заплаканные лица под тяжелеющий от дождя брезент плащ-накидки. И тут услышали странное оживление в поредевшей толпе. Незнакомо звонкий, хотя и грустно приглушенный голос объяснял:
– Я Андреева мама… Так спешила и все-таки не успела. А тут еще дождь. Пока кладбище разыскала… И вот…
Фроська рывком приподняла брезент и, прежде чем Лешка успел рассмотреть незнакомую старушку в непривычно клетчатом пальто, в заляпанных грязью туфлях, с черным зонтиком в одной руке и с темнокожей сумкой – в другой, выпорхнула, будто из гнезда, и повисла, затрепетала на бабушкиной груди:
– Бабушка Вера! Что же это такое?! – Фроська, впервые не сдерживая себя, заревела, жалуясь, – что же это такое?
А бабушка только прижимала Фроську к черно-белым клеточкам своего пальто, и разбухшая влажная сумка ее лаково блестела, вздрагивала на худенькой Фроськиной спине. Все словно забыли о нем. И так обидно вдруг стало одному под этим удушливым брезентом, что он тоже громко заплакал, задыхаясь от всхлипов. И тут Лешка впервые услышал бабушкин окрик:
– Успокойся, Лешенька! Перестань плакать, милый. Я кому говорю, Лешенька?!
Он смотрел на нее, и лицо бабушки расплывалось какими-то неясными, налетающими друг на друга яркими кругами.
– Ничего, ничего, милые. Выдюжим… Вместе со мной в Днепровск поедем. Там у нас и квартира есть. Правда, дедушка наш хворый совсем. Но, даст Бог, встанет на ноги и он. Батя ваш скоро с фронта вернется. Отвоевался…
Бабушка чуть отстранилась, разглядывая замызганный Лешкин ватник, подпоясанный бечевкой, попыталась приподнять с его глаз свисающий обломок козырька кепки, но тот, чуть помедлив, снова опустился едва ли не к самому носу. Бабушка вздохнула и повернулась к Фроське, поглаживая ее кудряшки.
– Отмою, отстираю вас. Хватит вшей кормить…
Пошатываясь, тихонько скрипела телега, приглушенно плелись рядом голоса поредевшей толпы. Лешка без труда узнал среди них резкий голосок тети Фени:
– Оно, может, и в детском доме им не хуже было бы. На полном государственном обеспечении. И одежонка там, и харчи. Да и мы с мужем не думали от сироток отказываться. Могли и у нас пожить, пока на ноги встанут.
– Жалко-то как, люди добрые, Женьку нашу! С таких молодых лет землю парить! – горестно прозвучал чей-то незнакомый голос.
– И жизни она приличной не побачила, – слезливо отозвалась тетка Степанида.
Но тут же кто-то заглушил ее рассудительно-спокойными словами:
– Э, милая моя, у погоста жить – всех не оплачешь. Время, милая моя, такое…
Через несколько дней Лешка уже рассматривал городскую улицу из окна бабушкиной квартиры. До чего же хорошо видно с высоты четвертого этажа! И крыши бревенчатых домов, и гора битого кирпича, из-под которого остро и обуглено торчат железные рейки. Когда-то гора тоже была домом. Но вот разрушило его взрывом. Может, самолет немецкий бомбой угодил или пушка снарядом попала. Мог и «тигр» с близкого расстояния бабахнуть. Запросто мог. Мостовая вся в колдобинах. А была, наверное, ровнюсенькая. Далеко текла… Лешка трется лбом о стекло, силясь заглянуть подальше, но видит только угол полуобрушенного здания. Целый подъезд осыпался, поник – ни окон, ни стен. Но дом не убит – только ранен. И живет! В остальных трех подъездах промытые окна занавесочками украшены. Вот это да! А кто там копошится в развалинах? Зеленоватые кители, высокие пилотки… Неужели немцы? Ну конечно, фрицы! Вон и наш солдат с автоматом настороженно на них посматривает. Здорово придумали! Разрушили – так пусть сами и строят. Если б знали, что придется, небось, не очень бы старались…
А, черт! Лешка едва не вскрикнул от боли. Совсем забыл о нарыве проклятом. А он – как яйцо куриное. Шею не повернуть. Вот увлекся: на немчуру пленную полюбоваться хотел – и теперь красные искорки в глазах пляшут. Откуда он только взялся, этот нарыв, который бабушка каким-то фурункулом зовет? Говорила, что если сегодня сам не лопнет, то врач разрезать его будет. Ничего себе удовольствие! Лешка морщится, теперь уже воображая этого врача в беленькой шапочке, который тянется к его шее чем-то ослепительно блестящим… Ну и ну! Ходил себе грязнее кочегара, и никаких фурунков этих не было. А тут, как бабушка отмыла да в чистое одела, появился: «Здрасьте, я у вас на шее посижу! Очень мне нравится у вас!» Так посидел бы да на другую перебрался. Мало ли шей этих! И пошире, и пожирнее его, Лешкиной. Вон сколько их в очереди выстроилось. Топчутся люди друг за другом у распахнутых дверей магазина. А она еще дальше – за угол скверика свернула. Кого только в ней нет! И старички с палочками стоят, шляпами соломенными укрываются. Важные, будто и не в очереди вовсе, а просто поговорить собрались. У одного, будто у дяди Сени, усы прокуренные рыжеют. А так ничуточки не похож. Куда ему до дяди Сени, хотя тот и с костылем, а не с палочкой.
Вообще-то, люди всегда кого-то ему напоминают. Вон и та женщина – чем не тетка Степанида? Напялила китель поверх длиннющего, ниже голенищ, платья и командует себе. Скуластое лицо гневно краснеет. Как только распахнут двери – она людей из очереди отсчитывает и в магазин пропускает. Должность у нее такая или сама вызвалась? Опять кричит. Нет, тетка Степанида вот так не стала бы пацана толкать. Она жалостливая. А эта вон как старается. Но и пацан, видать, ушлый попался. Снова в очередь зашился. Только телогрейка чуть-чуть виднеется. Ловко у нее из-под рук вынырнул. А теперь уже и не прячется вовсе. К Лешкиному окну лицо свое повернул, будто показаться хочет. На, мол, смотри, любуйся – не жалко! А любоваться-то нечем: нос картошиной прилепился, глазки круглые, на щеке – шрам. Недавно, видать, досталось – красный еще совсем. Но что этот пацан делает? Куда он пальцы свои запускает? В карман пальто того самого старичка, что с перламутровой палочкой. Неужто не видит никто? Уже и тащит что-то! Деньги или хлебные карточки? За пазуху прячет, а сам вроде чешется. Ну и хитер! Теперь пятится из очереди. Вот это да! В скверик уходит. И не спешит вовсе…
– Внучек, воды-ы… Внучек… – стонет за спиной дедушка. А сам руку из-под простыни протягивает. Еще что-то сказать силится, но только губами разводит.
– Я сейчас, дедушка! – Лешка соскакивает с подоконника и цепенеет от яркой боли: опять забыл о сжимающем нарыве. И где же стакан запропастился? Стоял ведь на столе. А, ладно, можно и чашечку с золотистым ободком взять. Хватит ей за стеклом буфета прятаться. Вода в кране недовольно фыркает, но потом успокаивается и льется. Не то что у них в поселке – сама ждет, когда понадобится. Лешка хочет напоить дедушку – старается приподнять его голову от подушки, чтобы пить удобнее было. Но дедушка едва слышно просит:
– Не надо… Я сам… Спасибо, внучек, – и все стучит зубами о золотистый ободок чашки. Никак напиться не может.
Локоть, на который упирается дедушка, дрожит. Вода по всему лицу разливается, прячется в ощетиненной бородке, во впалых, обвалившихся щеках.
– Хва… Хватит, внучек, – шепчет дедушка, и Лешке от этого шепота кричать хочется, как от боли. Ну куда они все поуходили?! Оставили одного. А он даже водой дедушку напоить не может.
Страшно и жалко Лешке смотреть в дедушкино лицо – желтое, сморщенное от боли. Когда они сюда приехали, оно не было таким желтым и сморщенным. И глаза у дедушки были широко открыты. Совсем не старые – яркие, веселые. Он притянул его тогда к своей хрипящей груди и долго путался в Лешкиных кудрях холодными пальцами. А потом весь вечер следил за ним добрым взглядом, приговаривая одно и то же:
– Удивительно! Уди-вительно! Нет, ты посмотри, Вера, как он повторяет нашего Андрея! Ты только посмотри… Быстрей бы встать на ноги да сводить его на стройку – Мише показать. Помнишь, до войны он с нашим Андреем не расставался. А теперь у нас мастером.
– Помню ли я Мишу Гурьева? Господь мой, о чем ты говоришь?! Да разве я могу не помнить этого баламута?! Чего только они не вытворяли с твоим любезным сынком, когда под стол пешком ходили! Небось, забыл все это, а? – улыбалась бабушка.
Хотя бы она с Фроськой быстрей вернулась… Вон уже очередь расходится. Хлеб кончился, что ли? А старичок все еще удивленно и растерянно по своим карманам шарит. Зажал палочку под мышку и ищет, ищет. Пальто расстегнул и пиджак… Точно, спер у него что-то тот пацан со шрамом. И люди на старичка сочувственно посматривают.
– Внучек, помоги мне, – снова окликает Лешку дедушка, – он стоит у кровати на крохотном овальном коврике и отряхивает простыню. – Вот перестелить хочу. Совсем забыла обо мне старуха. Забегалась…
Ворот дедушкиной рубахи широко распахнут. На нем запеклись ржавые пятна крови. На простыни, которую Лешка теперь трясет, тоже немало таких пугающих пятен. Главное, не смотреть на них, а заталкивать края простыни под матрац, чтобы она натянулась, выпрямилась. Но что это дедушка так трясется? И на подушку клонится…
– Ложитесь. Уже можно, – испуганно шепчет Лешка. – Я сейчас и подушку подниму повыше, – он поддерживает дедушку, чтобы получше расправить одеяло, но худенькое костлявое тело с неожиданной тяжестью выскальзывает из его рук. Подол нательной рубахи закатывается куда-то под бугристо выпирающую ключицу, и Лешка изо всех сил тянет его, чтобы укрыть усыпанную красными кругами дедушкину спину. Он знает, что круги эти от банок, которые бабушка ставила утром. Но все равно задыхается жалостью. Ну куда они все запропастились?! Оставили одних… Наконец, рубаха поддается – Лешка обтягивает ее и укутывает дедушку одеялом. Толстое, ватное, оно никак не держится – свисает с кровати, на которой зябко трясется дедушка. Седые волосы рассыпались по подушке и тоже колышутся, будто расползаются в разные стороны…
– Душно, а з-зноб-бит! – с трудом выговаривает он и трется губами о ворот рубахи, оставляя на нем еще одно ярко-красное пятнышко.
Лешка бросается в соседнюю комнату, стаскивает с бабушкиной кровати одеяло и укрывает им дедушку, суетливо бегая вокруг него.
– Пи-ить, внучек… – стонет дедушка.
Лешка хватает чашечку и как-то неловко наклоняет ее, выливая остатки воды. «Быстрей, быстрей!» – сам себя торопит. Ну куда они все пропали?!
Фыркает, брызжет водой кран…
– Вот… Пейте, пожалуйста…
Холодная, почти прозрачная рука с трудом выпросталась из-под одеяла и вместе с Лешкиной понесла чашку ко рту. Судорожно вздрогнул костлявый дедушкин кадык, удивленно и стекленеюще блеснули расширенные ужасом глаза, и чашка, разливая воду, медленно покатилась по одеялу. Звона разбитого форфора Лешка уже не слышал от собственного крика.
– А-аа! Помоги-те! Сюда-а! – Он толкнул ногой двери и, выскочив на цементную площадку, снова задохнулся криком: – По-моги-те де-едушке!
Что-то обжигающе жаркое потекло по Лешкиной шее, липко оседая на спине под рубахой. Но он не чувствовал боли.
– Помо-ги-ите де-едушке! – теперь голос его звонко прыгал по этажам, врывался в удивленно распахнутые двери, торопил чьи-то бегущие шаги.
– Что с тобой, мальчик?! Ты весь в крови! Да у тебя лопнул нарыв! Надо срочно к врачу, – какая-то женщина пыталась оторвать Лешку от перил, а он, не оборачиваясь к ней, не поднимая головы, все кричал и кричал в серый лестничный пролет: – Помоги-те деду-ушке! Помо-гите-е!
…Когда бабушка вбежала в комнату, дедушка был уже мертв. Она обессилено упала на пол рядом с осколками золотистой чашки и затряслась, захлебнулась беззвучным плачем.
У порога молча толкались соседи. Кто-то задел плечом газету, и она оторвалась с гвоздя на стене, открывая заляпанную известкой дедушкину спецовку.
Рабочее утро
Над забором возник и хитровато прицелился в Лешку взглядом Венька. Волосы густо закрывали узенькую полоску его лба, маленький, задорно выпирающий носик краснел от загара. Но было что-то в лице конопатого друга такое, что Лешка на мгновение даже растерялся – так и замер, не разгибая спины, не отнимая ноги от ушедшей в землю лопаты. Вот это да! На Веньке нежно отливала розовым, хотя уже и стиранным цветом, удивительно знакомая тенниска с золотистым свисающим кольцом замочка. Как завороженный, Лешка тяжело пошел к забору. Лицо Веньки радостно расплывалось, тонуло в улыбке. Он сразу понял удивленно вопрошающий Лешкин взгляд:
– Сенькина она… Ну, да… Аршунова Сеньки…
Конечно, Сенькина! Это была его единственная рубаха. На все пионерские сборы он приходил в ней, и трудно было различить, где на нем заканчивается галстук и начинается тенниска – тоже огненно-розовая. А вот теперь полиняла, поблекла без Сеньки…
– Тенниска еще что надо, будь спок, – цепляется Венька корявыми пальцами за доску забора, на которой будто смолой выведено: «Не кантовать!» Отец как-то объяснил ему: это значит не переворачивать, не повертывать на бок. Груз какой-то деликатный был, наверное, в ящиках из таких вот толстющих досок. А теперь получается – нельзя кантовать забор. Но Венька, видно, и взглядом не удостоил этой грозной надписи. Карабкается себе, упирается коленками.
– Слышь, Леха! Вчера Алексея Семеновича – Сенькиного батю – встретил. Поманил он меня пальцем к себе и рубахой моей любуется. Где, говорит, ты, мил человек, столько латок насобирал? Потом к нему домой потопали. Он мне эту тенниску и отдал. Носи, говорит, думал на барахолку затащить, да как вспомню, что сам ее на толкучке для Семена покупал – мочи моей нет… Так и сказал. А тенниска еще фартовая. И замочек что надо, – снова веселеет Венька.
Но Лешка все чубатого Сеньку вспоминает. И тот день, когда впервые увидел на нем эту тенниску… Солнце ломилось в огромные зарешеченные железными прутьями окна их школьного спортивного зала. Белел разодранным кожаным боком черный брус гимнастического «козла», над которым еще недавно розовым ветерком пролетал Сенька. И было так тихо, что, казалось, слышно, как оседает пыль, выбитая из огромного стеганого мата.
– Торжественно обещаю! – голос пионервожатой Людмилы Петровны Кентьевой чуть дрогнул в этой дружной тишине, но они тут же подхватили его своими тоже пропадающими от волнения голосами. И только откуда-то из глубины строя послышался насмешливый шепот: «Гонять собак, душить котов – всегда готов!» Лешка вздрогнул, будто его плетью по спине хватили. А Сенька уже выразительно показывал Сереге Шивцеву костистый кулак. Лешка тоже угрожающе обернулся и тут же его настиг сердитый окрик Людмилы Петровны:
– Аршунов и Колосов, постыдитесь! Вы что затеяли?! – лицо пионервожатой гневно вспыхнуло, словно вбирая в себя огненный отблеск галстука на белой, перехваченной черным лаковым пояском, блузке. Пока только у нее одной вот так празднично пламенел пионерский галстук.
Они один за другим выходили из строя, и Людмила Петровна повязывала им галстуки – брала из стопки на столе, почему-то встряхивала их, и под ее быстрыми пальцами как-то сами собой возникали крупные, аккуратно затянутые узлы. Потом Людмила Петровна бережно расправляла концы галстуков… Подошел к ней и Сенька. Поспешно приподнял воротничок тенниски, и галстук, казалось, слился с его ярко-розовой рубахой.
– Постричься бы тебе, Аршунов, – чуть отстранясь от Сеньки, как бы любуясь им, заметила Людмила Петровна. И не удержала улыбки: – Теперь ты весь красный.
– Ага, советский, – охотно отозвался Сенька, будто давно ждал этих ее слов…
И вот нет Сеньки Аршунова, а тенниска его обвисает на щуплых Венькиных плечах. Жалел он ее, берег. Для Веньки сохранил. Ишь, как доволен подарочком! Каждою веснушкою радуется, конопатый, сияет. Цепляется коленками за доску, которую кантовать не разрешается. Поторопился уйти от Алексея Семеновича, может, и брючата подобрал бы к тенниске. Хотя… Сенька елозил в тех своих полотняных штанах почище Веньки…
– Ну, чего ты на меня уставился? Завидно, небось? Фартовая тенниска, будь спок! – снова подтягивается Венька.
– Фартовая… Только брючата к ней другие нужны. Покопайся в шмотках Ромки Шейна или Витьки Шалымова, может, и подберешь… Слышь, конопатый?! – последние слова Лешка почти кричит. И Венька соскальзывает с забора. Испугался или просто висеть надоело – руки устали?
– Ну, ты, умник! А я ведь хотел тебе передать, чтоб к Фимке обедать шел.
– Сам сходи вместо меня, чтоб от пуза нажраться! Эй, Будь Спок, ты меня слышишь?! – снова кричит Лешка притаившемуся за забором Веньке.
Но тот так и не отозвался. Ушел тихонько. Теперь надолго. Вырядился в Сенькину тенниску – и рад.
– Чего вы там не поделили, Лешенька? – бабушка спрашивает, не поднимая головы. Она сидит на корточках, а пальцы ее по грядке бегают. Рвут длиннющие пики пырея, низенькую, усыпанную беловатой пыльцой лебеду. И в подол брезентового передника складывают. Ловко работает бабушка. А Лешкина лопата в земле спряталась – один черенок торчит. Еще и половину грядки не вскопал. Ничего, сейчас он заставит эту лопату землю ворочать…
Но все еще стоит, поглаживая отшлифованный до костяного блеска черенок лопаты. Слушает, как плывет, наплывает над ним шелест сада, как озабоченно жужжат лохматые пчелы. Белизны в саду заметно поубавилось. И сливы уже отцвели, и вишни отряхнули лепестки. Только яблони распустили розовые бутоны и забелели так, что даже листьев не видно.
– Я кому говорю, Лешенька? Что вы не поделили? – допытывается бабушка.
– Да так… Гулять заманивает, а мне работать хочется, – Лешка переворачивает лопату, и черно-серый ком земли разламывается, расползаясь толстыми жирными ломтями. Он снова вгоняет ногой лопату, переворачивает ее и с размаху бьет острием по самым крупным комьям. Еще… Еще… Пышет земля парной терпкой сыростью. Давай, давай, лопата! Вогнал, перевернул, ударил! Все просто. Слева направо – и отступай помаленьку. Вон до той яблоньки с раздвоенным стволом добраться надо. А там – что бабушка прикажет. Вот так! Лешка вытирает рукавом пот со лба и оглядывается – далековато еще яблонька, хотя и в четырех шагах всего.
– Ну, кто же так помидоры-то поливает? – возмущенно гремит по ту сторону огорода голос Сергеевны. Ее совсем не видно за зеленым переплетением слив и вишен соседского сада, а кажется, над самым ухом кричит. – Ты хоть корни-то, корни пожалей – вымоешь их из земли, – допекает она Толика. – Вот так, понемножку… И не под самый стебель… Поливай. А мы с Нюркой в больницу сходим к бабушке Матрене. Прямо держи авоську, не наклоняй, не наклоня-яй – сметану опрокинешь!
«Это уже, наверное, Нюрку допекает», – догадывается Лешка. А еще через мгновение на тропинке, разделяющей огороды, суетливо возникает низенькая, пышная Сергеевна. Она бережно трогает ладонями свою тоже пышную огненную прическу, словно лепит ее. И вдруг едва не вырывает из Нюркиной руки авоську, растянутую бумажными свертками и пакетиками почти до самой земли. Нюрка обиженно спотыкается, будто путаясь в длиннющем форменном платье, а потом бодренько трясет оттопыренными косичками и освобожденно машет руками, вышагивая, как в строю. И Лешке сразу расхотелось смотреть им вслед. Он взял лопату и сердито вогнал ее ногой в землю. Вывернул, разрывая какие-то волосистые корешки травы, ударил, разбивая липкие комья. Снова лопату вонзил… Руки наливались упругой тяжестью, но это не было усталостью. Тяжесть казалась незнакомо приятной. Она придавала каждому Лешкиному движению расчетливую ловкость. И он, уже не разгибаясь, шел вслед за лопатой вправо к бабушкиной борозде, а потом еще на полшага отступая к развесистой яблоньке.
– Ох, и сердито ты работаешь, Лешенька! – бабушка сидит на перевернутом вверх дном ведре и, удивленно моргая, следит за ним. – Не зря говорят, что на сердитых воду возят. Вон сколько вспахал! Мне бы с моим радикулитом тут охать да ахать.
А Лешка вроде и не слышит этих благодарных слов. Налегает на лопату.
– Ба, а что мы здесь сеять будем? – наконец останавливается он.
– Огурцы, Леша, огурцы. Вот ты вскопал. Теперь граблями разровнять все надобно. Траву выбрать, чтобы сорняков поменьше было. Затем траншейки ровненькие прорыть, навозу в них натаскать, земелькой присыпать. А уж потом семена огуречные в рядочки уложить… Охо-хо-хо, спину-то не разогнуть. Пойду покухарю маленько. Небось, и у тебя живот есть просит, а?
Бабушка старательно отряхивает передник, а потом и вовсе отвязывает его и оставляет на заборе. Стоит, поглаживает тыльной стороной ладони поясницу, прислушивается к какой-то своей боли. Вот это да! Раньше Лешка никогда не думал, что бабушке бывает и больно, и тяжело. А сейчас изо всех сил торопится отвести глаза от ее доброго лица, в дряблых складках которого хитро прячутся юркие морщинки. Лешка почти задыхается от внезапно нахлынувшей нежной жалости. Хорошо, что не видит никто, как он растроганно морщится, покусывая губу, и уж совсем по-детски шмыгает носом. Ну почему раньше не додумался?! Ведь так просто! Лешка хватает зубастые грабли и, глубоко вдавливая их, причесывает вскопанную землю. Ведь чем больше работы сделает сам, тем меньше ее останется бабушке. Надо только очень стараться…
Его волосы уже давно слиплись от пота, и глаза пощипывает, и соленый привкус на губах тоже, наверное, от него. А тут еще солнце припекает так, что тень только под самым стволом яблоньки притаилась. И рукав уже мокрый – хоть выжимай. Лешка минуту колеблется, а потом вовсе снимает эту жесткую гимнастерочную рубаху и вытирает ею лицо, как полотенцем. Пусть повисит на яблоньке – посушится, а ему и так тепло будет. Он вскидывает грабли далеко, на вытянутые руки, и тут же подтягивает их к себе, безжалостно круша земляные комья, подгребая к ногам кустики лебеды и скомканные пики пырея.
«Хорошо здесь огуречник зазеленеет, просторно ему будет стлаться-кудрявиться, – радостно думает Лешка. – А потом лопушистые листья разрастутся, и под ними окажутся плотненькие, колкие на ощупь огуречики. Вот это да! Нагнулся, пошарил рукой, оторвал – и жуй на здоровье! Вкуснятина! И чистить не надо. Только ладонью его хорошенько погладил, чтобы все черные колючинки осыпались. Можно и водой холодненькой обдать – это уже для бабушки. А то начнет всякими болезнями страшить…
– Здорóво, Алексей-хлебопашец! Что делаешь? – Толик в одних длиннющих, едва не до колен, черных трусах стоит и так дышит, словно ребра свои напоказ выставляет. А мускулы – ничего! Вон как по рукам бугристо расхаживают.
– Ну так что же ты делаешь, хлебопашец? – уже совсем почему-то смеется Толик и на этот раз не откидывает, а отводит рукой со лба челочку.
– Огурцы… уплетаю, – Лешка вскинул грабли на уже причесанную землю, выравнивая едва заметный бугорок.
– Уп-ле-тае-ешь? Сначала их п-посадить и в-вырастить надо! – Толик неловко переминается с ноги на ногу. Холодно еще, небось, босиком? И заикаться он стал, вроде от Нюрки заразился.
– Замерзнешь ты, Щегол, простудишься. Рано загорать.
– Ничего. Закаляюсь… Тебе помочь? Или уже все посеяли? У нас здесь в прошлом году морковка росла – толстющая. Только я ей не очень разрастаться давал – таскал за чуприну! Сладкая. Бабке урожай убирать не довелось…
– А что, Щегол, и тебе, небось, жалко этой земли, как бабке твоей, а?
Лешка еще не договорил, а уже сердился сам на себя, чего он с этим вопросом? И бабка Матрена… В больнице она… Нехорошо как-то вышло. Лешка зло причесывает землю граблями и виновато смотрит на Толика. А тот уже приседания считает, согревается.
– Если честно, то вначале и мне жалко было, – трудно выдыхает слова Толик. – А сейчас нисколечко. Куда нам столько земли и сада на двоих с бабкой?! Мама в детдоме работает. Нюрка всегда при ней. Там и живут. Они, можно сказать не в счет. А вас вон сколько… – Толик выпрямился и широко повел руками, успокаивая дыхание. – Хочешь, помогу тебе канавки копать. Я только за саперной лопатой сбегаю.
Он уносится, ловко перепрыгивая грядки, а через мгновение уже весело жонглирует коротенькой лопаткой, раскручивая ее на вытянутой руке. Р-раз – и хватает посередке черенка, д-два – и взмахивает кистью, раскручивая лопату, три – и она сама по себе крутится, повисая в воздухе, четыре – и снова подхватывает мелькающий черенок.
– Ну, ладно. Делу время, а потехе час. Так, кажется, тебя твоя бабушка поучает, – останавливает Толик лопату. – Начали. Из пункта «А» в пункт «В» навстречу друг другу вышли два поезда. Ту-туу! Пое-еха-ли, Леха!
Коротенькая лопатка, как заводная, вгрызается в землю, легонько подбрасывая ее, и ровненькая траншейка вьется вслед за Толиными босыми ногами. Лешка заторопился, глубоко вогнал свою лопату. А Щегол и это видит. «Не зарывайся, Леха! – кричит. – Давай мне навстречу». Теперь то, что надо. Главное, хорошенько опустить лопату, почти положить ее. Потом поднял – и в сторону высыпай. Снова положил… Хотя бы не разминуться. Лешка косится на Толика, но разве что разглядишь, когда лопату укладываешь? Да и Щегол старается вовсю – так землю швыряет, будто специально дымовую завесу из нее устроить решил.
– Эй, Щегол! А они не разминутся, эти наши поезда? – наконец выдыхает Лешка, так и не поднимая головы. Пусть лучше Толик оглянется – он, небось, уже до середины прошел. Потом донимать будет: «Плохо ты ехал, Леха, от станции едва отошел!» Да мало ли что он может придумать, этот Щегол?!
– Хорошо! Только чуть левее держи, а то с рельсов сойдешь – и не встретимся!
Левее, значит… Лешка круто поворачивает лопату, но удивленный смех заставляет его обиженно выпрямиться.
– Ой, Леха, да куда ты пополз?! Оглянись!
И правда, полез не туда, – выгнулась Лешкина канавка, каким-то горбом обросла.
– Так ты ж сам сказал: левее!
– То с моей стороны левее, а с твоей наоборот – правее будет. Понимать надо, – сконфуженно смеется Толик, откидывая со лба мокрую от пота челочку. – Сейчас мы план с картографии изобразим. Картография – это, Леха, наука о географических картах и способах их составления. А нам надо определить направление по сторонам горизонта. Прямо – север, сзади – юг, направо – восток, налево – запад. Направление север-юг на таких планах обычно обозначается стрелкой. Вот мы и рисуем стрелочки ровненькие!
Лешка, забыв о лопате, слушает Толика, восхищенно смотрит, как тот вычерчивает по рыхлой земле какой-то палочкой стрелки. И, наконец, высоко подбрасывает эту палочку почти к самой Лешкиной вербочке, которая, кажется, даже испуганно вздрогнула своими редкими листочками.
– Начали! – снова командует Толик. – Твой курс с юга на север, а мой – с севера на юг. Ту-у, ту-у, Леха!
Теперь все у них получается хорошо и быстро. Уже две ровненькие траншейки прорезали Лешкину грядку.
– Ну и влетело тебе вчера от бати, – напоминает Толик.
– А тебе сегодня от мамаши, да? – не остается в долгу Лешка.
– Подслушал, значит?
– И не думал. Всем слышно было…
– Ты языком болтай да землей не швыряйся, а то весь гумус растеряешь.
– Чего-чего? – обиженно насторожился Лешка. – Какой еще гумус? Сам ты…
– Ох, и темный ты человек, Леха! Гумус – это же в почве самые ценные органические вещества.
В который раз Лешке оставалось только задавать вопросы и удивляться.
– А откуда он берется?
– От гниения остатков растений и животных. Вот так… Ур-ра! Леха, кончили! – Толик цепко хватает Лешку за плечи, и земля летит им навстречу – мягкая, ласковая, теплая…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































