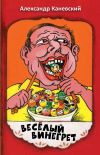Текст книги "Внучка берендеева. Летняя практика"

Автор книги: Карина Демина
Жанр: Детективная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 4. Где еще сборы ладятся
День пятый.
Дорогая моя Ефросинья Аникеевна, пишет тебе внучка твоя, надеюсь, еще любимая, но всяко единственная. Челом бьет и справляется о твоем здоровьице. Ладно ль доехали? Легка ли была дорога? Мягки перины? Крепок ли возок? Мне-то добрые люди сказывали, что, мол, на Выжнецах вы трактир изволили покинуть, поелику собака трактирщикова вас облаяла матерно, с того и оскорбились и в чистом поле ночевали. А сие для вашего здоровья нынешнего не есть пользительно.
Я перышком нос почесала, мысля, как дальше письмо писать. Третье уже… Не знаю, что бабка моя с первыми двумя сделала и дошли ли они вовсе до Барсуков, но вот… пишу.
И надеюсь, что очуняет[6]6
Очуняет – очнется, придет в себя.
[Закрыть] она.
Одумается.
И сама ж над собой, столичной особой, посмеется еще. А я, коль буде милостива жизнь, посмеюсь разом с ней. Со смеха, говорят, годков прибавляется.
Я ж так мыслю, что псина оная не со зла пасть раскрыла, а исключительно от неведения. Собачий розум куцый, где ж ему, кобелю трактирному, уразуметь было, кто на двор евонный ступить изволил, милость оказавши. Вы б ему сперва разъяснили, тогда б, глядишь, устыдился бы, поганый.
Доехали.
Пусть и ругалась бабка крепко на провожатых. И требовала немедля повернуть, дескать, дела у ней в столице преважные, не холопьего разумения, но боярской руки требующие да пригляду. Карами грозилась. И плакала. И хворой сказывалась. Станька о том весточку передала.
Тяжко ей.
Бабка как уразумела, что не боятся провожатые гневу ейного, то капризной сделалась, что дитя малое. То ей сквозило, то грело, то прело, то перина комковата, то одеяла тяжелы…
Нонече и мы в дорогу собираемся, поедем, а куда – мне сие неизвестно. Да и не только мне. По Акадэмии слухи самые разные ходют. Одные бают, что отправят нас к Верхним Бережкам, которые есть село славное, не раз студиозусов привечавшее, там, дескать, каждый год первый курс практику проходит. И местная нежить к сему привычная. Другие ж увереныя, будто бы до Бережков мы не пойдем, поелику нонешним годом там будуть ждать люди, и сплошь недобрые, которые восхочут царевичей смерти лютое предать, а заодно уж всех, кто с ими буде, а потому поедем мы в Броды. Я ж мыслю так, что не будет нам ни Бродов, ни Бережков, а выберут иное место какое, из тех, которые известны мало.
Писать ли про то, что слухи эти нарочно пущены? Чтоб, значится, ворог гадал, где ж нас встречать хлебом и солью, да метался меж Бережками злополучными да Бродами, которые тоже деревенька немалая, а ныне, чуется, и больше прежнего стала, приветивши сотню-другую стрельцов.
Нет, не буду.
Бабке оно без надобности, а попадись письмецо в чьи руки, так с меня ж за длинный язык и спрошено будет.
Ехать нам ужо через три денечка. Сперва-то разом пойдем, с целительницами, стихийниками и некромантусами нашими, которые заради этакой оказии из подвалов своих повыползли, ходют, бродют, бледнющие, что упыри на полную луну. Кривятся. Отвыкли они за учебу от солнца ясного.
Зевают во всю ширь и норовят на ходу придремать. Один и вовсе брел, брел, на стенку набрел, лбом в нее уткнулся и придремал, сердешный. Целительницы-то сперва его обходили, а после одна, зело сердобольная, шальку свою на плечи набросила.
Суета вокруг стоит, аккурат как у нас перед ярмаркой. Люд туды-сюды шастает, подводы грузятся…
Архип Полуэктович матюкается предивно, но больше не на нас, а на человечка лысоватого и хмурого. Эконом Акадэмии, как и многие прочие, был скуповат и хитроват. Мнится мне, что без этаких свойств из человека вовсе эконома не сделать.
Он хмурился.
И причитал, что мы, сиречь студиозусы, вводим его и всю Акадэмию в немыслимое разорение, еще немного – и вовсе по миру пустим со своими практиками.
И лошадь нам выдай.
И круп всяко-разных. Ведро. Котелок. Утвари по списку, Архипом Полуэктовичем всученному. А главное, выдали оный список мне, велевши все стрясти в точности. Я и трясла, как умела. Эконом же вздыхал и слезу пустил однажды, подсовывая мне вилки кривоватые, дескать, других нетушки и вовсе не в прямоте счастье. А ложки и вовсе сверленые, чтоб, значится, не крали. Как же этими сверлеными суп есть, он не сказал, верно, вовсе был против того, чтоб студиозусы ели и продукты казенные тем переводили.
Вот и сражались мы за каждый мешок.
А главное, что по норову своему паскудой редкостной будучи, эконом все обмануть норовил. То гречи недосыпет. То пшенку подсунет позапрошлогоднюю, которая уже и с запахом прели, и мышами поетая крепко. То сальце с прозеленью, которую всего-то и надобно, что тряпицей отереть. Котлы битые, а то и колотые, одеяла – драные… Но я науку вашу, сердешная моя Ефросинья Аникеевна, памятуючи, каждое одеяльце пощупала, не поленилась в мешки заглянуть, перевесить и крупы перетрясти с тем, чтоб вовсе негодные в Акадэмии оставить.
Эконома местечкового этакая прыть моя вовсе не радовала. Он кривился. Хмурился. Кричать на меня принимался, что, дескать, возюкаюсь и его от дел важных отрываю, что окромя нас на нем еще семеро групп, серед которых некромантусы, а им, помимо одеял и крупов, еще надобно всякого прочего выдать.
Ножей там жертвенных.
Свечей сальных, катаных. Волосьев девичьих. Кровей…
Думал, напугает. Не на ту напал. И некромантусы, которые за спиной моей стояли печальные да тихие, меня нисколечки не пугали. Ждут? Так и подождут. Вона, им ожидание не в тягость, стоят и дремлют, что кони, на ногах… Чему их там такому учат, что с этой учебы они на ходу спят-то?
Два дня я, Ефросинья Аникеевна, с этим экономом мучилась, пока он, закричавши голосом дурным, что, стало быть, я есть ему от самой Божини наказание за грехи прошлые, в волосья себе не вцепился. А тех волосьев у него не так чтобы много осталось. И не от Божини я, но от наставника нашего с поручением. Так я ему и ответствовала. А что заставила заячьи хвосты в том меху пересчитать, так он же ж у меня их взад не мешком принимать станет, а поштучно. И ежель пары-другой недосчитается, то не простит. Нет уж, все по списку мы с ним вместе проверили и перепроверили.
И ложки у него нормальные сыскались.
И одеяла.
И котелки с прочей утварью. От устатку он мне еще соли с полпуда отсыпал, и хорошей такой, крупного помолу, зерняной. Она на рынке по три серебряных за пуд идет.
Перышко я отложила.
Вот же диво. Вроде и привыкла ужо писать – что лекции, что рефераты, а все одно пальцы негнуткие, упрямые. Попишешь – и надобно шевелить, чтоб кровь по ним пошла. А письмо… Не о том бы мне писать, не об экономе и соли. Если по правде, то в тереме моем хватило б и котелков, и одеял, и круп всяких. А чего не хватило – рынок близехонько, там и сыскалось бы. Чай, не сбеднели б мы, сами себе припасы справивши, но…
Написать бы, что скучаю зело.
По дому нашему. По яблонькам, которые перецвели. По Пеструхе и двору… Косили ль траву? Косили, верно, да… Все одно не каждую неделю, а стало быть, поднялась она, забуяла, особливо крапива у дальней межи. Эту крапиву бабка специательно не выводила, чтоб было с чего щец наварить. С крапивы-то они хорошими выходили и пользительными. Малина, мыслю, тоже разрослась, недраная. А забор чинить надобно было еще прошлым годом. Огород… кто его садил?
Хата за зиму отсырела, обиделась, что бросили без пригляду. Она и так без крепкой мужской руки едва-едва держалась. Арей забор поставил бы. И наличники подтянул бы провисшие. С полом сладил бы скрипучим. А еще крышу перестлать бы…
Вернусь ли я когда?
Увижу ль бабку, которая, мнится мне, краску с лица поистерши, постареет… Я без нее скучаю. А она как? Вспоминает ли меня? Чтоб не словом гневливым, как сославшую ее, боярыню, в Барсуки какие-то, но как свою Зославушку, которую на коленях баюкала да от болячек детских выхаживала?
Ох, боюсь…
А еще, любезная моя Ефросинья Аникеевна, надеюсь я, что свидимся мы вскорости. Практика наша хоть и положена, а длится все одно три седмицы, после ж нас всех по домам отпустят, чему я премного рада. Надеюсь, что тогда-то и перемолвимся мы словом, поплачемся обо всем, по-своему, по-бабьи, да и обнимемся, друг друга простим за все…
Всхлипнула я.
И платочком глаза отерла.
А после сыпанула на пергамент песочку мелкого, чтоб скорей, значит, просохли чернила, да бумагу эту стряхнула. Запечатаю сургучом, колечком приложу, оттиск оставляючи, и хоть не родовое у меня колечко, не намагиченное, которое печать неразламываемой сделает, а все красивше.
Выехали мы на семый день.
А уж как выезжали… Небось вся столица сбеглась на этакое диво поглазеть. Про царевичей-то ведали, что учились они и цельный год проучились, помудрели…
Ну, как помудрели. Еська небось ежели чудом каким и доживет до седых волос, да при том мудрости навряд ли прибавит. Но народу о том говорить неможно.
Неполитично сие.
Значится, сперва загудели трубы медные числом с две дюжины. Под воротами загудели, воронье окрестное пужая. И взвились черные стаи, закружили с карканьем. В толпе-то, мыслится, разом сыскались бабки, которые в том дурной знак узрели. Да только какая ворона, себя уважающая, на месте при этаком гвалте останется?
Выстроились перед воротами трубачи в одежах алых.
Щеки пучат, дуют в рога кривые, медью окованные.
Барабанщики стучат.
Певчие песню затягивают, царя-батюшку славят.
Тут же и знаменщики со знаменами. И ветерок полощет полотнища шелковые, отчего орлы на них кривятся да народу подмигивают будто бы. Вот вышел глашатай в шапке высокой, чтоб, значится, отовсюду его видать было, а для надежности на плечи рынды всперся. И уж оттуда волю царскую и зачитал. Дескать, словом и делом будет служить царевич всему народу, а для того отправляется ныне укрепляться в знаниях не куда-нибудь, а в Чернолужье.
Там, значится, нежить расплодилась.
А я хмурюсь, силясь вспомнить, где это самое Чернолужье искать. Уж не то ли Чернолужье, которое под Тульиным стоит? Да на семи озерах? Нежити всякой там и вправду изрядно, озера стоялые да болота – для ней самое милое место.
Глашатай же продолжал кричать, рассказываючи, какие подвиги совершит царевич во славу царствия Росского и зачета по практике ради. Ажно я заслушалась… Это ж сколько нам нежити известь придется? Вон, и виверну помянули… Архип Полуэктович только нахмурился.
А мне подумалось, что как ни крути, но виверна ему родич.
Только крылатый и безголовый.
Вот глашатай и смолк.
Внове загудели рога. И трубы заорали. Застучали в барабаны барабанщики. Что-то громыхнуло. Лязгнуло. И ворота Акадэмии отворились, первую подводу пропускаючи.
Стрельцы.
Рынды.
– Нам бы еще скоморохов, – пробурчал Архип Полуэктович, в седло взбираясь. И парасольку свою открыл, на сей раз шелковую, расписанную цмоками предивными.
– Зачем скоморох?
Меня уже в Акадэмии посадили на вожжи, я их и подобрала, сжала покрепше: ну как испужается лошадка труб с рогами? Где потом ловить? У меня ж на телеге подотчетной утвари двести сорок пять единиц. Растрясет – эконом после душу из меня выколупает той самой дырявой ложкой.
– А без них не веселою. – Архип Полуэктович лошадку свою, махонькую да косматую, больше на здоровущего кобеля похожую, чем на коня, пятками тронул. – Не зевай, Зось, наш выход… Народ жаждет зрелищ.
Вот тут-то я согласна была. До зрелищев наш люд зело охочий. И тут уж немашечки разницы – зреть ли, как смутьяна казнят, на ярмарочных скоморохов аль на выезд царевичев.
Поехали.
Сперва целительницы, коих ажно три телеги набралось. Да те телеги они покрывалами расшитыми прикрыли для красоты. Коням в гривы ленты заплели, на дугу бубенцов повесили гроздьями, сами разоделись, кто во что гораздый. Сидят пряменько. Спины держат.
И выходит же ж! Пусть телеги для таких выездов и не предназначенные…
За ними уж стихийники, которые больше верхами. А поелику из боярских детей они, то и кони были хороши, и сбруя. Ветерку намагичили, что по-над толпою пронесся, сыпанул серебристыми звездами, а оные звезды на землю посыпались монетами полновесными.
Загудел люд.
Иные, особо доверчивые, и кинулись магическое золото подбирать. Сие, конечно, зря… Эти монеты – иллюзия. Коснись – и распадется, обожжет пальцы холодком.
Нам Архип Полуэктович так объяснял.
За стихийниками некроманты выезжали.
Телега черная. Кобыла… Чуется, не особо живая кобыла, если и кобыла вовсе. Тварюка огроменная, на которой разве что горы пахать. Бухает тяжко копытами, от каждого шагу площадь вздрагивает. Махнет тварюка хвостом, и люди шарахаются. Глянет красным глазом, и вовсе пятятся.
Некроманты знай себе подремывают на солнышке, в плащи закрутились, что наружу только макушки и торчат. Не люди – нетопыри. А там ужо и мы тихой сапой. Кобылка наша даром что неказиста с виду, а ходка. Телегу тянет, головой только потрясывает…
Царевичи-то оружными ехали.
И как-то вот видела я их, видела… После раз, и попрятались промеж стрельцов, поди-ка различи, где особа важная, а где обыкновенный служивый человек. Архип Полуэктович со своей парасолькой – вот уж кого и в дурном сне не попутаешь – и тот куда-то подевался. А из ворот Акадэмии экипаж выкатил, значится, в четверик запряженный. Люд простой только и ахнул. Кони-то чудесные, с шеями лебяжьими, сами белы, копыта серебряны. На облучке карла сидит в шапке высокой. Кафтан зеленый с рукавами длиннющими, что мало земли не касаются. А в экипаже, стало быть, Марьяна Ивановна наша восседает, в мехах да при шапке высокой, жемчугом шитой. И полной горстью медь звонкую людям кидает.
Настоящую, не чета зачарованной.
Я сама на этакое диво загляделась, рот раскрыла, позабывши и про приличественность, и про мух, которых летним часом проглотить недолго.
Да только диво на этом не закончилось. Не успел возок отъехать, как из ворот раззявленных показался витязь, и такой, про каких сказки сказывают. На коне гнедом, и конь этот – гора горой, сам в броню закованный, только грива пшеничная до копыт стелется, а в гриве той золотые ленты привязаны. Попона алая, до самых до копыт. И витязь восседает видом грозный. Плечами широк, руками могуч. В левой – секира, которой, верно, цельный дом от крыши до погребу перерубить можно, в правой – копьецо из дуба молодого. Вот глядишь, так и верится, что махнет секирой – и опустеет улица, копье в полет пустит – и переулочки сгинут… то есть не сами переулочки, к чему их бить, а вороги, которые в них прячутся.
Ежели прячутся.
По-за этого витязя, который лицо свое за кованой личиной прятал, народ сразу и попритих, про медь звонкую и то забыли. Зато внове трубы грянули…
– Зославушка, правь правей, вон на ту улочку. – Архип Полуэктович с конька своего на телегу перемахнул. И парасольку на мешки кинул. Вот, теперечи еще и за ней следить! Вожжи, главное, перехватил и коняшке цыкнул, чтоб ходу прибавила. И еще одно диво. Были перед нами стрельцы и не стало, куда сгинули? Того не ведаю… Только и через них, и через рынд, и через люд честной проехала телега на тихую улочку, которую туточки Бочкаревой прозывали.
Одна телега проехала, а другая в хвосте осталась, плелась за некромантовой, что привязанная. То есть аккурат и привязанная, как приличной иллюзии сие подобает.
– А…
– Позже появятся. Ты едь, внученька, едь, а то ж опоздаем к воротам. Ишь, окаянные! – На месте Архипа Полуэктовича дед сидел, старый и сухонький. Из-под картуза волосья клочьями выбиваются, борода взъерошена, лицо у деда приплюснуто да прикривлено, губы сухонькие поджаты, а к нижней папироска приклеилась. И дед этот папироску жует. – Развели балаган, ироды! Честным людям ни пройти ни проехать!
И клюкой грозится непонятно кому.
Глянула я назад и обомлела. Стоят на телеге бочки – что огроменные, ободами железными перетянутые, что махонькие, с два кулака.
– Езжай, внученька, езжай. – И дедова клюка в бок мне ткнулась. – После на чудеса столичные дивиться станешь. Ишь, учудили… развели… народ глазеет…
А глазеть было на что.
За витязем, в коем мне виделся Фрол Аксютович – вот на другого кого этакая броня не взлезла б, а когда б и всперли всем миром, небось не усидел бы в ней живой человек, – и моя наставница показалась. Тоже при полном, так сказать, параде.
Коней тройка.
Черны-смоляны. Гривы подобраны и скручены бубинками, а каждая бубинка алою ленточкой перевязана. Попоны золочены. Упряжной под дугой идет, ноги выкидывая, что танцор, пристяжные к нему ластятся. Повозка на двух колесах, каждое с мой рост будет, стоит. Катятся колеса, сверкают каменьями драгоценными. А по колеинам за ними трава прорастает, да не просто трава – ружы белые…
– Вновь иллюзией балуется… – Архип Полуэктович головой покачал. – Вот скажи, Зослава, отчего люди в короткой жизни своей не ценят, чего имеют? И даже когда потеряют, то, обретши вновь, снова забывают, что еще недавно готовы были все отдать, чтоб вернуть…
Люциана Береславовна в повозке сей – царица царицей.
В шелках азарских.
Синий.
И бирюзовый.
И серебристый.
Ветерок эти шелка тревожит, растягивает иные полотнищем, узор за узором раскрывая, а боярыня сидит бездвижна, не человек – кукла парпоровая. Лицо набеленное. Волосы башней, в коию воткнуты цианьские спицы с бубенцами да висюльками золотыми.
И хороша она.
До того хороша, что вздыхаю я… Знаю, для кого рядилась. И знаю, что зазря.
А потому цокаю нашей лошадушке, чтоб шагу прибавила. До заходних[7]7
Заходний – западный.
[Закрыть] ворот нам полгорода объехать надобно. Да через торговую слободу, где своих телег полно.
Проехали.
Протиснулись – когда сами, когда криком и грозьбой. И грозилась не я, но дед Михей, который зело руглив был. Ох и матюкался ж он! Люд честный ажно рот раскрывал, слухаючи. Я и то пару словесей запомнила и про себя повторила. В жизни-то всякая наука пригодится…
За то и получила клюкой по хребту.
– Ишь, набралась, внученька! – Дед Михей сопел грозно. – Где ж это видано такое, чтоб девка ругалась? Выкинь дурь из башки своей!
И по голове уж клюкой.
– Деда! – возопила я, а стражники знай хохочут. Это мы аккурат к воротам подъехали, стало быть. – Этак ты мне весь розум выбьешь!
– Было б чего выбивать! Бабе розум что шальному коню свобода… и себе во вред, и другим не на пользу. А вы чего встали? Не видите, человек домой спешит!
И ужо страже грозится.
Ох, и языкаст он был, всем досталось, окромя царя… Но ничего, пропустили и даже дороги мне пожелали доброй. Чего на сие пожелание дед Михей ответил:
– Не кривись, Зославушка… – Дед Михей по бочке постучал. – Он ведь и в самом деле существует, дед Михей из деревни Корвзята, и внучка его, Михалина, младшая и самая спокойная, иные-то с Михеем не ладят. Вот и отрядила ее родня с дедом торговать, потому как бочкарь он славный, на все царство Росское известный, только не с норовом его на рынке стоять, всех покупателей ославляет, а Михалина – девушка тихая…
И неказистая. Невысока, полновата, конопата. Глянула я на себя в зеркальце украдкой. Вот девка, этаких на дюжину десяток.
– И каждый третий четверг дед Михей привозит свой товар на продажу. Останавливается в «Веселой курице», у сродственника, который один готов терпеть его придирки и сквернословие, потому как сам таков. К приезду Михееву вытаскивает он флягу сливянки, которой дня на три отдыха хватает, аккурат чтоб Михалина распродалась… После вот Михей с опохмелу злой, злей обычного, садится на телегу… На этой седмице не свезло. Привез Михей товар для одного купца, но тот торговаться вздумал, вот Михей и уперся.
Бочки я потрогала. Надо же, будто настоящие.
Гладенькие.
Хорошие.
– Да и сродственник Михеев приболел, вот и не заладилась поездка.
– А…
– Настоящий Михей ногу подвернул, а одну Михалину отпускать отказался, как и прочих сродственников своих, которых за дураков держит. Сам бочки повезет, когда отойдет малость.
Я только и нашлась сказать:
– Это удачно вышло.
А дед Михей усмехнулся так кривенько:
– Удача подготовку любит… А Михей – свою внучку, которую единственную толковой считает. Вот и припрятывает для нее когда медяшку, когда две, а когда… приданое собирает, чтоб выдать за хорошего человека…
Я кивнула.
Вот же… не чаяла того, а все одно в чужую жизнь заглянула.
Ехали мы до Полушек, которые аккурат перед столицей раскинулись, мимо дворов постоялых, мимо кабаков и трактиров. Выехали за поля пшеничные и через лесок сосновый, где нас и ждали.
– Это что деется-то? Что деется? – громогласно возмутился дед Михей, поскребываючи лысоватую маковку. – Здоровущие лбы, да без дела маются!
Сказано сие было верно.
Как есть маялись.
Кони расседланы.
Костерок на поляне горит. Над костерком – рогатина, на рогатине – котелок, да из новых, неучтенных, поблескивает неопаленным боком. В котелке булькает ушица, и рыбный сладкий дух по всей поляне расползается.
У меня сразу в животе заурчало.
Над котелком Кирей сидит с длинной ложкой деревянной. За его плечами – Еська с Елисеем, без ложек, зато, надо думать, с советами премудрыми, потому как на веку своем я усвоила, что без премудростей ушицу не сварить, выйдет обыкновенный рыбный суп.
Егор на лапнике прилег, под голову седло сунул, в небо пялится.
Думу думает, и по лицу евонному понятно, что дума сия про судьбу всегойнего мира, не иначе.
Емелька ложечку стругает. И во всем этом пейзаже такая благость, что ажно слеза навернулась. Сидят, родненькие, нас ждут.
– Дядько, – Егор глаз приоткрыл, из дум выползаючи, – ехали б вы, куда ехали.
– Ишь, разговорился! – Дед Михей кобылку-то придержал и с телеги соскочил с нестарческой прытью. – А тут, за между прочим, мое место! Мы тут с внученькой завсегда останавливаемся, когда из городу едем.
– И что? – Егор открыл второй глаз и, узревши перед собой сухонького да лядащего старичка в дрянном одеянии, оные глаза и прикрыл.
– Траву потоптали! – взвизгнул дед Михей, клюку перехватываючи.
– Дед… – Егор поморщился. А то! Голос у деда был пренеприятственный. – Ехал бы ты… говорю…
– А то что?
Кирей от ушицы взгляд поднял.
И усмехнулся.
Узнал?
А если так, то Егору не подскажет, ложку свою переложил из правой руки в левую да помешал варево, на что Елисей с Еськой зашипели в один голос. То ли рано мешал, то ли посолонь, когда наоборот надобно. А может, быстро аль медленно, кто ж их, мужиков, с рыбацкими их секретами поймет?
– Костер жжете! За конями не ходите! Ишь, развалился, простому человеку ни пройти ни проехать…
– Дед, – Егор привстал, – ты бы сумел, а? А то ж не погляжу, что старый…
– А ты и не гляди! – Дед Михей подскочил к Егору и по ногам клюкой перетянул. – Не гляди, что я старый! Небось силенок хватит, чтобы бестолочь этакую жизни поучить…
Этакого оскорбления Егор терпеть не стал. Ох, и взвился он, что кошак, которому под хвост хрену плеснули. И на деда кинулся. Да только того деда-то… оно ж лишь мнится, что соплей перешибить можно.
– Старых забижать?
Дед в стороночку отступил и Егору по плечам клюкой вдарил.
И по заднице.
И после… Я только вздыхала, на царевича глядючи. Гонял его дед Михей по всей поляне, а Егор злился. Пыхал. Матюкался… по-простому матюкался, без изысков. А добраться до деда не умел… Когда ж, вовсе озверевши, сотворил на руке огневика, дед головой покачал:
– Учишь вас, учишь, а без толку…
И бровкой вот так повел, отчего огневик прямо на руке и развалился, жаром шкуру царевичеву опаливши. Ох, и заорал Егор! Все окрестные птахи над рощицей взвились.
– Не ори, – сказал дед Михей голосом не своим, а Архипа Полуэктовича, и дланью могучей сказанное подкрепил. Оно и верно, с дланью как-то надежнее будет. – Сам влез, так что терпи…
Я только лицо за руками спрятала.
И жалко было мне царевича, которого и в листьях прошлогодних изваляли изрядно, и в грязи, а после своим же огневиком подпалили, и смех разбирал. Уж больно лицо Егорово сделалось обиженным.
– Но…
Он руку свою к груди прижал.
Опалило, но не сказать, чтоб сильно. Шкура красная, да без пузырей и не облазит. Болюче, правда.
– Помоги этому олуху, внученька, – передразнил деда Михея наставник, исконный облик свой принимаючи. – А ты, дурень, другим разом не гордостью боярской, а головой подумай. Ишь… решил, раз дедок, то и обидеть можно?
– Вас обидишь, – пробурчал Егор и головой потряс, пытаясь от листа осинового, в кудри вбившегося, избавиться. – Если б я знал…
– А ты не знал? А вы?
– Ну… – Кирей ложку свою Еське передал. – Я сигналки ставил. Ни одна не сработала, хотя должна была бы… Значит, если это и телега, то не простая… а на непростых гостей лучше поглядеть для начала…
Евстигней кивнул и молча показал пару ножей, которые в ножны отправил.
– Запах прежний, – дернул носом Елисей.
А Ерема только кивнул, мол, прежний.
– И ведро на телеге с моей меткой, – добавил Еська и отступил на всяк случай. – А что? А вдруг бы потерялись? Да я ж свою метку… ее обыкновенному человеку не видно!
– Ишь, умник. – Архип Полуэктович к котелку подошел. – Рыбу где брали?
– Так Лойко еще вчерашнего дня наловил. Всю ночь просидел, а теперь вон… – Еська указал на кучу листвы, в которую боярин и закопался по самую маковку. Спит, стало быть?
И что это за сон, если его даже вопли Егоровы да ругань деда Михея не перебили? Уж не тот ли, не мертвый?.. Или просто полог тишины поставил? Полезная штука, когда выспаться надобно. От комаров опять же спасает.
– Понятно. А ты, внученька, не сиди сиднем, помоги этому…
Егор руку протянул и отвернулся, только щеки запунцовели. Стыдно ему было? За что? За то, что наставника не распознал? Аль за то, что его, боярина, дед какой-то по поляне гонял?
Руку я мазью обмазала да словом заговорила, к утру пройдет.
– Ты… спасибо, – сказал Егор и отвернулся.
Подбородок вздернул.
Ага, гордость очнулась, значится, жить будет.
Я в стороночку отошла, подальше от Егора, поближе к телеге. И вправду делов ныне хватит. Вона, надобно миски отыскать, скатерочку какую-никакую. Хлеба порезать, сальца. Были в телеге и огурчики соленые, капусточка, да и пирогов мне Хозяин в дорогу собрал цельную корзину, чтоб, значится, не оголодала.
– Думаете, не поняли… – Еська, бестолочь этакая, пирожок с лету ухватил да, разломивши пополам, обе половины в рот и сунул.
– Думаю, что есть шанс. – Архип Полуэктович на седло сел, ноженьки перекрестил, руки на колени положил. – Пока мы с вами едем… А там будет видно.
И от пирожка кусочек отщипнул.
Потянул носом.
– Переварите, ироды… Кто ж ершей столько вываривает? Никакого умения, – пробурчал и ложку отобрал. – И тмином попортили. Нельзя в уху тмин сыпать!
Вскорости сидели мы тесным кругом, ушицу пробуя.
Ой, хороша была…
А к утрецу еще один экипаж прибыл. Как экипаж – телега обыкновенная, не самая новая, однако крепкая еще. Тянула телегу кобылка соловая, а правил ею паренек вихрастый с конопатым носом. Промеж же мешков – может, с пшеницею, может, с шерстью, а может, еще с чем – две девки сидели: одна носатая да косоватая, другая рябая, что яйцо перепелиное. И обе жизнью крепко недовольные.
За телегою ж мужичок брел, лысоватый, в мятой одежонке.
– Долго ходите. – Архип Полуэктович над костром рукой провел, и притихло пламя, ушло в угли, а угли в землицу.
Выпрямилась измятая трава.
Распрямились ветки.
– Да уж. – Мужичонка сплюнул. – Кому-то собраться…
– Не понимаю, – рябая девка юбки подобрала да на землю спрыгнула, – почему мы должны куда-то там ехать? В конце концов, это просто-напросто неприлично! Одни, среди мужчин… Что будет с нашей репутацией?
– Не одни, – возразил паренек и ладонями по лицу провел, морок стряхиваючи. – Здесь Зослава.
– О да, целая холопка…
Маленка скривилась.
Вот же… а под личиной она краше была.
– Зослава не холопка, – устало произнес Илья, второй сестрице руку подавая. Та, по обыкновению своему, была бледна и печальна. И с телеги не сошла, почитай, сползла, охаючи да ахаючи. На землицу ступила, покачнулась и едва не упала.
– Ага, княжна… Слышали… – Маленка фыркнула и огляделась. – Ты-то и рад будешь нас уморить.
– Прекрати…
А она взяла и послушала.
Вот с того дня мы и ехали. На первой телеге Архип Полуэктович со скарбом казенным, коий я ему только доверить могла, а на второй – мы, стало быть, женской компанией, которая была тесна и тепла, что кубло гадючье.
Следом царевичи, Кирей с Ареем, который невестушку свою, царицей жалованную, седьмой дорогой обходить силился, да Ильюшка, родственной любовью вконец измученный. День так ехали, другой и третий уж разменяли, и верст не один десяток, а сил моих душевных и вовсе безмерно. И вот чуялось мне, что не за просто так те силы из меня тянули.
Грелось колечко.
Камушки порой так и вовсе вспыхивали гневно, и тогда кривилась Маленка, отступалась и, зарывшись в одеяла, кои вытащили для хворой ейной сестрицы, оттудова уже принималась стонать громко. Ныне же, в нору свою нырнувши, она нос высунула и громко, чтоб, значит, я наверняка услышала, сказала:
– А платье тебе на свадьбу справим шелковое… Видывала я такую ткань, Люблянушка, не ткань – а загляденье. На алом шелку цветы багряные будто бы. И жемчуг россыпью… Венчик из каменьев самоцветных, чтоб все видели, не холопку какую в жены берут…
Сказывает и на меня поглядывает.
А я что?
Молчу. Держу вожжи да мыслю об одном: когда-то ж должны мы до деревеньки той добраться, где меня от этой компании избавят.
Надеюсь.
Ибо иначе за себя не поручусь. Забить не забью, а вот косы повыдирать – сие самое честное дело…
А дорожка влево свернула.
И вправо.
И стала такой… Мы-то и прежде не по тракту цареву ехали, но ехали же. А тут… Все тесней смыкались колючие стены. Все ниже спускались тяжелые ветви лещины, так и норовя по лицу зеленой плетью хлестануть. Сныть разрослась, а крапивы, той и не видать. Зато расстилаются поля дымянки, хоть ты телегу останавливай и собирай вдоволь. Дымянка – трава полезная. От желудочных хворей да нутра больного, а рядом и толокнянка, и женская трава, которую не в каждом лесу встретишь…
Архип Полуэктович конька своего тронул да вперед выехал.
Принюхался.
– Скоро уже, – сказал он странным голосом. – И вправду, похоже, поехали туда, не знамо куда, да прибудем…
Кирей дивного коня своего по гриве потрепал да, будто прислушавшись к чему-то, сказал так:
– Вода рядом. Заклятая… И магия это древняя, не чета нашей.
– Значится, – Архип Полуэктович парасольку сложил, – куда бы ни приехали, а к месту…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?