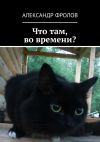Читать книгу "Кляча"

Автор книги: Казимир Баранцевич
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
V
Я мог свободно наблюдать новые порядки, так как в это время случилось, что мне не нужно было выходить из дому. Встанет хозяйка чуть свет, истопит печь, сунет горшок щей или каши и, наскоро выпив чашку жиденького кофе, бежит на фабрику. Петр Дементьич и дети еще спят. Первая встает Таня и начинает возиться с уборкой комнаты. Затем просыпаются мальчики. Замечательно, что Таня, в отсутствие матери, переняла от нее все приемы в обращении с детьми, начиная с убаюкивания и прибауток, с сохранением мельчайших интонаций голоса, и кончая грозными окриками, нередко с прибавлением колотушек. Последними девочка даже злоупотребляла, вероятно, ради сохранения за собой пущей авторитетности.
Напоив детей оставшимся после матери кофе, Таня принималась шить и читать. И то и другое проделывалосъ ею с чрезвычайно сосредоточенным, серьезным видом взрослого человека.
Наконец просыпается Петр Дементьич и, как есть, опухший, с целой копной нерасчесанных волос, хранящих в себе остатки пуха, накинув на плечи пальтишко и напялив картуз, ни слова не говоря, исчезает на час, на два. После таких, отлучек он являлся всегда пьяный, бессмысленно вращал глазами и снова заваливался на диван. И тогда уж от него ни гласу, ни послушания.
В исходе первого часа прибегала Лизавета Емельяновна, из печки вытаскивался горшок, и семейство садилось обедать. Петр Дементьич не ел почти ничего, и иногда на эту тему между супругами завязывался разговор, т. е. говорила больше жена, а муж молчал.
– Чего ж ты не ешь? – спросит она.
– Не хочу.
– Это винище тебя от еды-то отвратило. Долго ли будешь лопать?
Муж молчит.
– Моченьки моей нету, окаянный ты человек. Сидишь на фабрике, сердце ноет, думаешь, не случилось бы чего, а ему и горюшка мало!
– Оставь!
– Чего оставь! Пора за дело приниматься! Довольно пил, неделя скоро. Образумиться пора! Взглянись в зеркало, рожа-то на что похожа! Заказ-то небось лежит. Давеча дворничиха про детские сапоги спрашивала. Ребятишки босы сидят, выйти не в чем.
– Пусть сидят! Чего им выходить!
– А ты пьянствовать будешь? Очень хорошо! Вот, ей-богу, горе мое! Подсыпать бы что-нибудь, чтоб отвратило тебя, что ли!
– Подсыпь!
– У, бессовестный человек! Жалости-то в тебе нет! Хоть убейся, все равно, только бы водка была!
Беседа прекращалась. Лизавета Емельяновна уходила на работу, Петр Дементьич заваливался на диван, а Таня принималась прибирать посуду.
В семь часов, вместе с фабричным гудком, хозяйка появлялась снова. Тут ее окружали ребятишки; все неудовольствия и обиды, претерпенные ими в течение дня и затаенные в глубине маленьких сердчишек, заявлялись теперь без стеснения, сопровождаясь иногда плачем и писком.
– Танька деется! – заявлял четырехлетний Сеня.
– Та-а-а, – показывал на голову двухлетний карапуз, по-своему силясь объяснить нанесенное ему оскорбление.
Мать целовала их, гладила по головкам и с деланной строгостью обращалась к Тане:
– Ты что ж это, Танька, а? Вишь, жалуются! вот погоди, я тебя!
Но девочка отлично знала, что это «погоди» даже не угроза вовсе, а так себе, уступка обиженным, и притом, конечно, обиженным за дело, почему даже не давала себе труда оправдываться. Ребятишки же оставались удовлетворенными, и дело тем кончалось.
Не раз, в течение дня, мне случалось наблюдать за мальчиками. Играли оба карапуза всегда вместе, причем младший рабски подражал старшему. Вот старший, Сеня, возьмет на голову дощечку и носится с нею по комнате, крича и изображая торговца; Ваня тоже разыщет непременно что-нибудь, тоже положит на голову и ходит сзади.
А не то примутся изображать железную дорогу, для чего обыкновенно употреблялись валявшиеся по углам колодки. Сеня двигает по полу колодку, шипением стараясь подражать шуму локомотива, – безусловно, так же делает и Ваня. За день перероют, перебунтуют и насорят так, что кажется – после пожара; в особенности доставалось брошенным на произвол судьбы инструментам, и я полагаю, немалого труда стоило Петру Дементьичу собрать все это потом воедино и приспособить к месту.
Наконец пьянство Петра Дементьича окончилось. Мрачный и злой, надавав ребятишкам колотушек, сел он на свой обрубок и принялся постукивать молоточком. Долго после этого он не кланялся со мною при встрече, даже не глядел и отворачивался (я приписывал это угрызениям совести), но ботинки все-таки принес. Сделаны они были довольно аляповато, но я уже ничего не стал говорить и поспешил отдать деньги.
Носить мне их пришлось недолго. На второй же месяц, после довольно продолжительной экскурсии по сырой погоде, сбоку подметки я заметил предательскую трещину. Через несколько дней трещина превратилась в порядочную дыру, из которой торчала «начинка», т. е. обрывки разной дрянной, перепревшей кожи.
VI
Миновали вьюги и метели, подкрадывалась весна. И хотя мартовские морозы стояли крепко, но под теплыми лучами солнца снег стаивал постепенно, образуя по краям крыш длинные ледяные сосульки.
Однажды утром хозяин, сверх обыкновения, вошел ко мне в комнату. Лицо его было нахмурено и носило признаки внутренней тревоги. Нужно сказать, что еще раньше я заметил в доме нечто странное; Лизавета Емельяновна вышла было на кухню, охая повозилась у печки, но, тотчас скрывшись, больше не показывалась, – должно быть, легла.
– Чайку, Петр Дементьич? – предложил я.
Он отказался от чая и, нерешительно потоптавшись на месте, сел.
– Я к вам… хотел у вас деньжонок попросить… вперед, значит! Потому дело-то такое!
– Извольте, извольте! Что же у вас случилооь? Кажется, Лизавета Емельяновна нездорова?
– То-то вот оно и есть!.. Я для этого собственно… потому расходы: то, другое. Пожалуй, сейчас начнется!
Я догадался, что предстоит появление на свет нового существа, и так как нельзя оказать, чтобы отличался мужеством, особенно в таких случаях, то поспешил взяться за шапку.
– Вы это куда же? Пойдемте вместе! – предложил хозяин.
– Пойдемте! Разве вы не останетесь?
– Не люблю я эту музыку! – поморщился он. – Да и делать мне нечего; бабы все оборудуют.
Мы вышли, но так как обоим деваться положительно было некуда, то очутились в ближайшем трактире, где и спросили пару пива. Петр Дементьич был донельзя мрачен и молчалив.
Пробуя хоть сколько-нибудь «разговорить» его, я употребил банальнейшую фразу о приятности приращения семейства.
Он весь так и встрепенулся.
– Нет, уж вы лучше не говорите, – заговорил он, сдвинув брови. – А то выходит как бы насмешка. Какая уж тут радость, коли и этих-то не знаешь, как прокормить.
– Бог на каждого дает!
– Нам только не дает! – криво усмехнулся он. – Кому дает, а нам вот нет. Видно, не заслужили! Эх, да что тут! А я вам так скажу, что теперь чистый зарез, хоть в петлю! Жена-то вон на что похожа? Краше в гроб кладут! Кляча водовозная, одно слово! А все дети. Мало разве с ними муки, а с похлебки-то нашей не больно раздобреешь!
Пользуясь минутой откровенности, я заговорил о его пьянстве.
– Помилуйте! – воскликнул он. – Да нашему брату не пить – прямо в гроб ложиться. Первое дело – скука, а потом – житье наше уж больно плохое. Выпьешь – туман это в голове пойдет, ну и забудешься. Нет, уж нам без этого никак невозможно! Никак невозможно!.. Господам… тем, конечно, зачем пить! Их жизнь другая…
Он залпом выпил свой стакан и взял газету. Но, видно, ему было не до чтения. Повертев газету перед глазами, взял другую, тоже повертел и, отложив, вперил задумчивый взгляд в пространство. Выражения тоски и тревоги попеременно отражались на лице. Наконец он не выдержал, встал, пробормотал «прощайте» и вышел.
Весь день я не был дома и даже не пришел ночевать. Когда я вернулся утром следующего дня, к величайшему моему изумлению, дверь отворила Лизавета Емельяновна. Она уже «бродила», хотя была очень слаба и глядела скверно. И без того бледное, худощавое, лицо ее приняло какой-то оливковый оттенок, все черты обострились, глаза провалились, совершенно вот как рисуют на деревенских иконах, руки страшно похудели и казались высохшими. Ходила она вся согнувшись.
В первые дни ребенка совершенно не было слышно, но зато потом он дал себя знать. Это было донельзя маленькое, тщедушное создание, с синевато-мертвенным оттенком крошечного личика, постоянно кричащее, постоянно готовившееся умереть и, однако, не умиравшее.
Понятно, в семье новорожденный был совершенно лишним. Об этом громко говорили муж и жена и разные знакомые, заходившие проведать родильницу.
То и дело за перегородкой слышались такие разговоры:
– Кричит, кричит, уйму на него нет, хоть бы бог прибрал поскорее! – говорила хозяйка.
– А вот погоди, окстим, так и бог с ним! – замечал муж.
– А вы бы поторопились, родные! – вмешивался бабий голос. – Больно уж он хвор у вас, – неравно помрет!
– Да не помирает! – тоном безнадежного отчаяния замечала мать. – Меня-то только связал, ни тебе на фабрику, ни пошить что!
– О-хо-хо! – вздыхала гостья. – Уж не говори, Емельяновна, помаялась я с ними, было уже, да, слава тебе господи, примерли все!
VII
Ребенок дождался крестин. Хозяин зашел ко мне, приглашая вечером на пирог. Очевидно, он уже пропустил рюмочку-другую и был в веселом настроении. Мне показалось даже, что его не столько занимает самый обряд крещения, сколько представляющийся случай выпить. Лизавета Емельяновна все еще не оправилась как следует, а в этот день совершенно даже выбилась из сил, так как, помимо печенья пирогов, приготовления закуски и водки, ей приходилось еще возиться с больным ребенком и следить за Петром Дементьичем, чтобы он не пропустил лишний стаканчик. К назначенному часу гостей набралось человек пять-шесть, и опять-таки мне показалось, что весь этот народ явился с исключительной целью выпить и, по возможности, плотнее закусить. До прихода священника все держали себя весьма дипломатично, осведомлялись о состоянии здоровья и родильницы и новорожденного, с сожалением покачивали головами и давали различные домашние советы. Худенький старичок с седой всклокоченной бородой и слезящимися глазами, служивший некогда сторожем при какой-то больнице, он же и кум, убедившись, что ребенок кричит от грыжи, безапелляционно рекомендовал какую-то, им самим придуманную мазь.
– Сам придумал! – восторженно восклицал старичок. – Пять лет бился над ней, проклятой, зато раз только помажь – как рукой снимет!
Кума Терентьевна, зловещего вида старуха с ястребиным носом и волосатой бородавкой на подбородке, утверждала за достоверное, что ребенок кричит от молочницы, и тоже предлагала радикальное средство – водку.
Остальная публика: унтер, кондуктор с железной дороги и миловидная швейка – тоскливо посматривали на закуску, вздыхали и с видимым нетерпением ожидали главного. А главное началось после ухода священника, когда от огромного пирога с рисом осталась одна краюшка и почата была вторая четверть водки. Тут уж о хозяйке и новорожденном все забыли. В клубах табачного дыма мелькали раскрасневшиеся, потные лица пирующих. Стоял сумбур речей и восклицаний.
– Кум, а кум! – слышался визгливый голос Терентьевны. – Ты что ж это сам пьешь, а мне не подносишь?
– Чего тебе подносить? Хлеб на столе, а руки свое!
– Аль от глаз подальше – из памяти вон?
– Двигайся к столу-то!
– Что ж, вы на колени ко мне желаете? – спрашивал галантный унтер с лихо закрученными вверх черными усиками. – Сделайте ваше одолжение, с нашим удовольствием!
– Хи-хи! Многого хотите! – жеманничала швейка.
– Кум! – коснеющим языком взывал кто-то из угла. – А пом-мнишь… В запрошлом году… Евстигней пришел пьяный-распьяный… пришел это…
– Что ж вы пирожка-то! Кушайте, кушайте! – приглашала хозяйка, убаюкивая немилосердно кричавшего ребенка.
– Пом-милуйте! Сыты, много довольны!
– Рыбки!
– А рыба ведь плавать любила, а? – подмигивал Петр Дементьич.
– Нал-лей!
– …а Петруха на чугунке служит! Сорок целковых получает. Намедни бенжак купил, сапоги…
– Франтит!
– …чего вы тискаетесь? Сделайте одолжение, подальше…
– …пришел это Евстигней и гов-ворит…
– …ежели я теперича на перекличку…
– Кума, выпьем, что ли!
Через несколько времени откуда-то появилась гармония. Чуть ли ее не принес дворник, пришедший «проздравить» и, не снимая шубы, расположившийся у стола. Унтер играл, стуча в такт каблуками. Хозяин плясал с кумою русскую. Все было пьяно. Шумели страшно, перебивая друг друга и даже ругаясь; дети хныкали и просились спать, новорожденный охрип от крика. Я ушел в свою комнату с целью лечь спать, но, взглянув на кровать, увидел, что она была занята: на ней спал огромного роста мужик с лопатообразной бородой. С трудом растолкав незваного гостя и выпроводив за дверь, я лег, но долго еще не мог заснуть, волнуемый шумом. Среди ночи меня разбудили страшные крики и детский плач, доносившийся из-за перегородки. Слышался звон разбиваемой посуды.
– Вон, говорят вам, вон! – кричала Лизавета Емельяновна. – Убирайтесь вы все к черту! Что за безобразие такое! Людям покоя не даете, детей перепугали! Петр Дементьич, ты хозяин, чего смотришь?
– Брось!
– А как он смеет драться? Я не посмотрю, что он унтер! Ишь какой выискался!
– Я царю служу, я царю служу, понимаешь!
– Уходите вы ради бога!
– Врешь, как он смеет!
– Кузьма Ильич, бросьте!
– Цыц!
– Цыкал один такой, да не ты!
– Терентьевна, ты чего? Курица мохноногая!
– Р-рожа, видно, цела?
– У тебя рожа, у меня лицо!
– Чертовка старая!
– Вон!
Это уже крикнул Петр Дементьич каким-то осипшим, диким басом.
Гости притихли и стали собираться домой. Наконец, все гурьбой выводились из дверей. Но на дворе еще долго Слышался шум. Чей-то пьяный голос кричал:
– Я не посмотрю, что ты унтер, ж-живо в участок отправлю!
У хозяев водворилась тишина. Новорожденный молчал, должно быть, совсем выбился из сил. Хозяйка ходила по комнате, охая и вздыхая, и звенела черепками. Петра Дементьича совсем не было слышно.
VIII
Co дня крестин он, по обыкновению, запил, и вот начался целый ряд истинных мук для Лизаветы Емельяновны. Нужно было только изумляться ее необычайному терпению и выносливости. Хворый ребенок не сходил с рук, даже мне надрывая душу непрестанным жалобным писком, а между тем нужно было добывать денег для прокормления семьи. Зачастую приходилось питаться одним черным хлебом… Для несчастной семьи наступили тяжелые дни. Пришлось закладывать сперва одежду, инструменты, потом уже разную домашнюю рухлядь. Так постепенно исчезли: самовар, замененный каким-то помятым чайником (скоро и чайника не оказалось), мельница, серебряная риза с иконы Спасителя и многие другие вещи…
И все бедствия черных дней легли исключительно на плечи несчастной женщины! Ей не с кем было ни посоветоваться, ни душу отвести. Иногда заходил старичок-кум, по, будучи сам беден как Иов, никакой существенной помощи оказать не мог: посидит, повздыхает, сунет ребятишкам по копеечке и, безнадежно махнув рукой, уйдет.
Если бы Лизавета Емельяновна умела плакать, она в слезах, быть может, нашла бы кое-какое облегчение своему горю, но она была не из таких, не плакала, не жаловалась, а, напротив, как-то закаменела и, закаменев, в молчаливом отчаянии несла свой крест. Конечно, поправиться она уже не могла, а, наоборот, стала глядеть еще хуже; появился сухой зловещий кашель. Она сделалась чрезвычайно раздражительной, стала бить детей, проклинать их. Кляча надорвалась…
Петр Дементьич пил целый месяц… Это уже выходило из программы и встревожило даже меня, так как при этом у него стала проявляться наклонность к буйству.
Как-то вечером, после чая, я намеревался лечь спать. Хозяева находились в кухне, и до меня долетали звуки их голосов; судя по интонации, можно было предположить, что между супругами происходит ссора. Вдруг дверь моей комнаты отворилась, и вбежала Таня. Она была чрезвычайно бледна и вся тряслась. Бросившись ко мне, девочка зарыдала.
– Что ты, Таня, что с тобой? – встревожился я.
– Папа буянит! – проговорила девочка сквозь слезы.
Я посадил ее на колени, стал гладить по голове и утешать, как мог.
Девочка была в сильном нервном возбуждении и никак не могла успокоиться. Тотчас соскочила с колен, выбежала из комнаты, но чрез несколько минут вернулась снова, на этот раз радостная, вся сияющая.
– Папа не буянит! – объявила она, улыбаясь сквозь слезы.
– Ну, вот и отлично! Посиди тут, а потом пойдешь!
Но девочке не сиделось. Она снова убежала и возвратилась уже в слезах.
– Папа опять буянит! – проговорила она.
Я вышел на кухню.
Захватив женину кофту, Петр Дементьич, ругаясь и грозя кулаками, порывался уйти. Лизавета Емельяновна не пускала его. Я ввязался в ссору, стал уговаривать хозяина, просил, убеждал, указывал на болезнь жены…
Он молча выслушал меня, бессмысленно скосив глаза, и в заключение попросил двугривенный…
Смерть новорожденного положила конец пьянству. С утра Петр Дементьич ушел куда-то, пропадал целый день, а к вечеру пришел трезвый и принес гробик. После жалобного детского крика, наполнявшего квартиру, вдруг наступила тишина. Присмиревшие дети жались друг к дружке и боязливо посматривали на стоявший под лампадой в переднем углу гробик, из которого выглядывало спокойное, синевато-бледное лицо маленького страдальца.
Петр Дементьич с особенным усердием стучал молоточком, словно усиленной работой пытаясь отогнать тяжелые думы. Лизавета Емельяновна что-то сосредоточенно шила, слегка покашливая. Во всей квартире царила давящая тишина.
На какое-то замечание мужа я услышал, как Лизавета Емельяновна ответила голосом, дрожащим от слез:
– Ах, Петя, Петя!
В этом было все: и упрек, и жалоба, и крик измученного, наболевшего материнского сердца…
Петр Дементьич, как бы в ответ, только сильнее стукнул молотком.
IX
В начале лета я получил урок в провинции и оставил своих хозяев. При прощанье Петр Дементьич, многозначительно подмигнув, сообщил, что, кажись, опять «того». Да оно и так было заметно: на Лизавету Емельяновну смотреть было страшно.
Она сделалась еще раздражительнее, но по-прежнему ходила на фабрику, принося даже в складках одежды запах табаку, мельчайшими частичками которого бедной женщине приходилось дышать в течение двенадцати часов в сутки.
Совершенно незаметно прошло лето. Как ни жаль было расставаться с южной природой, а пришлось ехать в Петербург и снова начинать скитальческую жизнь «интеллигентного пролетария».
С невыразимым чувством тоскливого одиночества приехал я в Петербург и, до приискания комнаты, занял один из бесчисленных дешевых номеров недалеко от вокзала.
На другой день я отправился отыскивать комнату в знакомые места и только что хотел повернуть в улицу, где жил Петр Дементьич, как на повороте столкнулся с погребальной процессией. Эта встреча поразила меня. Как будто нарочно так случилось, что в первый же день приезда я попал на проводы к месту вечного успокоения знакомого лица. Еле волочащая ноги кляча, задрапированная в черное, побуревшее от ветхости одеяние, тащила простой сосновый гроб. Сзади, опустив голову, шел Петр Дементьич, рядом с ним Таня, поодаль Терентьевна и еще какая-то женщина в тальме, с корзинкой, а еще дальше, замыкая шествие, плелся старичок-кум. На нем было надето внакидку пальто, в полы которого он тщательно прятал четвертную, предательски выказывавшую по временам запечатанное горлышко.
Увидев меня, Петр Дементьич приподнял шапку. Я подошел и пошел с ним рядом.
– Вот хороню свою голубушку! – проговорил он, скорбно мотнув головой. – Не хотелось ей умирать, все детей жалела! Простудилась она тут, белье полоскала… ну, и вот!
От него порядочно несло водкой, да и ступал он не совсем твердо, все как-то забирая то вправо, то влево.
Я промолчал. Говорить было нечего.
Я взглянул на Таню. Она похудела и вытянулась. Лицо носило отпечаток недетской серьезности, красные глаза опухли от слез. Да и теперь, по временам, крупные слезинки выступали на длинные ресницы и скатывались по подбородку.
Путь был не длинен, так как кладбище под рукой. Я не заметил, как мы въехали в ограду и остановились у церковной паперти. Тут уже стояло несколько пустых дрог, но и за нами еще тянулось двое-трое покойников.
Сняв гроб при помощи сторожей и какого-то нищего, мы внесли его в церковь и поставили в ряд с другими. Приподняли крышку. Я взглянул в лицо покойницы. Оно мало изменилось, разве побелело только очень, да еще явилось на нем никогда не бывшее прежде выражение какого-то отрадного, блаженного спокойствия.
Такое же выражение покоя я заметил на лицах остальных покойников. Это были все больше женщины, далеко не старые и все такие же изможденные.
Отпевание кончилось. Покойников стали выносить из церкви; послышались обычные причитанья и вопли. Вынесли и мы Лизавету Емельяновну. Нужно было идти в самый конец кладбища, к забору, то есть пройти около версты. Мы все страшно устали и несколько раз принимались отдыхать, поставив гроб на землю. День был настоящий осенний. Накрапывал дождь. По хмурому небу медленно плыли темно-фиолетовые тучи. Пасмурно смотрели поблекшие деревья с черными от дождей стволами. С некоторых уже осыпался лист. По грязной дороге прыгали воробьи.
Наконец, дотащились до места. Могила была готова. Я взглянул на дно: там выступила вода буровато-кофейного цвета с легким налетом пены. Гроб грузно сел на дно, и сверху покатились сырые комья земли…
Петр Дементьич стоял без шапки, с убитым выражением лица. К вспотевшему лбу прилипли жидкие, начинавшие слегка седеть пряди волос. По временам он медленно проводил рукавом по лицу, как бы стараясь что-то втереть. Таня тихо, жалобно плакала. Старушонки тоже прослезились, а старичок-кум усиленно сморкался в красный ситцевый платок.
Двое могильщиков, с веселым выражением молодых лиц, торопливо зарыли могилу, накидали холмик, обровняли его лопатами и одновременно попросили на чаек. Я сунул им по какой-то монете, и они ушли, молодцевато вскинув лопаты на плечи.
Петр Дементьич уселся на траву, подле могилы. Его примеру последовали и другие. Началась распаковка корзины с разной снедью. Старичок вытащил четвертную и дрожащей, морщинистой рукой любовно погладил по горлышку. Явился стаканчик. Стали поминать покойницу. Не желая нарушать обычая, помянул и я, но, улучив удобную минуту, когда после первого стаканчика поминальщики пустились в россказни и воспоминания, отошел от могилы я направился в глубь кладбища.