Текст книги "Огненные палаты"
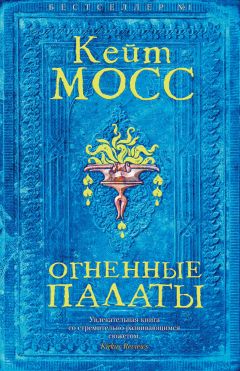
Автор книги: Кейт Мосс
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Больше тебя не потревожу.
Он мысленно прикинул, чем планировал заниматься в ближайшие часы. На полдень у него была назначена встреча, но после нее он волен был располагать своим временем по собственному усмотрению. Изначально в его намерения входило немедленное возвращение в Тулузу, но, если Видаль согласится с ним поговорить, отъезд можно отложить до завтрашнего утра.
– Если ты считаешь, что разговаривать здесь, в Ситэ, не слишком благоразумно, приходи в Бастиду. Я остановился в пансионе на улице Марше. Хозяйка, мадам Нубель, вдова и умеет держать язык за зубами. Нам никто не помешает. За исключением часа после полудня, я буду там весь день до самого вечера.
Видаль рассмеялся:
– Ну уж нет. В Бастиде куда с большим сочувствием относятся к людям твоих убеждений, нежели моих. В своей сутане я буду бросаться в глаза. Я не рискну туда соваться.
– В таком случае, – не желая сдаваться, сказал Пит, – я приду к тебе домой. Ну или куда тебе будет удобно. Назови время и место, и я приду.
Пальцы Видаля вновь начали ударять по видавшей виды перегородке. Пит от души понадеялся, что его старый друг не утратил былого любопытства. «Это опасное качество для священника», – предостерегали их наставники из Коллежа-де-Фуа, где столь высоко ценились подчинение и послушание.
– Я умею сливаться с окружением, – заверил его Пит. – Меня никто не увидит.
Глава 5
Стук костяшек стал громче, настойчивей. Потом так же внезапно Видаль остановился.
– Ладно, – произнес он.
– Dank je wel, – практически беззвучно выдохнул Пит. – Спасибо. Где мне тебя искать?
– Мои покои располагаются на улице Нотр-Дам, в самой старой части Ситэ, – ответил Видаль. Теперь, приняв решение, он больше не тянул с ответами. – Изящное каменное здание, в три этажа высотой, так что не ошибешься. За домом есть небольшой садик. Ворота будут не заперты. Приходи после вечерни, в этот час на улице не бывает почти ни души, но предприми все возможные меры, чтобы не попасться никому на глаза. Все возможные меры. Никто не должен связать нас друг с другом.
– Спасибо, – снова повторил Пит.
– Не благодари меня, – резко оборвал его Видаль. – Я не обещаю тебе ничего более, кроме как выслушать.
Внезапно под сводами нефа разнесся какой-то звук. Сначала что-то скрипнуло, потом массивные северные двери проскрежетали по плитам пола.
Еще один кающийся грешник решил ни свет ни заря облегчить душу исповедью?
Пит выругал себя за то, что поддался порыву и утратил осмотрительность, но, когда он увидел, как Видаль в одиночестве вошел в собор, это показалось ему слишком большим везением, чтобы упускать такую возможность. Часть его души, взращенная на чудесах и священных реликвиях, воспринимала это как знак свыше. Но просвещенный разум отвергал эти средневековые мысли. Ведь Человек, а не Бог заставлял вращаться мир.
Пит услышал шаги, и его рука скользнула к кинжалу. Сколько дверей вело в собор и из него? Их, без сомнения, было несколько, но он не дал себе труда обратить на них внимание заранее. Он прислушался. Две пары ног или одна? Шаги негромкие, словно крадущиеся.
– Пит?
– У нас гости, – прошептал тот.
Острием кинжала Пит слегка приподнял занавеску и выглянул наружу. Поначалу он ничего не мог разглядеть. Потом в слабом утреннем свете, просачивающемся сквозь окошки позади алтаря, Пит заметил двух человек, приближающихся к исповедальне со шпагами наголо.
– У вас тут принято членам гарнизона входить в святое место с оружием? – поинтересовался он. – И без дозволения епископа?
В Тулузе стычки между гугенотами и католиками были делом совершенно обыденным, в результате чего городские улицы наводнили солдаты – как представители частных дружин, так и новобранцы из городской стражи. Но Пит не подозревал, что беспорядки докатились уже и до Каркасона.
– А они точно из гарнизона? – с беспокойством спросил Видаль. – Ты видишь королевский герб?
Пит вгляделся в полутьму:
– Я и их самих-то с трудом различаю.
– Гвардейцы сенешаля носят голубые ливреи.
– Эти люди одеты в зеленое. – Он еще больше понизил голос. – Видаль, если они станут тебя спрашивать, отрицай, что тебе что-либо обо мне известно. Ты никого не видел. Никто сегодня утром не приходил к исповеди. Даже солдат не станет рисковать обречь свою душу на вечную погибель, причинив зло священнику, который находится под покровительством Господа.
Собственные слова застряли у него в горле. Времена нынче были смутные и кровавые. За время своего путешествия с юга в Лангедок он повидал достаточно, чтобы отдавать себе отчет в том, что церковь перестала быть надежным убежищем, если вообще когда-либо им была. Он вновь выглянул из кабинки. Незваные гости уже прошли через трансепт и обыскивали придел за алтарем. Вскоре их внимание переместится к этой части собора. Нельзя допускать, чтобы его здесь обнаружили.
– Я вошел через северные двери, – прошептал он лихорадочно. – Кроме них, сколько здесь еще других выходов?
– Есть одна дверь в западной стене, которая ведет в епископские покои, и еще одна под круглым окном, хотя, боюсь, в такой час обе они будут закрыты. – Он немного помолчал. – Есть еще две двери в юго-западном углу собора. Одна ведет в усыпальницу епископа Радульфа, там тупик. Вторая в ризницу. Вход туда воспрещен всем, кроме епископа и его алтарников. Она ведет прямо во двор монастыря.
– А дверь в ризницу не окажется тоже заперта?
– Ее не запирают, чтобы каноники могли попасть в собор в любое время дня и ночи. Как только окажешься там, держись по левую руку от трапезной и лазарета и выйдешь к калитке, а оттуда попадешь на площадь Сен-Назер.
Зазвонили колокола, отбивая очередной час, и их громкий перезвон заполнил собой безлюдный собор, дав Питу так необходимое ему прикрытие.
– До вечера, – сказал он.
– Я буду молиться за тебя, – отозвался Видаль. – Dominus vobiscum.
Пит поднырнул под тяжелую красную занавесь и метнулся к ближайшей из величественных каменных колонн. У нее он на миг остановился, потом перебежал к соседней. Пока солдаты продвигались по противоположному нефу, он прокрался в противоположном направлении, к двери в ризницу, и дернул за ручку. Вопреки уверениям Видаля, дверь оказалась заперта.
Пит безмолвно выругался. Потом принялся озираться по сторонам, пока не увидел ключ, висящий на цепи на крюке, ввинченном в каменную стену. Пит сдернул его и сунул в замочную скважину. Ключ вошел с трудом, и поначалу язычок никак не желал поворачиваться, но в самый последний миг, когда уже отзвучал колокол, замок с громким щелчком поддался.
Звук оказался слишком громким. Солдаты немедленно обернулись на шум. Тот, что был повыше ростом, со свежим шрамом на левой щеке, опустил забрало своего шлема.
– Стоять! Эй ты, ни с места!
Но Пит был уже в ризнице. Он захлопнул за собой дверь и припер ручку скамьей. Долго эта баррикада не продержится, но хотя бы немного его преследователей все же замедлит.
Петляя, Пит бросился бежать через сад и, одним прыжком перемахнув через невысокую живую изгородь из кустов самшита, очутился в аптекарском огороде. Оставив позади монастырские здания, он заметил в дальнем конце двора калитку и устремился к ней. Вдруг наперерез ему откуда-то выскочил молоденький послушник. Он появился слишком поздно, чтобы можно было успеть избежать столкновения, и Пит с разбегу налетел на мальчишку на полной скорости, отчего тот плашмя полетел наземь. Пит вскинул руку, извиняясь, но останавливаться было некогда. Мышцы у него горели, в горле пересохло, но он продолжал бежать, пока не очутился у калитки. Еще миг – и он распахнул ее и оказался на узеньких улочках Ситэ.
Глава 6
Бастида
Когда Мину, пройдя через Кордельерские ворота, очутилась в Бастиде, колокола только что закончили отбивать восемь утра. В числе ее самых ранних детских воспоминаний было и такое: она сидит на коленях у матери и слушает рассказы о том, как возникли два Каркасона. Римское поселение Каркассо на холме, нашествие вестготов в V веке и семьсот пятьдесят лет спустя сарацинское завоевание и легенда о Даме Каркас. Затем последующее возвышение и трагическое падение рода Тренкавелей, а также резня катаров, которых юный виконт Тренкавель тщетно пытался защитить.
– Не зная ошибок прошлого, – говорила Флоранс, – как можно научиться не повторять их? История – наш учитель.
Мину знала каждый уголок, каждый камешек и каждый бугорок в Ситэ как свои пять пальцев. Как карильон собора Сен-Назер запинался между одиннадцатой и двенадцатой нотой мелодии. Как с наступлением осени виноградники на равнинах ниже Одских ворот меняли цвет с серебристого на зеленый, а с зеленого на малиновый. Как лучи зимнего солнца в полдень падали на кладбищенский двор, чтобы согреть тех, кто, как ее мать, спал вечным сном в мерзлой земле.
Мину знала, что ей очень повезло родиться в этом краю и иметь право называть его своим домом. Но как ни любила она их маленький домик в Ситэ, кипучую суету Бастиды Сен-Луи она любила больше. Крепость застряла в глубоком прошлом, пленница своей собственной многовековой истории. Нижний город, новый Каркасон, был устремлен в будущее.
Под ноги Мину, кружась, упал деревянный обруч. Она подняла его и вернула владелице, чумазой девчушке с голубой косынкой на шее.
– Merci, – поблагодарила та и, захихикав, вновь спряталась за материнскими юбками.
Мину улыбнулась. И она тоже когда-то играла в подобные игры на этих улицах: гладкие мостовые Бастиды куда лучше подходили для забав с обручем и прутиком, нежели вымощенные булыжником переулочки Ситэ.
Она двинулась дальше по улице Карье-Маж, лавируя между телегами и подводами, запряженными волами, собачьими ловушками и гусями и по-прежнему думая о матери. Мину вспомнилась она сама, восьмилетняя, делающая уроки за кухонным столом. Солнце, льющееся в открытую заднюю дверь и освещающее ее грифельную доску и мелки. Голос матери, четкий и терпеливый, превращающий учение в захватывающую историю.
– Бастида была основана в середине тринадцатого столетия, пятьдесят лет спустя после кровопролитного Крестового похода, в результате которого виконт Тренкавель был умерщвлен в его же собственном замке, а Ситэ лишился своей независимости. Чтобы наказать его жителей за мятеж против короны, Людовик Святой изгнал всех жителей из средневекового города и приказал построить новое селение на осушенных топях и болотистом левом берегу реки Од. Это у нас две главные дороги, с севера на юг и с востока на запад – вот так и вот так. – Флоранс нарисовала очертания города на листке бумаги. – Видишь? Так, теперь более мелкие улицы между ними. Теперь два кафедральных собора, Сен-Мишель и Сен-Венсан, которые получили свои названия в честь средневековых предместий Ситэ, разрушенных крестоносцами Симона де Монфора.
– По форме похоже на крест!
Флоранс кивнула:
– Да, на катарский крест. Первые люди начали жить в Бастиде в тысяча двести шестьдесят втором году. Это был город беженцев, честных людей, насильственно выселенных из родных домов. Сначала Бастида существовала в тени укрепленной цитадели. Но мало-помалу новый Каркасон начал процветать. Время шло. Проходили столетия. Многие годы подряд королевская казна истощалась войнами с Англией, с Италией, с Испанскими Нидерландами, но Бастида, пережив многолетний голод и чуму, разрослась, стала богатой и влиятельной. Шерсть, лен и шелка. Каркасон на равнине затмил Каркасон на холме.
– Что значит «затмил»? – спросила Мину и была вознаграждена улыбкой матери.
– Это значит «превзошел», «опередил», – ответила Флоранс. – В Бастиде ремесленники разных гильдий открывали свои лавки на разных улицах. Аптекари и нотариусы – на одной, торговцы пенькой и шерстью – на другой. Печатники и книготорговцы облюбовали улицу Марше.
– Как папа?
– Как папа.
Воспоминание начало меркнуть, как это обычно и происходило, и Мину вновь очутилась в одиночестве посреди ясного февральского утра со знакомым ощущением утраты. Тот мамин рисунок она сохранила до сих пор, хотя меловые линии на бумаге уже выцвели и поблекли, и теперь использовала его, чтобы учить Эмерика и Алис.
Мину вернулась мыслями к предстоящему дню и зашагала к базарной площади. Самые престижные торговые места располагались в здании крытого рынка в центре и внутри деревянной колоннады, которая опоясывала площадь. Даже во время Великого поста площадь радовала глаз буйством красок и бойкой торговлей. Девушка старалась насладиться этим зрелищем. Владельцы клеток с птицами и расшитых колпачков для ловчих птиц наперебой расхваливали свой товар перед богато одетыми женщинами и мужчинами, проходившими мимо.
Но, по правде говоря, несмотря на кипучую и оживленную атмосферу, на душе у Мину было неспокойно. Черные тучи собирались над Лангедоком. Хотя от Каркасона до могущественных городов севера было две недели верхом, а у них на Юге обычаи были иные, Мину опасалась, что репутация, которую заслужила их лавка за то, что у них продавались книги на все религиозные вкусы, по нынешним временам с их постоянно растущей нетерпимостью может сослужить им плохую службу.
Бернар Жубер был добрым католиком, державшимся за древние обычаи во многом в силу привычки, а не только из одного лишь благочестия. Это его жена обладала как недюжинной деловой хваткой, так и пытливым умом ей под стать. Терпимость у нее, истинной уроженки Лангедока, была в крови. Это она предложила продавать людям то, что они хотят читать: сочинения Фомы Аквинского и святого Павла, Цвингли и Кальвина, духовные труды на английском и романы на голландском.
– Мы все воссоединимся в Царствии Божием, – говорила она мужу, когда того одолевали сомнения, – и не важно, каким путем мы туда придем. Величие Господне неизмеримо больше, чем в состоянии постичь любой человек. Он видит все. Он прощает все наши грехи. Он не ждет от нас ничего большего, нежели служения Ему в меру отпущенных каждому из нас сил.
Чутье не подвело Флоранс, и дела их быстро пошли в гору, а Жубер обзавелся солидной репутацией. Его знали как человека, способного раздобыть религиозные труды из Женевы, Амстердама, Парижа, Антверпена и Лондона, и в его лавку вереницей потянулись как коллекционеры, так и самые обычные граждане. Манускрипты из английских монастырей и конвентов, разграбленных во времена правления короля Генриха, теперь свободно ходили по Югу, и за них можно было выручить кругленькую сумму. А самый большой успех имели переводы на французский язык псалмов авторства Клемана Маро, а также различных вариантов Евангелия, которые Бернар печатал в своей собственной типографии. Именно книжная лавка удерживала его на плаву, когда он был почти сломлен горем после смерти Флоранс.
По крайней мере, до недавнего времени.
Несколько недель назад на ставнях их лавки кто-то намалевал оскорбительные обвинения в богохульстве. Бернар попытался не брать это происшествие в голову, приписав его делу рук недалеких бездельников, устроивших озорство ради озорства. Мину очень надеялась, что он прав. И тем не менее после этой выходки покупателей у них заметно поубавилось. Даже самые верные завсегдатаи опасались теперь водить знакомство с книготорговцем, чье имя вполне могло значиться в каком-нибудь списке еретиков, составленном в Париже или Риме. Ее мать стойко выдержала бы это испытание, но отцу оно оказалось не по силам. Торговля захирела, и прибыли пошли вниз.
Мину остановилась, как обычно, у лотка, чтобы купить пирог с фенхелем и немного печенья на розовой воде для Алис и Эмерика. Она прошла мимо жилища художника, который писал портреты на заказ, помахала мадам Нубель, подметавшей крыльцо своего пансиона. Затем оставила позади лавку, в которой торговали чернилами, перьями, кистями и мольбертами. Ее хозяин, месье Санчес, был испанцем, выкрестом-конверсо, который бежал от костров инквизиции в Барселоне и вынужден был отречься от своей иудейской веры. У него было доброе сердце, и у его жены-голландки, за юбки которой вечно цеплялся целый выводок их хорошеньких смуглых отпрысков, всегда была наготове горсточка печенья или цукатов – угощать ребятишек, которых из окрестных деревень посылали в Бастиду побираться.
По соседству с ними располагалась лавка их конкурента, вздорного уроженца Черной Горы, который специализировался на дешевых базарных книжонках, скабрезных стишках и дерзких памфлетах. Ее ставни, рассохшиеся и требующие смазки, уже который день были закрыты. Хозяина Мину не видела уже очень давно.
Она остановилась перед выкрашенной синей краской дверью их лавки и сделала глубокий вдох. «Ну разумеется, знакомый фасад будет выглядеть в точности так же, как и всегда», – сказала она себе. С чего вдруг что-то должно быть по-другому? Дверь будет заперта. Ставни в целости и сохранности. Вывеска «B. JOUBERT – LIVRES ACHAT ET VENTE» будет висеть на металлических крюках на каменной стене. То нападение больше не повторится.
Мину заставила себя посмотреть.
Все было в порядке. Холодная рука, сжимавшая ее желудок, разжалась. Ничего не пропало. Не видно было никаких признаков беспорядка, ничьего вмешательства. Все выглядело в точности так, как вчера вечером, когда она уходила.
– Доброе утречко! – закричал Шарль. – Опять будет холодно, это уж как пить дать.
Мину обернулась.
Старший сын месье Санчеса стоял на углу улицы Гран-Семинер и махал ей рукой. Он был дюжий и крепкий, но глуповатый. Ребенок в теле мужчины.
– Доброе утро, Шарль, – крикнула она в ответ.
Его широкое лицо до ушей расплылось в улыбке, а вдавленные глаза озарились радостью.
– В феврале дует сильный ветер, – сказал он. – Холод, холод и снова холод.
– Так оно и есть.
– Денек будет погожий, так обещают облака. – Шарль вскинул к небу обе руки странным хлопающим движением, как будто пытался прогнать гусей.
Мину подняла глаза. Тонкие пряди серовато-белых облаков, точно ленты, тянулись поперек восходящего розового солнца. Шарль приложил к губам палец.
– Ш-ш-ш, у облаков есть секреты, жаль, что у нас не хватает соображения их послушать.
Мину кивнула.
Собеседник уставился на нее с таким видом, как будто только что ее увидел, и немедленно начал тот же самый разговор сначала:
– Доброе утречко. Опять будет холодно. Денек будет погожий!
Не желая быть втянутой в тот же самый бессмысленный обмен словами, Мину вскинула ключи и изобразила, как будто открывает дверь.
– За работу, – сказала она и вошла внутрь.
Там было темно, но едва стоило Мину вдохнуть знакомый запах свечного сала, кожи и бумаги, как она уже могла с уверенностью сказать, что все здесь в точности в том же состоянии, в каком она оставила лавку накануне: лужица желтоватого застывшего воска на прилавке, отцовская чернильница и перо, стопка новых приобретений, дожидающихся, когда у нее дойдут руки занести их в каталог и расставить по полкам, конторская книга на столе.
Мину прошла в крохотную подсобную комнатку в дальнем конце лавки, чтобы взять трутницу. Взгляд ее упал на печатный станок и подносы с железными литерами, простаивавшие без дела вот уже несколько недель. В квадратике солнечного света, просачивавшегося снаружи сквозь крохотное оконце, стала видна пыль, уже успевшая посеребрить деревянную полку, на которой хранились бумажные свитки. Мину стерла пыль пальцем.
Услышит ли она когда-нибудь снова грохот станка? Ее отец утратил интерес даже к чтению, не говоря уж о книгопечатании. Хотя он по-прежнему любил посидеть у камина с томиком в руках, нередко он не переворачивал в нем ни единой страницы.
Мину принесла трутницу и высекла огонь, потом вернулась обратно. Зажгла от лучины свежую свечу на прилавке, потом лампы. Лишь теперь, когда комнату залил свет, Мину заметила уголок листка белой бумаги, торчащий из-под коврика перед дверью.
Она подняла его. Бумага плотная, хорошего качества; черные чернила, но буквы печатные, выведенные корявым почерком. Адресовано послание было ей, а не ее отцу – причем указано ее полное имя: «МАДЕМУАЗЕЛЬ МАРГАРИТЕ ЖУБЕР». Мину нахмурилась. Ей никто и никогда не писал личных писем. Все, кого она знала, за исключением дяди и тетки из Тулузы, которых она едва помнила, жили в Каркасоне. В любом случае все и всегда звали ее прозвищем Мину и никогда – Маргаритой.
Мину перевернула листок. Очень интересно! Письмо было скреплено фамильной печатью, но она была надломлена. Может, Мину повредила ее, когда поднимала? Более того, судя по всему, письмо запечатывали второпях, потому что бумага вокруг была в застывших потеках красного воска. Два инициала, «Б» и «П», располагались по сторонам от какого-то мифического существа – возможно, льва, – с когтями и раздвоенным хвостом. Под ним красовалась какая-то надпись, слишком мелкая, чтобы ее можно было разобрать без лупы.
В памяти Мину на краткий миг вдруг что-то забрезжило. Смутное воспоминание о похожем изображении над дверью, чей-то голос, поющий колыбельную на древнем языке:
Bona nuèit, bona nuèit…
Braves amics, pica mièja-nuèit
Cal finir velhada.
Она снова нахмурилась. На сознательном уровне эти слова были ей непонятны, однако при этом было ощущение, что их глубинный смысл совершенно ясен.
Мину взяла с прилавка нож для бумаг, подсунула кончик под сгиб и сломала печать. Внутри оказался один-единственный лист бумаги, который выглядел так, как будто его уже использовали раньше. Наверху букв было не разобрать, потому что бумагу покрывало нечто вроде копоти. Зато снизу, написанные черными чернилами тем же самым корявым почерком, что и снаружи, отчетливо виднелись пять слов:
ОНА ЗНАЕТ, ЧТО ВЫ ЖИВЫ.
Мину похолодела. Что это значит? Это угроза или предостережение? И тут латунный колокольчик над входной дверью звякнул, нарушив тишину книжной лавки.
Не желая, чтобы кто бы то ни было увидел письмо, Мину торопливо сунула его за подкладку плаща и обернулась к двери с заученной улыбкой на лице. Рабочий день начался.

Скрип пера по бумаге. Вязкие чернила, оставляющие на белых листках черный след. Чем больше я пишу, тем больше хочется сказать. Каждая история порождает еще одну, а та еще и еще.
В деревне невозможно сохранить что-то в секрете. Хотя время изглаживает воспоминания, в конечном итоге все равно кто-нибудь да проговаривается. Что горсть монет в руке, что батоги поперек спины, что соблазнительная грудь под тонким батистом отлично развязывают язык. С течением времени меркнут и те истории, которые должны были остаться тайной, и те, что разворачивались у всех на глазах.
Купить можно кого угодно и что угодно. Сведения, душу, обещание продвижения по службе или взятку за то, чтобы тебя оставили в покое. Письмо, доставленное за мелкую монетку. Репутация, погубленная за цену ковриги хлеба. А там, где не справляются золото и серебро, всегда остается место острию ножа.
Храбрость – ненадежный друг.
Слово за словом ложится на бумагу. Мужчины – существа слабые и примитивные. Это я усвоила, сидя на отцовских коленях. Первые уроки в искусстве обольщения мне преподал именно он, хотя я тогда не знала, что это грех. Я не знала, что это противоестественно. Он сказал мне, что сделать меня женщиной – его законное право, хотя мне тогда было не больше десяти лет от роду и я ничего не понимала. Я была послушной девочкой. Побои страшили меня больше, нежели то, что он проделывал со мной по ночам в своей спальне. Я быстро усвоила, что, если плакать, он разозлится и наказание будет еще более суровым. Проявление слабости вызывает презрение, а не жалость.
Он стал у меня первым. Я убила его, когда он утратил бдительность и выпустил из рук шпагу, разомлев после того, как утолил свою похоть. Я раздобыла у проезжего аптекаря яд, прибегнув к обычному способу, к какому вынуждены прибегать девушки, когда им нужно что-то получить от мужчины.
До чего же просто заставить сердце перестать биться.
Второй была повитуха. С ней пришлось повозиться подольше. Низенький белый домик на краю деревни. Эль и потрескивающий огонь развязали ей язык. Польщенная моим визитом, она была очень рада заполучить внимательную слушательницу, готовую внимать ее пространным рассказам о слабоумных сыновьях и дочерях, которым она помогла появиться на свет.
Ее белесые глаза подернулись туманной поволокой, когда она пустилась в воспоминания. Да, были одни роды много лет назад, но она дала клятву никогда об этом не рассказывать. Сколько, спрашиваете, лет назад это было? Десять, двадцать? Теперь уж и не упомнишь. Она дала честное слово. Девочка или мальчик? Нет, она не может этого сказать. Все эти годы она держала слово. Она не из болтливых.
Гнилозубая дура. Так уж она хвасталась, так уж собой гордилась. А гордыня, как учит нас Святое Писание, смертный грех. В ее затуманенных глазах мелькнул какой-то проблеск, когда до нее дошло, что я ей не друг. Но к тому времени было уже слишком поздно.
На ее дряблой коже синяки расплывались с неожиданной легкостью, каждое нажатие моих пальцев оставляло новый багрово-лиловый след. Белесые глаза, наливающиеся кровью. Подушка с пожелтевшей за многие годы от дыма и пота хозяйки наволочкой. Я и не думала, что она будет так яростно сопротивляться. Когда я накрыла подушкой ее рот и нос, ее переломанные руки и ноги еще долго дергались. Она должна быть благодарна мне за то, что я сняла с ее души столь тяжкий грех, прежде чем отправить ее к Создателю.
От нее я прямиком направилась в часовню и исповедалась там во всяких простительных грешках. Расправа с повитухой осталась секретом между мной и Господом. Священнику знать об этом было необязательно. В голове у меня звучит голос одного лишь Бога. Я прочитала покаянную молитву. Он наложил на меня епитимью и отпустил грехи, уверенный в том, что я раскаялась.
После я подарила моему исповеднику блаженство, которого желают все мужчины, даже те из них, кто стоит ближе всех к Богу.









































