Текст книги "Огненные палаты"
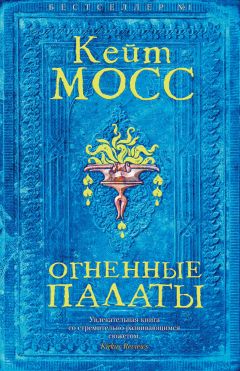
Автор книги: Кейт Мосс
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 15
Ситэ
Пит и Видаль сидели по разные стороны от камина. Комната была изысканно и богато обставленная, с широкими подоконниками и фигурными стрельчатыми окнами, выходящими на улицу. Одну стену занимал большой каменный камин с дымоходом и блестящей стойкой для каминных приборов; сбоку от него лежали меха и корзина с наколотыми поленьями. Все в этой комнате было проникнуто набожностью: деревянное распятие над притолокой высокой двери; гобелены тонкой работы, на которых святой Михаил вел архангелов на битву; живописное полотно, изображающее святую Анну, между окнами. Мебель была простая, но добротной выделки: два кресла полированного дерева с гнутыми подлокотниками и вышитыми подушками, между ними – стол. Книжный шкаф с глубокими полками со всех четырех сторон был заполнен религиозными текстами на латыни, французском и немецком. Принадлежало ли все это Видалю или было в доме изначально? На взгляд Пита, вся обстановка имела первозданный вид, как будто почти не была в использовании.
Свечи успели уже догореть больше чем до половины, а атмосфера в комнате – раскалиться от слов. Все это живо напомнило Питу их студенческие дни в Тулузе. Как же он по ним скучал! Тогда то, что их с Видалем объединяло, было сильнее, чем то, что их разделяло. Вера и время еще больше отдалили их друг от друга, и все же Пит не терял надежды. А если два человека столь противоположных взглядов готовы были попытаться достичь согласия, то и у других наверняка тоже был такой шанс?
– Я пытаюсь донести до тебя, что эдикт предлагает нам…
– «Нам»? То есть ты признаешься в том, что ты гугенот?
– «Признаюсь»? – с мягким укором в голосе переспросил Пит. – Я не думал, что приватный разговор между двумя друзьями можно расценивать как признание.
Видаль взмахнул рукой:
– Ты утверждаешь, что эдикт – это слишком мало, а я говорю, что это слишком много. И мы оба сходимся во мнении, что он не удовлетворяет ни одну из сторон. С января стычек на религиозной почве стало больше, а не меньше.
– Едва ли в этом стоит обвинять гугенотов.
– Разграбленные монастыри на юге, нападения на священников прямо во время молитвы – эти злодеяния, совершенные гугенотами, прекрасно задокументированы. Это все не вопрос веры, это варварство. Ты же не можешь не признать, что принц Конде и этот его приспешник, Колиньи, руководствуются более земными устремлениями? Они хотят посадить на престол короля-гугенота!
– Я в это не верю. В любом случае я говорил не о наших предводителях, а о простых людях. Нам не нужны беспорядки.
– Да? Расскажи об этом монахам из Руана, которые явились на службу и обнаружили, что алтарь их часовни осквернен самым отвратительным образом. Ты отрицаешь зверства, творимые гугенотами…
– А ты – творимые католиками! Ты не желаешь видеть ни пьяных священнослужителей, ни прелюбодеяний, ни балагана, который творится с раздачей епископских постов малолетним детям в силу семейных традиций! Жан Лотарингский был назначен епископом-коадъютором Меца, когда ему исполнилось всего три года, и ему были подведомственны ни много ни мало тринадцать епархий! И ты еще удивляешься, почему люди отворачиваются от твоей Церкви?
– Брось, Пит, неужели ты не смог придумать ничего получше? – расхохотался Видаль. – Каждый раз, когда реформаты принимаются обличать упадок Церкви, в ход идут одни и те же избитые примеры. Если, кроме одного-единственного случая злоупотребления более чем тридцатилетней давности, тебе нечем больше подкрепить свои доводы, плохо твое дело.
– Он всего лишь один из множества тех, чьи злоупотребления гонят верующих в наш стан.
Видаль сложил руки домиком.
– Есть сведения, что реформаты – люди, принадлежность к которым ты декларируешь, – начали вооружаться.
– Мы имеем право защищаться, – ответил Пит. – По-твоему, мы должны покорно идти на заклание, как овцы?
– Оборона – да, согласен. Но финансирование частных армий и незаконная торговля оружием – и все это за счет средств сочувствующих из Англии и Голландии, – это совсем другое дело. Это государственная измена.
– Всем известно, что Гиза и его католических союзников финансируют испанские Габсбурги.
– Это беспочвенные спекуляции, – отмахнулся Видаль.
На мгновение оба умолкли.
– Скажи мне, Видаль, – произнес наконец Пит, – ты никогда не задаешься вопросом, почему ваша Церковь видит для себя угрозу в том, что мы проводим богослужения не так, как вы?
– Это вопрос безопасности. Сплоченное государство – сильное государство. Те, кто противопоставляет себя всем остальным, ослабляют общество.
– Возможно, – ответил Пит, тщательно подбирая слова. – И все же есть люди, которые утверждают, что истинная причина, по которой Католическая церковь пытается не дать нашим голосам быть услышанными, – это ваши опасения, что мы правы. Вы страшно боитесь, что, когда люди услышат евангельскую истину, подлинное слово Божие в том виде, в каком оно было задумано – а не как его на протяжении многих поколений толковали священнослужители, – они присоединятся к нам.
– Оправдание одной верой? Отсутствие необходимости в священнослужителях, право совершать службы на обиходном языке, никаких больше монастырей, никакой благотворительности, никаких добрых дел?
– Никакой больше покупки места в раю вне зависимости от того, много или мало ты нагрешил.
Видаль покачал головой:
– Людям нужны чудеса, Пит. Им нужны реликвии, нужно ощущение Божьего величия, не постижимого разумом.
– Полусгнившие ногти, обломок кости из тела мученика?
– Или кусок ткани?
Пит вспыхнул: выпад достиг цели.
– По-твоему, Бог действительно присутствует в этой шелухе?
Видаль вздохнул:
– Если забрать у них таинство Бога и свести все к жизненной прозе, ты тем самым вычеркнешь из их жизни бо́льшую часть красоты.
– Какая красота в том, что люди забиты и невежественны, что их запугивают, чтобы добиться покорности? Какая красота в том, чтобы терзать тело ради спасения души? Но я отвлекся. Нет никакой причины, по которой католики и протестанты не могут жить мирно бок о бок, уважая чужие взгляды. Мы все французы. Это то, что нас объединяет. Нечестно выставлять всех реформатов изменниками.
Видаль сложил ладони вместе.
– Ты отлично знаешь, что среди твоих товарищей по вере немало таких, кто оспаривает власть короля и подвергает сомнению его право помазанника Божьего властвовать. Как я уже сказал, друг мой, это государственная измена.
– Я признаю, что существуют такие, кто подвергает сомнению право его матери властвовать, но это не одно и то же. Всем известно, что Карла куда больше интересуют его собаки и охота, нежели государственные дела. Он ребенок. Каждое решение, которое принимается от имени короля, на самом деле принимается Екатериной, королевой-регентом.
– Ты осведомлен о реалиях придворной жизни ничуть не больше, чем я.
– Да это ни для кого не секрет, – возразил Пит. – То, что предлагается гугенотам, – это не более чем шанс стать гражданами второго сорта. Ты сам знаешь, что это правда. Так даже в этих крохах им пытаются отказать. Гиз и его сторонники считают, что мы вообще не должны быть гражданами. Для них любая уступка – это уже слишком много, даже право вести службы на нашем родном языке.
– Ты так говоришь, как будто право вести службы на французском – это сущий пустяк.
– Сам старый король – истый и ревностный католик – поручил Маро задачу перевести псалмы с латыни на французский. Как то, что тридцать лет назад делало человека добрым католиком, теперь позволяет записывать его в еретики?
– Времена изменились. Мир стал более жестоким.
– Говорю тебе, если мы не будем осторожны, – с жаром произнес Пит, – мы увидим на нашей земле повторение костров Англии или зверств инквизиции, как в Испании.
– Подобная дикость никогда не случится во Франции.
– Это может случиться, Видаль. Еще как может. Мир, который мы знаем, рушится быстрее, чем мы думаем. В Тулузе есть такие, кто вслух заявляет о том, что убивать гугенотов – долг каждого истинного католика. Убивать во имя Господа. Вести священную войну. Они используют язык крестоносцев, хотя говорят о своих же братьях-христианах.
– Которые в их глазах являются еретиками, – негромко заметил Видаль. – Похоже, ты убежден, что никто из тех, кто выступает против реформистских идей – скажем, относительно того, что не нужно отказываться от мяса во время поста, или высмеивания наших самых священных реликвий, – не может делать это из соображений глубокой и искренней веры.
– Это неправда, – возразил Пит. – Я признаю, что есть такие, кого наши принципы искренне оскорбляют, но герцог Гиз и его брат стоят на пути к миру. Они подстрекают своих последователей не принимать эдикт. Они доведут Францию до гражданской войны.
Видаль нахмурился:
– Ты используешь те же самые слова, которые говорились в этой самой крепости, чтобы оправдать катарскую ересь.
– И что? Инквизиция, основанная в первую очередь ради того, чтобы искоренить катаров, все еще прочно сохраняет свои позиции здесь, в Ситэ, разве нет?
– Триста пятьдесят лет прошло с тех пор, как святой Доминик проповедовал в соборе и…
– И никого не переубедил, – перебил его Пит. – И из-за того, что он потерпел неудачу, появились огненные палаты[13]13
Огненные палаты – специальные судебные органы, учрежденные в средневековой Франции для преследования гугенотов.
[Закрыть]. Вера, насаждаемая огнем.
– Люди сейчас не такие дремучие, как в те времена. А Франция – не Англия и не Испания. Святая Мать Церковь ведет людей за собой своим примером.
Пит покачал головой:
– Калеча людей морально, а заодно и физически, чтобы спасти их души? Мне не нравится твое богословие, Видаль, если от него разит кровью, серой и отчаянием.
Глава 16
– Мерзавец! А ну, убери руки!
С улицы послышались громкие крики и треск ломающегося дерева. Пит поднялся и подошел прямо к окну.
– Не обращай внимания. Там наверняка ничего серьезного, – сказал Видаль. – Это минус жизни напротив самой шумной таверны в Ситэ.
Пит выглянул в темноту. Группа мужчин, обхватив друг друга за шеи, нетвердым шагом направлялась к колодцу. Один из них упал на колени, извергая на мостовую содержимое своего желудка. Пит узнал в нем того самого пьянчугу, который напал на проститутку, и вернулся на место.
– Отвратительно.
– Для солдата ты слишком брезглив, – сухо заметил Видаль. – Твои товарищи такие же впечатлительные натуры, как и ты?
– Это вопрос воспитания, – возразил Пит, решив не развеивать заблуждение Видаля относительно рода его занятий. – Кто не умеет пить, тот и язык за зубами тоже удержать не сможет.
Видаль сделал глоток вина.
– Доля истины в этом есть.
Пит взял свою кружку и опустился в кресло.
– Ты не можешь не знать о методах, которые используют инквизиторы.
Глаза Видаля сверкнули фанатичным огнем.
– Если человека признают виновным в богохульстве или ереси, его передают для вынесения приговора светскому суду. Тебе прекрасно об этом известно.
Пит рассмеялся:
– Попытка твоей Церкви остаться чистенькой, предоставляя светскому суду вершить правосудие после кошмара пыток, никого не обманывает.
– Мы занимаемся исключительно вопросами вероучения. Инквизиция не играет роли в светском обществе.
Пит помолчал.
– Ты сказал «мы»?
– Мы, они – какая разница? – отмахнулся Видаль с таким видом, как будто прихлопывал муху. – Мы все слуги одной Святой апостольской церкви.
Пит, которому стало не по себе, снова поднялся.
– Ты так говоришь, как будто человечество извлекло уроки из своего прошлого. Как будто мы стали лучше. Боюсь, что дело обстоит ровно наоборот. Люди научились повторять ошибки прошлого, причем с бо́льшим размахом. Кажется, мы, сами того не сознавая, полным ходом движемся к новому конфликту. Поэтому столько французов, которые разделяют мои взгляды, бежали в Амстердам.
Губы Видаля сжались в узкую щелку.
– Так что же ты не последовал их примеру, если жизнь во Франции кажется тебе столь невыносимой?
– И этот вопрос задаешь мне ты, Видаль? – спросил Пит, огорченный. – Зная, чем я обязан Югу? И вообще, с какой стати я должен уезжать из своей собственной страны лишь потому, что придерживаюсь других взглядов, чем те, кто нынче правит бал при дворе? Я француз!
– Лишь отчасти.
– За исключением непродолжительного пребывания в Англии и раннего детства в Амстердаме, я всю свою жизнь прожил во Франции, и тебе это прекрасно известно. Я француз до мозга костей!
Пит говорил не всю правду. Любовь к матери-голландке, которая так много страдала за свою недолгую жизнь, неразрывно переплелась в его душе с любовью к детским годам в Амстердаме. Жизнь в пансионах и благотворительных миссиях между водами Рокин и великого канала Сингел. Вылазки в порт, чтобы посмотреть, как снаряжают в походы к обеим Индиям парусные флейты[14]14
Флейт – голландское парусное судно, использовавшееся в XVI–XVIII веках.
[Закрыть]. Зазывный шепот снастей в ожидании, когда переменится ветер.
– В моих жилах течет кровь моего отца, – сказал Пит. – С какой стати ты отказываешь мне в том, что принадлежит мне по праву рождения?
– Кажется, я задел тебя за живое, – вскинул брови Видаль.
Пит посмотрел на старого друга, на приметную белую прядь, змеящуюся в его волосах. Подбородок Видаля, казалось, стал тверже, взгляд – жестче. Обоим друзьям шел двадцать седьмой год, но Видаль выглядел старше.
– Ты по-прежнему руководствуешься голосом сердца, а не разума, – покачал головой Видаль. – Ты не изменился.
Пит сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Он винил Церковь в том, что та отвернулась от его дорогой матери в час нужды, но Видаль был в этом не виноват. Это была давняя битва.
Он вскинул руки, признавая поражение:
– Я разыскал тебя не затем, чтобы с тобой ругаться, Видаль.
– Хотя я посвятил свою жизнь служению Богу, Пит, неужели ты думаешь, что я не понимаю, что творится в мире? Один лишь Господь может судить людские грехи. Он воздаст за все. Он вершит справедливый суд.
– Я и не предполагал противоположного, – негромко произнес Пит. – Я прекрасно знаю, что ты человек чести. Я понимаю, что для тебя это не вопрос абстрактной доктрины.
– Даже сейчас ты пытаешься польстить мне, продолжая при этом критиковать институт, которому я посвятил свою жизнь.
Внезапный стук в дверь прервал их разговор.
– Войдите, – сказал Видаль.
В комнату вошел слуга с подносом, на котором стояла фляга с вином и два кубка, тарелка с сыром, хлебом, фигами и сладким сахарным печеньем. Питу это показалось несколько странным, как будто было сделано напоказ. Он почувствовал на себе взгляд слуги. Тот был смуглый и крепко сбитый, с рваным шрамом, тянущимся вдоль всей правой щеки. Питу он был смутно знаком, но откуда – Пит вспомнить никак не мог.
– Поставь поднос сюда, Бональ. – Видаль указал на буфет. – Мы перекусим чуть позже.
– Хорошо, монсеньор, – кивнул слуга и передал своему хозяину какую-то записку.
Видаль прочитал ее, потом смял и бросил в огонь.
– Ответа не будет, – сказал он.
– «Монсеньор»? Так ты теперь монсеньор? – небрежным тоном произнес Пит, как только слуга удалился. – Мои поздравления.
– Это всего лишь вежливое обращение, и ничего более.
– Это твой человек из Тулузы?
– У капитула масса служителей, которых они используют в помещениях собора и за его пределами. Я почти никого из них не знаю по имени. – Он сделал жест в сторону подноса. – Приступим?
Пит взял немного сыра с хлебом, чтобы дать себе время собраться с мыслями. Он понимал, что тянуть больше некуда, но даже сейчас ему отчаянно не хотелось приступать к вопросу, который привел его сюда.
Пита вдруг охватила свинцовая усталость. Он прикрыл глаза. До него донесся звук откупориваемой пробки и разливаемого по кубкам вина, потом под ногами Видаля заскрипели половицы.
– Вот, держи, – произнес он.
– Я уже и так выпил лишнего.
– Это другое, – сказал Видаль, придвигая к нему кубок. – Местное вино, гиньоле. Оно тебя успокоит.
Густая рубиновая жидкость оказалась кисло-сладкой на вкус. Пит утер губы тыльной стороной ладони. Тишину комнаты нарушали время от времени доносившиеся с улицы звуки.
– Ну вот, мы с тобой опять сидим, как сидели когда-то прежде, – в конце концов произнес Видаль.
– Спорили, вели разговоры глубоко за полночь, – кивнул Пит. – Эх, хорошие были времена.
– Хорошие. – Видаль поставил свой кубок на стол. – Но мы больше не студенты. Мы больше не можем позволить себе роскошь беспечных разговоров.
Пит почувствовал, как учащенно забилось его сердце.
– Пожалуй, да.
– Сегодня утром ты сказал, что хочешь поведать мне о том, что произошло в Тулузе в ту ночь, когда была похищена плащаница. В то счастливое время, когда мы с тобой были закадычными друзьями – ближе не бывает.
– Да уж.
– Будет не слишком хорошо, если нас застанут за этим разговором. Что мой епископ, что, полагаю, твои товарищи по оружию – едва ли поверят в то, что это невинная встреча.
– Dat is waar. Это правда.
– Если ты что-то хочешь мне сказать – говори сейчас. Уже поздно.
– Хорошо. – Пит собрался с духом. – Ты простишь мне мое нежелание. Сегодня утром в соборе ты спросил меня, причастен ли я к краже Антиохийской плащаницы. Я даю тебе слово, что я этого не делал.
– Но ты знал, что кража готовится?
– Я узнал обо всем уже после.
– Ясно. – Видаль откинулся на спинку своего кресла. – Ты знаешь, что меня обвинили в соучастии? Что преступление твоих товарищей-гугенотов поставило меня под подозрение?
– Я понятия об этом не имел, – сказал Пит. – Мне очень жаль, что так вышло.
– В отношении меня было начато расследование. Меня допрашивали о моей вере, о моей верности Церкви. Я был вынужден защищать себя и мою дружбу с тобой.
– Мне очень жаль, Видаль. Правда.
Видаль впился в него взглядом:
– Кто это сделал?
Пит развел руками:
– Я не могу тебе этого сказать.
– Тогда зачем ты здесь? – обрушился на него Видаль. – Чем этот вор заслужил такую твою верность и преданность, что ты продолжаешь скрывать его имя? Неужели это нечто более важное, чем долг нашей дружбы?
– Нет! – вырвалось у Пита. – Но я дал слово.
Глаза Видаля гневно сверкнули.
– В таком случае я еще раз спрашиваю тебя: зачем ты разыскал меня, если ты не можешь – не хочешь – ничего мне рассказать?
Пит запустил руку в свои волосы.
– Потому что… потому что я хотел, чтобы ты знал, что, несмотря на все мои грехи, я не вор.
– И ты думаешь, что мне от этого полегчало?
Пит упорно отказывался слышать горечь в голосе Видаля.
– С той ночи никто ее не видел, только один человек. Я принял надежные меры, чтобы плащаница осталась в целости и сохранности.
На Пита внезапно нахлынули воспоминания этого дня, увлекая его в свой стремительный водоворот, пока у него голова не пошла кругом: комната над таверной на улице Эгле-д’Ор, алчное выражение на лице Деверо и благоговение в глазах Кромптона, загоревшихся фанатичным огнем, не хуже, чем у любого рьяного католика, потом мастер из Тулузы, который долгие часы при свете свечей трудился над созданием безукоризненной копии плащаницы, время, потраченное на выбор тончайшей материи, которая дышала бы древностью, кропотливое воссоздание вышивки, чтобы даже самый наметанный глаз не отличил бы ее от оригинала, все процессы, призванные состарить подделку, придать ей ощущение древности. Его мысли потекли еще дальше, к самому первому мгновению, когда он взял в руки подлинную плащаницу и вообразил ткань, пропитанную запахами Иерусалима и Голгофы. Тогда, как и сейчас, Пита охватила дрожь, столь велика была сила потрясения от столкновения между его рассудком и непостижимым и загадочным.
Он сделал еще глоток гиньоле и немедленно почувствовал, как его бросило в жар. Пит заколебался. Он не мог нарушить свой обет хранить тайну, но мог попытаться дать старому другу – когда-то самому дорогому его другу – хотя бы искорку надежды.
– Все, что я могу тебе сказать, Видаль, – плащаница в целости и сохранности. Я никогда не допустил бы гибели чего-то настолько прекрасного.
– Несмотря на то что ты, по твоему же собственному утверждению, презираешь «культ реликвий», – бросил Видаль ему в лицо его же собственные слова. – Это слабое утешение.
– Антиохийская плащаница, хотя и является всего лишь частью целого, изумительна сама по себе, – ответил Пит. – Одного этого достаточно, чтобы возникло желание сохранить ее.
Видаль внезапно поднялся, захватив Пита врасплох.
– Но поскольку она не в моих руках, что в этом толку?
Половицы затрещали, точно поленья в камине, и красные одеяния Видаля вихрем взметнулись вокруг него, словно языки пламени. Белая прядь в черных волосах сверкнула серебром, будто молния вспыхнула в темном небе.
– Где сейчас плащаница? – отрывисто спросил он. – Она все еще в Тулузе?
Пит открыл рот, но обнаружил, что не может говорить. Его бросило в жар, стало нечем дышать. Он ослабил гофрированный воротник и расстегнул крючки дублета, утирая лоб платком. Потом сделал еще глоток гиньоле, чтобы смочить внезапно пересохшее горло.
– Она у тебя? – не отступал Видаль. Его голос, казалось, долетал откуда-то из немыслимой дали. – Ты носишь ее при себе?
– Нет.
Пит не мог сфокусировать взгляд. Отяжелевший язык с трудом ворочался во рту. Он больше не мог выдавить из себя ни единого слова. Челюсть намертво заклинило. Пит закрыл глаза, надеясь, что мир вокруг него перестанет вращаться.
– Я… вино…
Он взглянул в рубиновую жидкость в кубке, потом перевел взгляд на лицо друга. Видаль выглядел самим собой и в то же самое время совершенно преображенным. Неужели и он испытывал такое же головокружение, такую же тошноту?
На глазах у Пита кубок выскользнул из его парализованных пальцев и с глухим стуком упал на ковер, разбрызгивая по деревянному полу остатки густого красного вина. Он попытался встать, но ноги не слушались. Перед глазами все поплыло, и он сначала увидел две человеческие фигуры, потом их стало три. Они пересекли комнату и распахнули дверь. Потом позвали кого-то на помощь, и ответом им был топот ног по лестнице.
А потом все померкло.

Протестантская зараза безудержно распространяется по стране. Они, точно крысы, наводняют наши города и деревни, дыша католическим воздухом, отравляя принадлежащие Богу земли. Гугенотские пасторы, предатели Франции, подстрекают мирян к неповиновению, за что их следовало бы вздернуть: в Памьере, Белесте, Шалабре – эта чума распространяется по всей От-Валле. Волнения были в Тарасконе и Орнолаке. И даже здесь, в деревне.
Я не сомневаюсь в том, что эта напасть будет побеждена. И должна признаться, что эти беспорядки мне на руку. Ибо что такое одна смерть, когда виселицы не простаивают без дела? Что такое одно убийство, когда вокруг льются реки крови? Наши мелкие ненависти и страстишки никуда не деваются, когда приходит война. Междоусобицы, тяжбы и ничтожные дрязги беспрепятственно продолжаются на фоне крупных событий. Неизмеримо важные вещи и всякие мелочи сосуществуют бок о бок.
Я уехала бы из замка, но пока не могу рисковать. Хотя здоровье моего мужа расстроено, подорвано слишком сильно, чтобы даже самому искусному аптекарю под силу было его восстановить, в отсутствие тех ухищрений, которые мне приходится прикладывать, чтобы его уста оставались сомкнуты печатью молчания, он все еще может заговорить. Если он изобличит меня – я пропала. Его тело мало-помалу привыкает к яду, и он иногда вскрикивает по ночам.
Поэтому пока я вынуждена остаться и заняться приготовлениями к вдовству. Когда он умрет, я отправлюсь к моему любовнику. Мы с ним идеально дополняем друг друга, я и он, хотя он делает вид, что не знает этого. Все, что есть в наших душах благородного и праведного, совпадает до мелочей.
Было время, когда закоулки замка давали нам необходимое уединение, но есть ведь и другие места. Когда я связываю его запястья шнурами из красного бархата, – это союз равных. Наслаждение и боль. Как учит нас Господь, каждый из нас должен страдать, чтобы возродиться заново.
Я расскажу ему о существе, которое растет внутри меня. Об этом даре Господа. Он будет доволен.









































