Читать книгу "Последняя богиня"
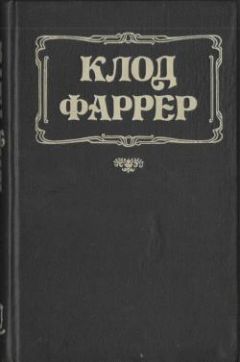
Автор книги: Клод Фаррер
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Клод Фаррер
Последняя богиня
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НЕОЖИДАННЫЕ ПРОГУЛКИ
1. Гренада
Легкие, легкие шаги по толстым полотняным половикам. Затем дверь – я ее не слышу, но угадываю: она едва приоткрывается робким, но опытным пальцем… и уже закрывается снова… тихонько… тихонько…
Кто-то вышел из моей комнаты, бесшумно, словно мышка. А я сплю: самый элегантный способ избавить друг друга от несколько слишком банального церемониала утренних прощаний дамы и господина, которые были соединены, чтобы вместе спать, – спать? – очень мало… – взаимным любопытством и сообщничеством глухого и немого отеля-дворца…
В самом деле, это отель. Даже не такой безобразный отель, как водится – не такой безобразный, скорее нелепый: его выстроили на другой стороне оврага Уэллингтона, как раз под пару Альгамбре, Альгамбре, чуду из чудес чудесной Испании. Альгамбре, этому гаремику, этому красному, жаркому, глубокому, сладострастному алькову, в котором калифы Омайяды, африканские и испанские султаны, в течение пяти столетий скрывали свои любовные увлечения…
Я, Жан Фольгоэт, – Фольгоэт, музыкант-химик… не ищите, вы наверно не знаете, – я, впрочем, не прав, возмущаясь, потому что я живу в отеле и наслаждаюсь Альгамброй: все это по предписанию факультета (медицинского, иначе говоря, зловредного), который этим летом открыл у меня не знаю сколько видов неврастении с самыми германскими названиями. От этого можно было лечиться только очень далеко от Парижа и при условии не прикасаться в продолжении нескольких месяцев ни к ретортам, ни к пробиркам. Лекарство как лекарство, – это меня еще не убило… клянусь честью. Я ждал худшего…
И вот уже две недели, как я покинул Париж; две недели: 14 июля – 28 июля. Долговаты эти две недели. Если бы еще это не было преддверием ада…
Все-таки здесь веселятся. Послушайте, третьего дня сразу отъезд в 7 часов утра, возвращение в 8 часов вечера, – я проехал рысью верхом на муле от отеля до Сьерра-Невады и от Сьерра-Невады до отеля: двенадцать часов пятьдесят минут неровных, раскаленных утесов, десять минут вечного снега… (нечто вроде сибирской яичницы: щербет между двумя половинками воздушного пирога). Щербеты побуждают к флирту… Все это знают…
Итак, мы, несколько обитателей отеля, ехали караваном верхом по Сьерра-Неваде… Видите вы это отсюда? Совершенное подобие Кука и K°… Само собою разумеется, амазонки: гармонически дозированная смесь полов…
Мой лошак под конец стал нашептывать разные вещи на ухо лошачихе, своей соседке… Дама, ехавшая на лошачихе и господин, ехавший на лошаке, не могли, конечно, сделать ничего иного, как последовать такому хорошему примеру… они последовали ему…
Мы последовали…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заключение: кто-то сейчас вышел из моей комнаты…
Это, чтобы объяснить то. Точка. Это все.
И теперь в полумраке моей комнаты плывет, колышется и движется сложное благоухание: свежей юности, горячего, горячо ласкаемого тела и, я не знаю, какой еще знойный, восточный, азиатский аромат, который обволакивает, связывает, соединяет… Дама – венка: турки там прошли… ее бабушки… Я представляю себе запах suf generis[1]1
Своеобразный (лат.) (Прим. сост.)
[Закрыть] гаремов: немножко сдобного хлеба сейчас из печи, немножко ладана, чуточку побольше ванили, чуточку поменьше крепкого перца. Моя комната – курильница. Слишком много духов. Если бы я им поддался, я от них не освободился бы. И я оставался бы в этой постели, лежа на спине, закинув назад голову, с размякшими ногами, разведя руки до полудня… а, вероятно, еще нет семи часов…
В самом деле… Неужели нет семи часов?.. Задача!.. Я охотно посмотрел бы на свои часы… но я положительно не припоминаю вместилища, куда должен был положить их вчера вечером… и, наоборот, очень хорошо припоминаю, что не соблаговолил завести их… «Ничего»… спросим о времени у солнца…
Окно открыто, но ставни закрыты, и занавески сдвинуты. Я, раздвигая занавески, толкаю ставни, и входит солнце. Оно входит даже грубо.
Кто не жил в Африке или в горах Андалузии, тот не ведает гордого величия гренадского солнца. Впрочем, я не знаю двух солнц в мире, которые были бы одинаковы. Итак, здешнее солнце не походит ни на какое другое. Это солнце – одно из самых великолепных, какие только можно себе представить. Оно цветов Испании: желтое и красное; могущественное, но благожелательное; совсем не убийственное, наподобие ультрафиолетового солнца Сингапура или Сайгона; в общем, молодчина солнце, хотя на вид буквально страшное. Даже две недели спустя каждое утро оно все еще меня удивляет, поражает. Оно только что завладело всей комнатой, оно наполнило ее: четыре голые, покрытые известью, стены теперь белы, как снег, а пыль на полу (который подметается как только можно меньше) сверкает – золотистая, волшебная…
Черт ее возьми, эту горничную, она вполне имеет основание быть грязной.
Я облокачиваюсь о балкон. У моих ног, глубоко вниз, овраг Уэллингтона вытягивает свой густой британский лес: вязы и ясени. Далее мавританская гора выставляет свои бока, рыжие, как львиная шкура. И ее увенчивает Альгамбра.
Альгамбра: диадема, состоящая из голых стен, без всякого блеска снаружи: драгоценности скрыты внутри: залы, альковы, дворы, фонтаны, все те чудеса, которые калифы Омайяды, последние калифы Запада, нагромоздили в последнем дворце своей последней европейской столицы: чудеса из камня, чудеса из мрамора, чудеса из алебастра, чудеса из кедра, чудеса из слоновой кости, чудеса из черепахи, чудеса из майолики, чудеса из мозаики, все то, что называется: Львиный Двор, Миртовый Двор, Посольский Диван, Башня Пленницы… все те абсолютные совершенства, которые могли осуществить только одни мусульмане, потому что только для них одних время – ничто… Ах, победа Карла Мартела при Пуатье, вероятно, стоила нам очень дорого!..
Я восхищаюсь голой стеной, за которой столько великолепия. Она загораживает весь горизонт от востока до запада; это нечто обрывистое, резкое, монотонное; строители подвесили свои каменные стены между небом, цвета индиго, и черными деревьями, буками, ясенями, вязами… Как быстро вас захватывает, побеждает и привязывает эта страна! Я думаю о последних благородных маврах, – все они, покидая город, унесли в Африку ключи от своих домов в Европе. И еще теперь их праправнуки продолжают хранить эти ключи, подобно тому, как мы храним наши родословные, наши дворянские грамоты, наши золотые книги… И, может быть, они даже теперь хранят веру и надеются вновь вступить в свой город в тот день, когда ислам осуществит, наконец, свой девиз: «Vonec impleatur»!.[2]2
Покуда не исполнится!
[Закрыть]
Если они хранят веру, тем лучше! А я, не обладающий ею, чего бы я ни дал, чтобы ее иметь!..
Сад благоухает. Солнце сделало все ароматным: растения и деревья, горячую землю внизу и альпийскую свежесть, которая ниспадает с гор. Мне хочется петь, петь подобно Гундингу:
– Женщина! Сюда вечернее мясо!
Так как вечер сделался утром, позвоним, чтобы принесли шоколад.
Очень скоро, – со скоростью испанской, само собою разумеется, – появляется шоколад в вытянутых, несколько дрожащих руках старика метрдотеля моего этажа: это граф Альмавива, даже более величественный, с бородкой своего прапрадеда и глазами его цирюльника Фигаро, с глазами из ртути.
– Ну, Амброзио, что нового? Черт возьми… у вас сегодня утром вид еще более дипломатический, чем обыкновенно!..
Он смотрит на меня, высоко подымая брови.
– Как? Что новенького? Барин у меня спрашивает… Ну, нет… Барин меня извинит, но я осмелюсь почтительно сказать барину, что барин заставляет меня говорить о важных вещах. Будто бы барин не знает, что вчера Австрия послала ультиматум Сербии?..
– Клянусь честью, что не знаю. И при том я не вижу, почему бы от этого ультиматума, раз есть ультиматум, стало бы мне жарко или холодно.
– Барин не думает, что ультиматум… ультиматум!.. ультиматум… А если бы, к примеру сказать, разразилась война?
– Война? Мой бедный Амброзио!.. Заклинаю вас, не говорите нелепостей. Какова бы была ваша ответственность, если бы я поперхнулся шоколадом!..
2. Опять Гренада
Столовая отеля: подделка под стиль Людовика XVI, слегка приправленная мавританским мармеладом.
Я обедаю один за моим всегдашним столиком. Один по обыкновению. Уже много лет, как я таким образом исполняю, – один, совершенно один и всегда один, – все маленькие тяжелые обязанности, сумма которых составляет жизнь. Я упускал случаи жить вдвоем. Или, скорее, кое-что вставшее поперек моей дороги, отклоняло от меня все случаи…
Кое-что: например, замеченное случайно в уголке вагона женское лицо, на которое слишком долго смотрел и нашел его слишком прекрасным, слишком таинственным, слишком божественным. До такой степени прекрасным, что ничего не было на свете желаннее этого лица.
Когда подобного рода происшествия случаются с очень культурным человеком, притом перешедшим уже за тридцать лет, является много шансов, что жизнь его будет оттого перевернута вверх дном непоправимо и навсегда.
Итак, я обедаю один и с достаточным опозданием. Столовая уже полна или почти полна. Я усаживаюсь. Мой одинокий стол находится в амбразуре настежь открытого широкого окна. Слева от меня блеск ламп, хрусталя, столового серебра, обнаженных плеч, ослепительных пластронов. Направо – ночная гора и Альгамбра, синее на синем, вырезываются на усыпанном бриллиантами небе. Резкий контраст. В этом роде я видел уже роскошный поезд, внезапно остановившийся в самой глуши старых гасконских ланд. Нет ничего прекраснее! И я напрасно жаловался только что: цивилизация имеет хорошие стороны…
Все-таки слишком поздно. Метрдотель, поджимая губы, – в такое время не обедают, право! – авторитетно предупреждает меня, чтобы дать почувствовать удар:
– Барин не получит разварной форели: разносят уже последнюю.
Прискорбно! Все-таки я покоряюсь неизбежному – довольно легко.
При том я не последний: вот из глубины главного входа, ведущего на террасу, появляется моя… сообщница… вчерашнего дня, и сегодняшней ночи, и сегодняшнего утра. Поклон, которым она дарит меня, проходя мимо, – совершенно светски равнодушен.
Как хорошо воспитаны женщины в нынешнем, от рождества Христова 1914, году!..
А что я вам говорил? Цивилизация имеет хорошие, превосходные стороны. Приведу простой пример в доказательство, мой собственный пример. Разве у меня не более завидная участь, нежели у моего предка, охотника на медведей и зубров?.. Неоспоримо, этот охотник не имел нервов… я хочу сказать, что он не страдал от них. А я страдаю от моих нервов, хотя не очень. Он, напротив, жил в беспрестанном мучительном беспокойстве о завтрашнем дне. Я представляю себе, что он жестоко страдал. А я не страдаю, потому что не испытываю больше этого мучительного беспокойства: меня освободила от него работа его внуков, моих прапрадедов.
Цивилизация имеет восхитительные стороны. Я очень весело забыл обо всем, чем я ей обязан по части мелких преимуществ и приятных развлечений. Вот я свободен, огражден от всех забот и даже тревог. Я в течение сорока с лишним лет вел жизнь, какую мне угодно было вести. Я был последовательно: моряком, потому что на меня нашел такой каприз – потом химиком и музыкантом, – потому что у меня явилась склонность к реакциям и фантазия созвучий; кого должен я благодарить за все это, кого как не ту же цивилизацию. Это она благосклонно позволила мне выбрать камень, который мне угодно было принести к той новой Вавилонской башне, что вновь начали строить люди нашего времени на еще пыльных развалинах всех тех башен, которые пытались возвести до небес цивилизации, предшествовавшие нашей цивилизации и умершие раньше, чем закончили даже первый этаж! Мы сумеем выше построить нашу башню.
– В самом деле, кто бы мог уничтожить нас, нас, нынешних цивилизованных людей, если нет более разрушителей, если нет более варваров, если вся наша планета цивилизована, цивилизована вполне! Вавилон, Фивы, Афины, Рим пали, потому что за их границами находились неведомые земли, неведомые люди, неведомое варварство, и эти люди приблизительно раз в десять столетий являлись, набрасывались и уничтожали дотла все, что было воздвигнуто ранее, когда не предвидели их существования. Кто выступил бы сегодня против Парижа, Лондона, Берлина, Нью-Йорка? Не племя ли индейцев Тоба, которое прозябает в Южной Америке? Или горсть татар из Туркестана. Или орда людоедов Шешахели, которых считают подонками Центральной Африки? Посмеемся над ними, мои цивилизованные братья! Чтобы умерла теперь наша нынешняя, полная и, если смею сказать, завершившая свой круг цивилизация, нужно было бы, чтобы она сама убила себя…
Послушайте, что понадобилось в этот час в столовой привратнику отеля?.. А, ба! Не меня ли он ищет?..
– Важная депеша господину графу…
(Нужно иметь триста тысяч франков годового дохода, чтобы, не будучи смешным, в наше время носить благородный титул. Вот почему я называюсь просто Жан Фольгоэт. Но попробуйте помешать андалузцу округлить рот, чтобы произнести эти магические слова: «господин граф»).
Не споря, я распечатываю телеграмму и прежде всего перескакиваю к подписи: П.Л.
П.Л. не простил бы мне, если бы я написал здесь его имя целиком. Он щепетильно горд и никогда не позволяет своим должникам признаваться открыто, что они ему должны. А я из числа должников П.Л. И я хочу заявить о своем долге. Итак, мне нельзя назвать моего кредитора.
У меня есть друзья. Немного: это слово стоит того, чтобы его не расточали зря. Друг, по моему мнению, это – мужчина или женщина, которым я отдал, – отдал, а не одолжил! – мое сердце. Без оговорок, без ограничений и навсегда. Даже, если мои друзья перестают меня любить. А я продолжаю любить. Во-первых, я отдал, не правда ли, а берут ли назад то, что дают? Затем, если мои друзья не любят меня более, это значит, что они ошибаются, или ошиблись. Зачем стал бы я сердиться на людей за какую-нибудь ошибку?
Нет. Мои друзья были и будут моими друзьями до конца, до смерти. Достаточно того, что они однажды отдали мне, как и я им, безусловно и вполне, свое сердце и считали, что это навсегда.
Само собою разумеется, что в этой дружбе, – в моей дружбе, – ничто не принимается в расчет, кроме взаимной любви: оказанные и принятые услуги, выказанная преданность, опасности, украденные друг от друга, – пустяки! Это инстинктивное побуждение и ничего более. И разве наиболее счастлив, тем более счастлив, тот, кто получает? Тем хуже для того, кто стал бы так думать: он не ведает дружбы!
И я люблю моих друзей, – сколько их всего? Семь, или восемь? Может быть, шесть… я люблю их и посвящаю им мою жизнь, не за то, что они для меня сделали и делают, но за то, что они для меня представляют собою.
П.Л. – это нечто иное. Не то что друг. Не то, что старший брат. Не то, что отец: это Tzeu. Я употребляю китайское слово, потому что не знаю более подходящего.
Учитель, руководитель, опекун. Дуб, за который цепляется и вокруг которого обвивается плющ. Высшее существо, которое из ребенка, произведенного родителями, обученного педагогами, воспитанного наставниками, делает, как фея силой своей волшебной палочки, человека. П.Л. нашел во мне молодого моряка, влюбленного в музыку, интересующегося множеством вещей, которых он не знал. Он изучил их, чтобы о них говорить, чтобы беседовать о них со мною. Он сделался в них знатоком. Никогда не унизил он меня никаким уроком. Никогда не дал он мне никакого совета. Он строго уважал мою волю, даже когда она вела меня к заблуждению. Он даже не отвлекал меня от него; он только становился тогда печальным, и эта печаль избавила меня от стольких подводных камней, что я не в состоянии и никогда не буду в состоянии дать ему понять, почему я, ученик, всю мою жизнь буду стоять на коленях перед ним, учителем.
Он знает, что я здесь, что я болен. Чего он хочет от меня сегодня? Почему телеграфирует он мне сюда?.. В это убежище, в это уединение, которое очень настоятельно предписал мне доктор, как необходимое и единственное средство от моего отвращения к жизни… они называют это «неврастенией», эти морильщики… они даже уснащают это название другими словами, звонкими и дикими: «циклостения», «дисмнезия»… я пропускаю остальные… и вероятно коверкаю… Все равно! Они умеют давать очень хорошие названия, эти морильщики.
Они умеют давать даже слишком хорошие названия, так что и не вылечишься: излечивать они не умеют. Нельзя уметь все. Я читаю:
«Ваше присутствие в Париже необходимо. Искренне любящий Пьер». Ах!
– Нет, метрдотель, не надо десерта. Знаете, я на диете…
И я встаю…
В холле, вокруг выставленной телеграммы, толпа. Пускаю в ход локти, чтобы прочесть:
«Сегодня вечером Австрия объявила войну Сербии»…
В 1914 году?.. Да неужели?.. Да нет же, мне померещилось. Или, в таком случае, я ошибался, я грезил всю свою жизнь и вот, сегодня вечером, я просыпаюсь менее старым, чем я себя считал, по крайней мере, на одно столетие, а то и на два…
3. Спальный вагон
Положительно, невероятное имеет возможность стать истиною. Может быть, только оно одно… Нельзя отрицать: то, что меня окружает – это купе южного экспресса. И то, что находится напротив меня, это моя секретарша – мадемуазель Клодина, которая только что умоляла меня увезти ее, чтобы она могла увидеть перед общей мобилизацией (если будет мобилизация! я все еще не могу ни на одну секунду поверить этому) своего жениха, красивого офицера, конного стрелка; я много раз любовался его фотографией, снисходительно выставленной напоказ на камине моей вышеупомянутой секретарши… Это меня не огорчало, но в подобном случае никогда не знаешь, что вздумают делать при переезде через границу нейтральные жандармы: чтобы проехать без затруднения участок Ирун-Андей, я нашел вполне уместным «похитить» мадемуазель Клодину, девушку вдобавок ко всему очень красивую и привлекательную.
Для большего правдоподобия я покинул наш багаж на милость Божию и на добросовестность отеля, который мне его отошлет… или не отошлет… позднее… немного, совсем немного позднее… Эта шутка не может продолжаться более двух недель… Итак, нас примут за двух убежавших влюбленных.
Таким образом, у нас, у мадемуазель Клодины и у меня имеются некоторые шансы перебраться беспрепятственно через трудную границу и соединиться – ей со своим женихом, мне с моим экипажем, которым вероятно снабдит меня начальство в случае, невероятном, нелепом, безумном случае европейской драки: Австрия потянет за собой Германию, Германия какую-нибудь Болгарию, Сербия потянет Россию, Россия Францию, Франция Англию… Тем не менее, раз это совершенно нелепо, это перестает быть совершенно невозможным… Следовательно…
А южный экспресс катится: сначала к Мадриду, потом через Авилу и Бургос, затем к Ируну, затем к Парижу через Бордо, Тур, Орлеан… Париж… там узнаю я рано или поздно, как идет дело.
Гренада – Париж. О, я знаю путеводитель:
«Гг. путешественников просят в особенности полюбоваться при переезде горной цепью Гвадаррамы, затем сосновым лесом герцога Медины Сели, затем Наваррскими отрогами Кантабрийских гор, затем…»
Да я всем этим уже любовался, – несколько раз. Но я нарушил бы все свои обязанности, если бы не указывал поочередно мадемуазель Клодине на все эти обязательно восхитительные вещи.
Я тем менее нарушил бы свои обязанности, что вполне искренне, добросовестно восхищаюсь сам: я страстно люблю Испанию, всю Испанию, без исключений, без ограничений…
А южный экспресс тащится, делая какие-то тридцать два километра в час. Впрочем, на мой взгляд, это не недостаток: Испания, пышная и медлительная, Турция, важная и нежная, – обе продолжают быть двумя последними реями, которыми еще не завладел микроб пляски св. Витта, микроб неистового и бесплодного беспокойства. Там не испытывают бесплодной потребности растерянно бегать справа налево и слева направо, взад и вперед, вперед и назад, неведомо для чего, без толку и причины; там не упраздняют единственного вполне хорошего наслаждения, которое предлагает нам жизнь: блаженства неподвижности, досуга, отдыха, сладостного покоя, который другие называют нирваной…
Если бы я этим удовлетворялся?.. Как бы не так! Станет музыкант-химик предаваться безделью.
А южный экспресс, запыхавшись, останавливается среди пустыни. Почему? Я не знаю, он также, и я продолжаю думать…
Вчера там. Сегодня здесь, между Авилой и Бургосом; Мадрид уже далеко позади… Ах!.. Европа поистине слишком скоро ведет свои дела…
Что касается до мадемуазель Клодины, она не думает: надлежащим образом охмелевши от двух глотков Педро Хименеса, она прыгает с одной скамейки на другую и называет меня просто по имени. Бедная малютка во время отъезда была так расстроена, что я заставил ее выпить эти два глотка, боясь обморока в вагоне-ресторане. Или я перестарался? Два глотка, – может быть, один был лишним… Здесь, должно быть, моя вина.
(Заметьте, что в нормальном состоянии этот ребенок по части скромности превзошел бы девочек, идущих в первый раз к причастию, как их рисуют на картинках… К несчастью, в теперешнем состоянии…).
Без всякого сомнения здесь моя вина!.. Меа maxima culpa!..[3]3
Моя величайшая вина!
[Закрыть] Итак, будем снисходительны… Мы поквитаемся за это тем, что останемся без обеда, вот и все: вагон-ресторан теперь куда хуже, чем был недавно.
Пора ложиться спать. Надо тушить огонь.
– Мне очень страшно ночью, когда я сплю одна… Не позволите ли вы мне оставить приоткрытой дверь между вашим купе и моим?
– Что вы?.. А приличия?.. И потом, мне, мне очень страшно, когда я сплю в помещении, где дверь не закрыта… Вы уж извините меня…
Я запираюсь. Тушу лампы, опускаю стекла… Очень смутно я различаю очертания – берлинская лазурь на ультрамарине – посаженных герцогом Мединой Сели высоких сосен, которые он высокопарно называет своим лесом. Они так удалены друг от друга, что испанское солнце имеет полную возможность проникать, как ему угодно, в этот герцогский лес, ни больше, ни меньше, чем в голые равнины рядом с ним…
И каждый оборот колес приближает меня к Парижу… приближает меня, следовательно, к известному лицу… о котором я вам говорил… И что бы я ни делал, что бы я ни говорил, я думаю только об этом лице…
Все-таки… если я удалился от него четыре недели тому назад, вероятно это было не без причины?.. Так вот, я никогда не был неудобным любовником, даю вам в том мое честное слово. Я не похож на Синюю Бороду. Я не умею, никогда не умел и никогда не буду уметь осматривать с ног до головы мою любовницу, когда она возвращается домой, или задавать ей этот вопрос, еще более глупый, нежели подлый, и гораздо более подлый, чем ложь, которую он вызывает: – «Откуда ты?».
Нет. Я всегда находил, что лучше быть обокраденным, чем быть скрягой. У меня всегда была гордость, которую нужно иметь, и те женщины, что видали меня плачущим от восторга в их объятиях, никогда не видели и никогда не увидят меня плачущим от страдания у их ног. Меня иногда умоляли. Я никого не умолял. И никого не стал бы умолять. За это я отвечаю.
Нужно было бы быть худшим солдатом, нежели я был и продолжаю быть. Нужно было бы не знать, что во всяком случае для каждого человека, достойного имени человека, существует верное убежище от любви, – шесть еловых досок, соответствующим образом сколоченных. Это может пригодиться в тот день, когда вы неожиданно заметите, что ваши колени гнутся.
Мои колени еще не гнутся, далеко до того… они, быть может, устали… им больно, о! да… Словом, если я покинул Париж и поставил расстояние в восемьсот миль между своей любовницей и собой, то потому, что я почуял, что приближалось то… то… что не слишком прилично открыть любовнику, когда он не вполне чувствует себя решившимся в случае надобности принять положение и произвести движение, которых требует его достоинство.
И вот сегодня у меня, к несчастью, нет выбора между лучшим и худшим…
Лес герцога Медины Сели продолжает бежать с запада на восток, ежечасно все более редея, все более сквозя, пока не становится, наконец, призраком леса, по мере того, как надвигается и сгущается темнота ночи.
Моя секретарша, юная Клодина, лучшая путешественница, чем я: она спит в своем запертом купе, – запертом на задвижку мною; она спит спокойно, как маленькая девочка, какова она и есть, и я слышу ее дыхание, медленное и спокойное, скромное, наконец! И Педро Хименес, как я и надеялся, наконец подействовал.
Мне же не более хочется спать, чем пустить себе пулю в лоб. Даже гораздо меньше…
Четыре недели тому назад я внезапно покинул Париж, вы знаете почему… Сегодня я возвращаюсь, неожиданно… неожиданно!.. какая неосторожность!..
Безупречно прекрасная погода. Испанское небо – даже здесь, за Бургосом, еще почти африканское! – кокетливо разукрасилось звездами. Самое полное, я сказал бы, повелительное спокойствие струится со всего небесного свода на всю землю. И под этим небом люди, которые не так злы, как глупы, осмелились вчера и сегодня говорить о войне? Они не так злы, как глупы, конечно, но не так глупы, как зловредны, если они, во что бы то ни стало, пойдут до конца.
И невольно я считаю по пальцам: Германия – семьдесят миллионов; Австрия – пятьдесят миллионов; Франция – сорок; Россия – сто двадцать; сколько всего? триста… нет: двести восемьдесят миллионов существ; считая по шести или семи сражающихся на сто, они дадут круглым счетом двадцать миллионов солдат, третья часть которых, может быть, останется на поле битвы.[4]4
И осталась. (Примеч. автора).
[Закрыть]
Прекрасные похороны для этого несчастного эрцгерцога; но если где-либо на небе, или в другом месте существуют боги, мало-мальски справедливые и сколько-нибудь внимательные к делам людей, эти похороны могут потребовать много расплавленного свинца и кипяченого масла для буйных сумасшедших, которые установили бы ход и порядок погребального шествия, не говоря уже об искупительных жертвах и плакальщицах…
Двадцать миллионов солдат, какое безумие! Мы до этого дошли: все стали солдатами! Ужасающая нелепость, смертельное безумие, которое непременно, когда начнется война, должно привести к следующему: ко внезапной остановке жизни народа, лишенного сразу всех своих жизненных органов, превратившегося, из-за всеобщей мобилизации, в машины для убийства, и к быстрому истощению всего капитала предков, накопившегося веками и завещанного нам всеми нашими отцами, начиная с пещерного человека четвертичной эпохи, который убивал медведя и мамонта, кончая более близкими к нам сверхлюдьми. Пастерами, Бранлеями, Кюри, которые завершают завоевание земного шара и умеют делать его день ото дня удобнее для жизни: здоровее, безопаснее, приятнее и прекраснее.
Чудесная Вавилонская башня, – согласен. Но где была моя голова, если я считал вчера эту башню прочнее ассирийских или римских? Чтобы совершенно, дотла уничтожить ее, – чтобы оставить от нее лишь немного пыли, так немного, что будущие археологи и не посмеют говорить, жили или не жили здесь люди, – сколько понадобилось бы времени? Очень немного, если бы только сумели употребить его вполне методически, вполне научно, для разрушения вместо охраны, для истребления друг друга вместо взаимопомощи, для взаимной ненависти, вместо… терпимости (кажется, что это самая умеренная любовь – терпимость – все еще превосходит человеческие силы? Бедный Христос! для такого человечества ты был распят на кресте!). О, достаточно было бы трех или четырех лет, чтобы уничтожить дело трех или четырех столетий!
Она из фарфора, наша башня. Хороший удар молотком… и готово! Мы сами с барабанным боем препроводим себя назад, в пещеру медведя, которого наш почтенный дедушка с таким трудом оттуда удалил, и займем ее.
Кто беспокоился о прежней войне, о войнах XIX, XVIII, XVII столетий? Это было дело солдат, только их дело. Когда вновь наступал мир, народы, победители или побежденные, ничуть не чувствовали себя оттого хуже.
Чтобы Франция немножко пострадала от военных прогулок великого короля,[5]5
Людовик XIV.
[Закрыть] понадобилось около тридцати трех лет. При этом голод был бесконечно неприятнее, чем Голландия, Англия, Испания и император, вместе взятые. Если бы стали сражаться в царствование ее величества Республики, третьей по имени, то двинулись бы не армии против армий, а народы против народов.
Что я говорю: народы – расы – и, хуже того, группы рас: одна половина человеческого рода против другой половины. Человечество само разорвет себя на части, совершая самоубийство! Вот оно, самоубийство, которое представлялось мне третьего дня единственным правдоподобным концом для цивилизации, слишком распространившейся, ничего не пощадившей на пяти континентах и не знающей более ни границ, ни варваров…
Право, это именно то, что может, что должно случиться. Как! как! Война, всеобщая война, которая была бы самоубийством, самоубийством всего мира? Почему нет? Я начинаю относиться не так скептически к возможным дипломатическим и военным осложнениям.
Ба! Южный экспресс снова двинулся в путь, тихо, тихо, тихонько. Нет ничего невозможного в том, что когда-нибудь мы доедем до места назначения…









































