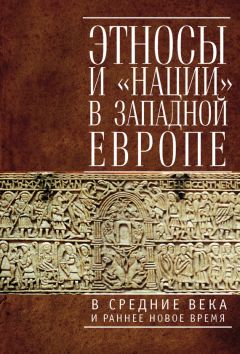
Автор книги: Коллектив Авторов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
8 Истрин В.М. Хроника Иоанна Малалы в славянском переводе (18971914). Репринтное издание М., 1994.
9 Studies in John Malalas, ed. by E. Jeffreys with B. Crake and R. Scott. Sidney, 1990.
10 Recherches sur la chronique de Jean Malalas: actes du colloque 'La Chro-nique de Jean Malalas (VI s. e. chr.): genese et transmission’ organise les 21 et 22 mars 2003 a Aix-en-Provence. Ed. par J. Beaucamp avec la collaboration de A. Ber-nardi, B. Cabouret et E. Caire. P., 2004; Recherches sur la chronique de Jean Malalas: ed. par S. Agusta-Boularot, J. Beaucamp, A. Bernardi, et E. Caire. P., 2006.
11 Об интересе к манихейству см.: Croke B. Malalas, the man and his work. // Studies inJohn Malalas, ed. by E. Jeffreys with B. Croke and R. Scott. Sidney, 1990. P. 13–14; о восточных элементах в мировоззрении Малалы см.: Jeffreys E. Malalas’ world view // Studies in John Malalas, ed. by E. Jeffreys with B. Croke and R. Scott. Sidney, 1990. P. 65–66; о месте Малалы в византийской историографической традиции об императоре Юлиане см.: Bouffartigue J. Malalas et l’his-toire de l’empereur Julien // Recherches sur la chronique de Jean Malalas. V. II. P., 2006. P. 137–152.
12 Список статуй, упомянутых Иоанном Малалой, см. в работе: Saliou С. Statues d’Antioche de Syrie dans la Chronographie de Malalas// Recherches sur la chronique de Jean Malalas: ed. par S. Agusta-Boularot, J. Beaucamp, A. Bernardi, et E. Caire. P., 2006. P. 69–95.
13 Чекалова А.А. Византия и Запад // Византия между Востоком и Западом. Опыт исторической характеристики. СПб., 2001. С. 81–104.
14 О внимании Иоанна Малалы к организации пространства как одной из важнейших функций правителя см.: Самуткина Л.А. Город в «Хронографии» Иоанна Малалы // Личность – Идея – Текст: К культуре Средневековья и Возрождения: Сб. науч. тр. в честь 65-летия Н.В. Ревякиной. Иваново, 2001. С. 33–47; Metivier S. La creation des provinces romaines dans la Chronique de Malalas // Recherches sur la chronique de Jean Malalas: ed. par S. Agusta-Bou-larot, J. Beaucamp, A. Bernardi, et E. Caire. P., 2006. P. 155–172; Cabouret B. La fondation de cites du IIe au IV siecle (des Antonins a Theodose) d’apres la Chronique de Malalas // Recherches sur la chronique de Jean Malalas: ed. par S. Agus-ta-Boularot, J. Beaucamp, A. Bernardi, et E. Caire. P., 2006. P. 173–185.
Громова А.В.
II. Формы этнонациональной самоидентификации: историческая рефлексия, и правовая мысль, культурные феномены
II.I. «Франция родина правосудия». Институционализация патриотизма[2]2
Работа выполнена в рамках гранта «Этноконфессиональные процессы и этногенетические мифы в конституировании политических идентичностей в Западной Европе Средних веков и раннего Нового времени» (Программа ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории»); при содействии Дома гуманитарных наук (Fondation Maison des sciences de l’Homme), Франция.
[Закрыть]
Национальный вопрос относится к числу самых сложных, тонких и болезненных аспектов человеческого сознания. Степень жгучести вопроса оставалась неизменной веками, менялась лишь интерпретация самого понятия «нации». В Средние века, когда собственно закладывались основы современных наций, безраздельно господствовало представление об общем происхождении и кровном родстве тех, кто составляет «нацию», синонимичную в такой интерпретации «роду»1. Этнический компонент долгое время считался ядром нации, и в известной мере он остается основополагающим признаком национальной идентичности. Подобное единство предполагало наличие неких общих черт у людей одной крови – во внешнем облике, в обычаях и нравах. Модные в наши дни «реквиемы по этносу» и теории «воображаемых сообществ» красноречиво свидетельствуют о пропасти, отделяющей нас от таких простых и прямолинейных интерпретаций. И всё же некоторая общность – во взглядах, в образе жизни и мышления, в способах самоидентификации – характеризует все народы.
Каждая современная «нация» проделала свой уникальный путь в истории. Хотя процесс складывания «наций» был общим для Европы в период формирования «национальных монархий», но национальное самосознание, при этом, не было универсальным, в каждой стране оно имело свои особенности. Поиск слагаемых элементов для каждого типа национального самосознания в разные эпохи остается актуальным научным вопросом по сей день.
Французский вариант становления национального единства афористично охарактеризовал Б. Гёне: «государство создает нацию». Тем самым он подчеркивал первостепенную роль политического фактора в формировании французской нации, конкретно – главенствующую роль Французского королевства и персоны монарха как общепринятых коллективных ценностей2. В этом смысле французов следует отнести к типу «политических наций», где государство играло роль объединяющего фактора, создающего общие ценности и культивирующего чувство общности, скрепленное культурными кодами как опорой национального самосознания3.
Динамику этому процессу придавало «встречное движение»: не только государство было кровно заинтересовано в формировании у подданных осознания, что они единая «нация», как в прочной опоре процесса централизации, но и люди обратили свои чувства на государство как на объединяющую ценность. Как образно заметил Дж. Стрейер, «государство существует только в сердцах и в головах граждан, и если они не верят в его существование, никакая сила или логика не вдохнет в него жизнь»4. Убедив французов, что они составляют «естественную общность», государство во Франции обрело в этом факторе политическую устойчивость и получило новый импульс развития. Этого нельзя было добиться никаким «легальным насилием», даже духовным, включая умелую и красочную пропаганду. Люди сами должны были захотеть жить вместе, добровольно принять «условия игры». Следовательно, за успехами централизации и консолидации, за длящимися во времени монархическими институтами проглядывает осознанный выбор людей в пользу этого процесса. Так во Франции происходит соединение «нации» и «государства», этнического и политического компонентов, а на авансцену выходит новое явление – чувство национальной гордости, сублимирующее общественный договор.
Как и повсюду в Европе, во Франции в период классического Средневековья господствуют идеологемы «богоизбранности» французского народа, «Франции как земли обетованной» и т. д. Но, – и в этом ее отличие от других стран, – объектом национальной гордости становится не только персона короля, окруженного ореолом превосходства над другими монархами, но и возникающие монархические институты, которые начинают играть «первую скрипку» в пропаганде национальной исключительности. А на стратегии утверждения французской национальной идентичности определяющее влияние стали оказывать служители короны, прежде всего юристы, со своими специфическими представлениями об общем благе и ценностными ориентирами.
В этом русле мне бы хотелось привлечь внимание к аспекту, слабо изученному именно в контексте формирования национального самосознания, – к теме правосудия/справедливости (отмечу сразу же неустранимую синонимичность этих слов во французском языке и больше не буду на этом останавливаться) как стратегии самоидентификации французской «нации». В заглавие статьи вынесен парафраз (кстати, без знака вопроса, как констатация «очевидного») из произведения юриста и парламентария XVI в. Бернара де Ла Рош-Флавена, написавшего «Тринадцать книг о Парламентах Франции. В них на разные лады превозносится правосудие во Франции, а в «книге», посвященной прерогативам короля, сказано следующее:
«Правосудие явилось на свет одновременно с Францией, и обладает правом наследования во французской земле, как существуют страны, наделенные редкостями, не водящимися в иных местах. Индия одна имеет деревья, дающие благовония. Лишь персидские неводы приносят превосходные жемчуга. Только Аквилон дает янтарь. Точно также в одной лишь Франции отправляются истинные функции Правосудия, особенно в Парламентах»5.
Это рассуждение Ла Рош-Флавена получило большую известность в историографии благодаря классической книге Эрнста Канторовича «Два тела короля», где оно фигурирует как доказательство оформления концепции «неумирающего тела» государства через стабильные монархические судебные институты6. Однако подобное утверждение не является «изобретением» юриста эпохи раннего Нового времени, но уходит корнями в Средневековье, когда закладывались основы национальной идентичности французов (Замечу попутно, что не считаю неизменными такие идеологемы; они по-разному функционировали в разные периоды и получали различную интерпретацию.) Среди знаков избранничества французов существенное место начинает отводиться правосудию/справедливости как доказательству превосходства Французского королевства над всеми прочими. Чувство национальной гордости, патриотизм как стратегия идентификации «нации» отныне концентрируется не только на своих героях и святых, не только на истории военных побед, но и на превосходстве институтов правосудия во Франции.
Когда же возникает эта тема? Важный вопрос, помогающий понять истоки этой идеологемы. Хотя слово «патриотизм» появляется только в XVIII в., но в Средние века уже существовало идущее от Античности понятие «родины» (patria – pro patria mori, по Цицерону и Горацию)7. При этом, обратим внимание, именно юристы – из Орлеанской школы гражданского права – первыми начинают говорить о Французском королевстве как о единой стране (pays) и «общей родине». Не менее значимо и то, что происходит это в правление и под ореолом Людовика IX Святого. Около 1270 г. Жак де Ревиньи, адаптируя Дигесты, пишет о communis patria. Чуть позднее, в 1274 г., монах из Сен-Дени (Примат) впервые говорит о Франции как «нации», соединив нераздельно политический и этнический компоненты. Примерно с 1300 г. можно констатировать утверждение в политическом лексиконе понятия «нации», сам же термин «natione gallicus» появляется в 1318 г., а французы начинают верить, что представляют собой единую нацию8. В этом плане абсолютно прав Б. Гёне, заявляя, что вовсе не в период Столетней войны возникает (хотя тогда оно существенно укрепляется), а именно во второй половине XIII в. зарождается во Франции национальное самосознание и элементы патриотизма9.
Таким образом, именно правление Людовика IX Святого, с моей точки зрения, становится поворотным в процессе складывания национального самосознания и составляющих его элементов. Чем же оно было знаменательно? Святость короля, основанная вначале преимущественно на его верности крестоносной идее и личном смирении, под пером апологетов и идеологов монархии во главе с Жуанвилем трансформируется в его исключительную заботу об отправлении истинного правосудия и об «очищении нравов» чиновного корпуса (комиссия по расследованию злоупотреблений чиновников 1247 г. и изданный на основе ее выводов краеугольный для всей структуры исполнительно аппарата ордонанс декабря 1254 г.).
Роль королевского правосудия как основного инструмента складывания централизованных национальных монархий – огромная тема, и о ней написано так много, что я не буду подробно на ней останавливаться10. Отмечу лишь, пунктирно, существенные для данной темы элементы.
Функция «короля-судии», «верховного арбитра», стоящего над схваткой и воздающего каждому должное – внесла решающий вклад в повышение морального авторитета королевской власти и в укрепление ее институтов. Идентификация монарха через судебную функцию сделала отправление правосудия мерилом оценки каждого правления11. Прославление королевского правосудия во Франции постепенно удревнялось, доходя вплоть до времени царствования Хлодвига12, но именно начиная с Людовика IX Святого каждого короля оценивали через функцию отправления им правосудия. Даже излюбленный во французском политическом словаре титул «наихристианнейшего короля», трактуемый как знак избранности французского народа, обосновывался применительно, например, к королю Филиппу IV Красивому, тем, что тот якобы «блистал над всеми прочими правителями мира своим правосудием (как и верой)»13. Равным образом Кристина Пизанская, прославляя Карла V Мудрого, неизменно именует его «столпом правосудия»14.
Показательно, что высшей формой установления справедливости признается именно личный суд короля, причем, парадоксальным образом, эта идея усиливается параллельно с укреплением и разветвлением судебного аппарата короны Франции, реально и повседневно оправляющего данную функцию. Картина – сидящий под Венсеннским дубом король Людовик IX Святой, выслушивающий жалобы подданных и выносящий свое решение, – становится квинтэссенцией идеального правления. Замечу, что эта картина не имеет ничего общего с «буколическим мотивами», как полагает К. Бон, но отсылает к «древу» – архаическому символу связи земли и неба и образу истинного правосудия15.
Иконография французской монархии настойчиво пропагандировала эту мифологему. Наиболее показательный пример – «Ретабль» (Распятие) в Большой палате Парламента, картина, созданная в 1454 г. в качестве образного ориентира для судей верховного суда королевства. На ней вокруг Распятия Христа изображены один «национальный святой» – св. Дионисий (с отрубленной головой в руках) и два «французских святых короля» – Карл Великий (идентифицируемый традиционно по пышной бороде) и Людовик Святой – причем изображенный с чертами лица Карла VII – явно высокая оценка его правления «заказчиками» картины. Висящая в центре большой стены в главной зале Парламента картина, невольно притягивая взоры, олицетворяла «истинное правосудие» и «главного судию», с оглядкой на которого и должен был вершиться суд в верховной судебной палате Французского королевства16.
Отличительным знаком избранности королей Франции как вершителей истинного правосудия объявлялась такая специфически французская инсигния, как «длань правосудия» – преобразованный второй, короткий жезл короля, с навершием в виде благословляющего крестного знаменья. Король держал ее в левой руке, подражая Богу, выносящему приговор. Кстати, в связи с трактовкой именно этой инсигнии и был написан приведенный выше пассаж из трактата Ла Рош-Флавена, где толкуется о знаках превосходства Франции: «все короли имеют скипетр, но только короли Франции имеют совокупно длань правосудия как один из знаков их власти», поскольку в их Парламентах вершится истинное правосудие. Аналогичные идеи мы встречаем и у другого знаменитого юриста XVI в. Шарля Луазо: «в нашей монархической Франции рука обычно означает публичную власть, и говоря о «взятии под руку», «передаче в руки» мы подразумеваем именно эту руку, которую мы зовем дланью короля или правосудия… и наши короли, будучи облачены в королевское одеяние, держат ее как самые главные судьи-миротворцы в мире, помимо скипетра, общего у всех королей»17.
Хотя само наименование короткого скипетра (virga) как «длани правосудия» появляется в 1461 г., свидетельствуя о произошедшей важной идейной трансформации, однако его древнейшее изображение восходит к королевской печати Людовика X Сварливого, а использовался он с 1315 г. И неслучайно первый король, изображенный держащим малый скипетр с навершием в виде благословляющей руки судьи, был, разумеется, Людовик IX Святой. Впервые изображение появилось в 1299 г. на печати доминиканского монастыря в Эврё, основанного под его патронажем; затем – на витраже Троицы в церкви в Вандоме (ок. 1300–1305 гг.). Ученые справедливо относят трансформацию малого скипетра в «длань правосудия» к самому концу XIII в. как отражение перехода от короля-мудреца к королю-миротворцу и судье – уже не Давид, но Соломон18. Длань правосудия, до конца XV в. именуемая в обиходе «жезлом Господа» (baton a seigneur – как благословение), возводилась именно к «святому королю». А утверждается эта почетная «генеалогия» в правление Филиппа IV Красивого, что невозможно отделить от наступательной идеологической программы королевских советников-легистов, от существенного расширения административной власти короны, от разработки «позитивного права» и оформления монархических институтов. Обновляющейся форме правления должен был соответствовать и новый атрибут короля. Кстати, заметим, что со временем все королевские инсигнии начинают трактоваться во Франции именно как символы правосудия (в том числе цветок лилии)19.
Олицетворением превосходства французского правосудия становится особый статус Парламента, стоящего на вершине иерархической структуры органов королевской власти. Этот высокий статус верховного суда подкреплялся его функцией «репрезентации короля», означавшей не столько символические подобие, сколько чисто юридическую «заменяемость» государя Парламентом. В трактате Филиппа де Мезьера «Сновидение старого паломника» (конец XIV в.) Французское королевство восхваляется как «источник правосудия», и главным образом Парламент: «под небом не найти более достойной, ни более справедливой кузницы, чем святой Парламент в Париже»20. Современники, а вслед за ними и историки спорили, кто же был основателем Парламента. Хотя предпринимались отдельные попытки удревнить его историю, возведя к самому Карлу Великому, правителю par excellence Средневековья, или же к Пипину Короткому, но в значительной мере спор «крутился» вокруг двух знаковых для монархии имен – Людовика IX Святого и Филиппа IV Красивого21.
Важно, при этом, иметь в виду, что сами парламентарии к XVI в. настаивали на решающей роли Людовика IX Святого в «оседании» Парламента отныне и навсегда в столице королевства – в Париже, во Дворце в Ситэ, поскольку первые сохранившиеся в парламентских архивах протоколы датируются 1254 г. – важная дата, отсылающая и к великому реформаторскому ордонансу о «преобразовании нравов в королевстве»22. Потомственный магистрат, парламентарий и знаток судебных архивов XVII в. Жан Ленен даже цитирует письмо, адресованное парламентариями королю, где говорится, что именно Людовик Святой основал Парламент23. Это оседание верховной судебной палаты в Париже стало важнейшим фактором отделения функции правосудия от персоны монарха, сняв с магистратов необходимость следовать за ним и разорвав их «генетическую» связь. Что же до роли Филиппа IV Красивого, то она трактовалась как придание Парламенту новой структуры: разделение на две палаты: Верховную, выносящую приговоры, и Следственную, готовившую материалы к процессам. Не менее важным была и осуществленная им масштабная реконструкция Дворца в соответствии с новой идейной программой Французской монархии24.
Единый центр для всей страны – столица королевства – призван был сыграть важную роль в процессе централизации и складывания национального единства. С этой целью Париж прославлялся идеологами монархии на все лады: его объявляли «раем» (возводя этимологию Paris к Paradis), новыми Афинами и новым Иерусалимом. На фоне политической консолидации и процесса национальной самоидентификации возникает совмещение «Святой Земли» за морем и «милой Франции», страны нового избранного народа, сообщества свободных людей (этимология этнонима «франки» от слова franc – «свободный»). Но главное – Париж объявили новым Римом, «общей родиной» (communis patria) для всех подданных короны Франции, наряду с «малой/личной родиной» у каждого человека25. Знаменательно, что именно под пером юристов, взявших идею из Дигест, и именно начиная с XIII в., особенно в период борьбы французской короны с папой Римским Бонифацием VIII, происходит символическое отождествление Парижа с Римом как символом «общей родины» и формируется принципиально новый тип патриотизма26. В качестве иллюстрации широкого распространения этой идеи приведу лишь один пример: 14 июня 1380 г. во время весьма заурядного судебного заседания в Парламенте по поводу тяжбы между прокурором торговцев морской рыбой в Париже и королевским прево, последний в числе аргументов в пользу превосходства своей юрисдикциии напомнил, что «Париж лучший и самый знатный город королевства, он Рим в этом королевстве»27.
Надо признать, аналогичный процесс происходил едва ли не повсеместно в Европе, где активно развивались централизованные «национальные» монархии. Повсюду пропагандировались идеи богоизбранности данного «народа», а столицы складывающихся государств объявлялись новым Римом. И все же французский вариант имел свою весьма существенную особенность. Постепенно, по мере усиления судебных функций монархии и расширения компетенции верховного суда, Париж начинает прославляться в связи с нахождением в этом городе верховной судебной инстанции Французского королевства – Парламента. Причем любопытно, что иные верховные ведомства, также обосновавшиеся в столице, никогда не упоминались в доказательство приоритета Парижа, а их нахождение в столице даже не фигурировало в структуре их номинации28. Высшая судебная функция, осуществляемая Парламентом в Париже, напротив, сделалась стратегией политической консолидации и предметом национальной гордости подданных Французского королевства. Так, в указе 1390 г. о расширении судебных полномочий Парламента за счет юрисдикции церкви Нотр-Дам в Париже говорится, что этот судебный орган «находится в лучшем и самом знатном городе нашего королевства, в каковом пребывает наш престол и резиденция главного суверенного суда»29. В ряде указов высокий статус Парижа также обосновывался тем, что именно здесь «находится суверенная резиденция правосудия нашего королевства»30. В этом отношении особенно показателен указ Генриха VI как главы «соединенного королевства» Англии и Франции по договору в Труа 1420 г. Учитывая свою спорную легитимность, он намеренно подчеркивает соблюдение традиций французского законодательства. Подтверждение в 1431 г. привилегий Парижа в указе обосновывается так: «главный город нашего королевства Франции, наделенный святыми реликвиями Страстей Христовых и украшенный суверенным судом, отправляемым и находящимся в курии нашего Парламента… по образцу города Рима, каковой давние императоры почитали за главный город и больше всех остальных городов его одаряли почестями и привилегиями»31. Виднейший юрист и идеолог монархии Жан Жувеналь дез Юрсен писал в трактате «Внемлите небеса» в 1435 г.: «Париж создали три вещи – пребывание здесь монархов, суверенного суда всего королевства и университета»32. На заседании Генеральных Штатов в Туре в 1484 г. депутат от Парижа, доктор теологии Жан де Рели восхвалял те же преимущества столицы, говоря о «достоинстве, благородстве и древности доброго города Парижа, резиденции королевского величества, древнейшем местопребывании королей, ложе правосудия и доме мудрости»33.
Таким образом, Парламент превращается в один из факторов идентификации Французской монархии и в знак ее превосходства над другими странами, а отправляемая им судебная функция – в предмет национальной гордости. В указе королевы Изабо Баварской, изданном в драматичный для французской монархии момент грядущего раскола страны, в 1418 г., о статусе правосудия и Парламента говорится в возвышенном тоне и в превосходных степенях: «главный и суверенный суд королевства, чья репутация была столь велика и славна во всем мире, что нации и провинции, как соседние королевству, так и чужие и очень отдаленные часто стекались сюда, одни – чтобы созерцать правосудие, кое почитали больше за чудо, чем за человеческое творение, другие – дабы снискать здесь свободно права и разрешения в своих жарких спорах и раздорах»34. Парламентский прокурор и поэт Марциал из Оверни писал о Парламенте как о знаке превосходства Франции, которую «сверхпочитали из-за суда благородного Парламента»35.
Излюбленным доказательством беспристрастности и справедливости французского правосудия становится образ сарацина, как стали именовать на Западе мусульман. Именно фигура иноверца призвана была доказать, что во Франции перед судом все равны, и здесь творится истинное правосудие «невзирая на лица». Как следствие, пропагандируется идея о том, что иные народы часто прибегали к судебному арбитражу короля Франции, как знак превосходства Французского королевства. Филипп де Мезьер обыгрывает с разных сторон обращение «язычников и сарацинов не единожды к святому Парламенту в Париже…, чего нельзя сказать ни обо одном другом королевстве христианского мира». Кстати, и в позиции contra, для критики нынешнего состояния дел в Парламенте, он также использует образ сарацина: «что же до сарацинов, кои ищут правосудия в благословенном Парламенте, ясно, что если бы они знали, как долго длятся тут процессы, ноги бы их не было здесь»36. В ремонстрации Парижского университета, поданной на собрании депутатов Штатов в 1413 г. в ходе восстания кабошьенов, также используется этот миф: «И по причине великой славы и истинной справедливости, хранимой здесь без пристрастия и лицеприятия, не только иные нации христианского мира, но подчас сарацины, как говорят, обращались сюда за приговорами»37. В цитировавшейся выше поэме Марциала из Оверни, прославляющей французское правосудие, говорится о том же: «сарацины, язычники и неверующие, привлекаемые к суду за свои делишки и лихоимство, обращались к королю и королевству Франции из-за репутации и превосходства правосудия, царящего здесь столь высоко, в поисках справедливости., моля благородного короля Франции поручить их дело благородному суду Парламента»38. Итальянец Антонио Астесано в поэме 1461 г., восхваляя
Парламент как аналог Римского Сената, писал: «Слава этого суда до того распространена в мире, что можно видеть не только верные Богу народы, но и почитателей ложных богов и богинь…, присылающих со всех сторон земли свои дела, дабы передать их решению этих советников и уважать их приговор, словно бы божественный»39.
Знаменательно, что в стенах самого Парламента эта тема активно использовалась участниками судебных разбирательств, явно с целью привлечь на свою сторону симпатии судей: так, 10 июля 1408 г., желая передать дело из юрисдикции университета в Парламент, тяжущаяся сторона обосновала свою просьбу так: «нет на свете человека, будь он даже сарацин, кто пришел бы в этот суд за решением, и ему бы в этом отказали»; в 1433 г. одна из тяжущихся сторон заявила, что это «высокий и главный суд королевства, куда даже чужеземцы и сарацины обычно прибегают за правосудием»40.
Как следствие, Парламент начинает восприниматься как знак наилучшего политического устройства Франции, отличающей ее от всех иных королевств, как залог ее славы, стабильности и процветания. Аналогичные институты, вокруг которых строилась национальная идентичность и патриотическая пропаганда, имелись в большинстве стран Европы, например, в Англии такую же роль очевидно играл орган сословного представительства, парламент. Во Франции же эту важнейшую для национальной консолидации роль играл именно верховный суд королевства.
Отсюда проистекает восхваление Парламента как властного института, обеспечивающего устойчивость Французской монархии. Так, в «патриотическим» трактате, написанном в 1419 г., в драматичный период королевской схизмы, фигурирует идея о трех компонентах превосходства Французской монархии: двенадцать пэров, Парламент и собрания трех сословий, каковые все вместе соучаствуют в управлении страной41. В трактатах епископа Лизьё и хрониста Тома Базена, а также Бернара де Розье, архиепископа Тулузы – своего рода предтеч Клода де Сейселя с его концепцией ограниченной монархии – как знак избранничества Франции (наряду с помазанием, исцелением золотушных, лилиями, орифламмой и т. д.) отмечалось, что «король Франции стоит над всеми в мире, а Франция наилучшая из стран, поскольку в ней действиями короля руководят салический закон, Парламент и двенадцать пэров». Здесь царят право и справедливость, и потому страна процветает, пребывая в покое и счастье42. Более того, Парламент в период острых политических кризисов позиционируется как защитник суверенитета и целостности государства. Впервые о роли Парламента как спасителя Франции громогласно заявил Жан Жерсон в речи против тираноборческих идей Жана Пти в 1408 г.: «От отсутствия подобной курии погибали другие страны, как то Германия и Италия». Шарль Луазо подхватил эту идею, и его высказывание превратилось в афоризм: «Парламент спас Францию от расчленения и раздробления, подобно Италии и Германии, сохранив королевство в его целостности»43.
Превращение судебной функции в своего рода национальный миф и в стратегию национальной идентичности французов способствовало, на мой взгляд, процессу институционализации патриотизма. Парламент сделался предметом национальной гордости и знаком избранности французов, а патриотические чувства людей были умело переориентированы с помощью подобных идеологем на органы правосудия, даже и через критику инстинного положения дел в сфере судопроизводства. Эта критика, как ни странно, также способствовала кристаллизации самой идеи, закрепляя судебные институты как знак особой доблести Франции и способ самоидентификации страны.
Но у этого процесса были и иные последствия. Стоит признать, что такой способ самоидентификации страны вписывается в более широкий контекст формирования не столько правового государства, сколько государства судебного, где суд и судебная процедура становятся своего рода фетишем44. Это обстоятельство предопределило специфический юридизм политической мысли во Франции и превратило сутяжничество в характерную черту французской политической культуры на долгие века. В этом, как и во многом другом, французы веками успешно «соревновались» с англичанами: от «Адвоката Патлена», шедевра средневековой драматургии, до «Сутяг» Расина, популярность сюжета о судебных «разборках» свидетельствует в пользу приверженности французов именно такому способу разрешения конфликтов45.
В известном смысле эти идеи о превосходстве французского правосудия, заложенные в период Средневековья и получившие развитие в раннее Новое время, присутствуют в глубинном подсознании французов, подчас даже не осознающих этого. Не случайно, на мой взгляд, эта тема не нашла достойного места в работах французских историков, изучающих становление государства и нации во Франции: здесь явно требуется «эффект вненаходимости». Приведу ряд примеров.
Вот перед нами амбициозное издание XIX в. «Общего собрания древних французских законов», предпринятое в пику прежнему своду «Ордонансов французских королей третьей династии». В подробном предисловии к нему один из составителей Ф.А. Изамбер, адвокат в Королевском совете и в Кассационном суде, уличая предшественников в защите интересов судейской касты и в замалчивании форм соучастия общества в законодательной сфере, тем не менее пишет как о чем-то самоочевидном: «никакая судебная курия не может сравниться с Парижским парламентом по мудрости и авторитету своих приговоров; по крайней мере ни одна не имела такой чести – быть избранной арбитром другими народами»46. Что это, как не парафраз политической мифологии XIV–XV веков? А вот другой, не менее яркий и характерный пример. В Приложении к 3-му тому «Истории Франции», где речь шла о начале «национальной эры» в XIV в., Жюль Мишле назвал Парламент и Генеральные штаты «великими национальными институтами», невольно повторяя идеи Тома Базена и Клода де Сейселя47.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































