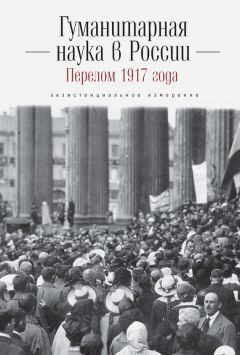
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Не осуждай меня, пойми:
Я не хочу тебя обидеть,
о слишком больно ненавидеть,
я не умею жить с людьми.
(«К пруду»)
Имя человека как реальность, раскрывающая и являющая его, иногда становится больше его самого. Именовать значит творить. Творческая натура Гиппиус позволяет создавать и множить себя в разных именах.
Перверсия субъекта проявляется в конститутивной расщепленности себя на множество имён. Установление идентичности через именование, формирование субъективности через десубъективацию: каждое новое имя стирает старое, субъект обезличивается и примеряет новое имя, а с ним новое лицо. Именование себя – субъективная сингулярность, определяющаяся через универсальную норму, которая – порядок. Личность пытается упорядочить себя. Persona от personare: «сквозь» «голос». Она именует себя и говорит разными голосами. Это попытка определения границ (околопредельность) своего сознания. «Бесстыдство таланта» – умение дойти до табуированной границы и заглянуть за неё, более того, рассказать об этом заглядывании, подглядывании. Поэтому многоименный всегда немного вуайерист – подглядывающий за норму.
Публичная манифестация упорядочена универсальной нормой, которую обозначают в качестве меры, мерки, марки, образца. Это похоже на кафкианский Закон. Кафка писал о Вратах Закона: с самого начала человек включен в Закон. Закон не просто пленил взор человека, став социальным видением, он всегда смотрел на него. Человек до закона – человек без отличительных свойств и особенностей. Раз-личение, от-личение сущности от себя устанавливается в отношениях между абстрактной универсальностью и частным содержанием.
Имя – пространство «между». Дж. Агамбен это пространство «между» соотносит в триединстве Целое-Часть-Остаток. Остаток определяется через избыточный элемент. Имя – остаток между нормой и лицом. Но именно псевдонимы дают возможность переизбыток личности оформить в социальную норму. Псевдоним – умение удержать колоссальное письмо, в котором личность бы захлебнулась, способ удержать личность и имя собственное в пределах социальной нормы, в поле общественности.
Разноголосье автора создает увертюру его творчества. Если Имя Божие в имяславии – реальность, раскрывающая Божественное. Зазеркальное «имяславие» – реальность, раскрывающая личность, иногда более самой себя. Есть высказывание, что книга талантливее автора. Книга и есть Целое, Частью которого является имя автора, а остатком – сам автор.
З.Н. Гиппиус была романтичной особой периода 1889–1903 гг:
О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:
Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает.
(«Песня»)
Была жесткой:
Твой остов прям, твой облик жесток,
Шершавопыльный – сер гранит,
И каждый зыбкий перекресток
Тупым предательством дрожит.
(«Петербург»)
Была откровенной:
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
медленно рвущее, мелко нечестное,
скользкое, стыдное, низкое, тесное.
(Собр. соч. 1903–1909, с.88)
И всё это один и тот же человек, одна и та же личность!
Если Зинаида Николаевна Гиппиус говорила разными голосами и разными интонациями о литературе и символизме как новом направлении в искусстве, умножая собственную сущность, создавая хор и эхо сказанного одновременно, то в экзистенциальной ситуации пограничного страха и отчаяния за судьбу России и за собственную судьбу она говорила только от лица собственного, оставив в истории имя собственное. Имя Зинаиды Гиппиус.
Литература1. Аненков Ю. Евгений Замятин // Замятин Е. Уездное. Мы; Платонов А. Ювенильное море. Котлован. М: Азбука, 1996. 476 с.
2. Брюсов В.Я. Русская литература ХХ века. 1890–1910/Под ред. С.А. Венгерова. М.: Мир, 1914.Т.1.С.178–188.
3. Берберова Н.Н. Предисловие. Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914–1919/ Предисловие Н.Н. Берберовой. Нью-Йорк: Орфей, 1982. Печатается по 2-ому изданию этой книги (Нью-Йорк: Телекс, 1990. С. 11–18).
4. Вишняк М. З.Н. Гиппиус в письмах // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 669–697 сс.
5. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники З.Н. Гиппиус. Тбилиси: Мерани, 1991.
6. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники. Нью-Йорк: Орфей, 1982.
7. Гиппиус З.Н. Живые лица. Ленинград: Искусство, Ленинградское отделение, 1991.
8. Гиппиус З.Н. Собрание стихов. 1889–1903. Тбилиси: Мерани, 1991.
9. Гиппиус З.Н. Пьесы. Ленинград: Искусство, Ленинградское отделение,1991.
10. Иванов В.И. О «Цыганах» Пушкина // http://ivanov.lit-info.ru/ivanov/kritikaivanova/o-cyganah-pushkina.htm
11. Замятин Е.И. Мы. М.: АСТ, 2008, 480 с.
12. Каменев Ю. О робком пламени гг. Антонов Крайних // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 246–268 сс.
13. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Оникс-Лит, 2012. 1376 с.
14. Полный церковнославянский словарь под ред. священника магистра Г.Дьяченко // http://www.slavdict.narod.ru/
15. Слоним М. Литературные отклики. Бунин-критик. – Антон Крайний и Зинаида Гиппиус… О «Верстах» // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 612–627 сс.
16. Степун Ф. Бывшее и несбывшееся // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 718–721 сс.
17. Троцкий Л. Дадим имена заводам // Рабочая Москва, 1922, № 14.
18. Тыркова-Вильямс А. О Мережковских // З.Н. Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 659–664 сс.
19. Тэффи Н. Зинаида Гиппиус // З.Н.Гиппиус: pro et contra. СПб: издательство РХГА, 2008. 707–718 сс.
20. Флоренский П.А. Имеславие, как философская предпосылка. М.: Республика, 1994.
21. Флоренский П.А. Иконостас. Имена. М.: АСТ, 2009. – 318 с.
22. Хоружий С.С. Современные проблемы православного миросозерцания.// Исследования по исихастской традиции. В 2-х т. Т.1. СПб: РХГА, 2013. 237 с.
Алексей Лосев в 1917 году: Русский платоник встречает пролетарскую революцию
Михаил Немцев
В начале 1934 года в жизни философа Алексея Лосева произошёл крайне неприятный и теперь довольно известный эпизод. Совсем недавно, в конце декабря 1933 года, он закончил роман «Женщина-мыслитель» и предложил его прочитать пианистке Марии Юдиной. Роман произвёл на Юдину совершенно не то впечатление, какого ожидал его автор, он её шокировал. В героине романа она увидела злой шарж на себя. Разгневанная Юдина пришла домой к Лосеву, но не застала его. После этого Лосев написал ей два письма, в которых прямо-таки принуждал Юдину понимать его роман особым образом, а не так, как поняла его она. После этого все отношения между ними были прерваны.
Эти два сохранившихся письма 1934 года – один из источников, на основе которых можно выдвинуть предположение о том, как совсем молодой философ Лосев мог воспринимать события 1917 года. Взвинченные, страстные, сбивчивые тексты раскрывают некоторые важные аспекты его мировосприятия. Мы к ним ещё вернёмся.
Источников о том, как Алексей Лосев пережил и воспринял 1917 год с его двумя революциями, распадом Российского государства и другими потрясениями, немного. Сохранился ряд важных личных документов Лосева, в том числе юношеская переписка, и они позволяют делать выводы о его ранних воззрениях, политических и философских (они опубликованы в двухтомнике «Я сослан в XX век…» [6], [7]). Однако непосредственных источников о его актуальном восприятии именно русской революции очень мало. В качестве таковых можно использовать несколько статей и заметок, написанных Лосевым в 1917 году – они собраны и детально исследованы А. Тахо-Годи в специальной работе [11], а также ряд высказываний в поздних воспоминаниях, записанных различными собеседниками Лосева. Исследование и публикация А. Тахо-Годи позволяет реконструировать примерный круг чтения и интересы А. Ф. Лосева в революционный период, но она очень осторожна в каких-либо выводах о его переживаниях и размышлениях того времени. Эти материалы позволяют, однако, выявить основные темы, направления его творческого самоопределения в тот период острого и всеобщего кризиса.
Революционный год был Событием. Сейчас, ретроспективно, кажется невозможным для столичного интеллектуала остаться совершенно в стороне от происходящего, поскольку оно касается смысла и целей совместной жизни всех (здесь можно вспомнить реакцию пастернаковского Юрия Живаго на расклеенные на улицах замерзающей Москвы листовки с первыми декретами нового большевистского правительства). И в то же время, можно предположить, что для человека, занятого своими академическими исследованиями и перспективами академической карьеры, это вроде бы всеобщее потрясение может оставаться событием периферийным, во всяком случае, пока возможно избежать присоединения к той или иной стороне. Возможно, выяснив, как Лосев воспринял это Событие и почему он его принял (о чём мы опять-таки знаем, «глядя из будущего»), можно лучше представить себе восприятие революции людьми его поколения и его круга интересов. Многие из них приняли Революцию вовсе не потому что испытывали хотя бы малейшую симпатию к большевикам. Им была уготована жизнь и судьба «бывших», но в 1917–1918 годах знать это ещё было нельзя. В какой мере события этого года затронули Алексея Лосева?
В его личной жизни 1917 год был временем жизненного перехода – от ученичества к полноправной академической жизни, от юношеского «вольного» состояния к более зрелому состоянию. Он занят профессиональным и жизненным самоопределением и сосредоточен на нём, поэтому этот год не оставил заметного «событийного» следа в его памяти, и вероятно поэтому в исследовательской биографической литературе о Лосеве 1917 год упоминается тоже скудно. Лосев живёт в Москве, выступает с докладами в профессиональных обществах и готовит к публикации первые академические статьи (в 1916 году состоялась его первая публикация «Эрос у Платона»), готовится к академическим экзаменам в магистратуре Московского университета и выдерживает их. Впереди подготовка к профессорскому званию. Он углубленно занимается проблемами развития среднего образования.
В мае Лосев знакомится с дочерью хозяина квартиры, где он снял комнату, и это знакомство с будущей женой становится, вероятно, важнейшим личностно-значимым событием в его жизни в 1917 году. Этот переходный период продолжается до февраля 1919 года, когда Лосев получит должность профессора в Нижнем Новгороде, а в течение этих двух лет он занимается педагогической и издательской деятельностью: преподает в женских гимназиях, становится Председателем педагогического совета женской гимназии Е. Печинской, предпринимает (неудачное) издание книжной серии «Духовная Русь» [11, гл. I]. В этот же период Лосев интенсивно занимается религиозным самообразованием. В целом, можно сказать, что в этот переходный период Лосев был ещё вполне свободен в выборе карьерного пути и институциональной аффилиации. Из опубликованных Еленой Тахо-Годи документов (в сборнике, о котором подробно речь пойдёт ниже) явствует, что он был вовлечён в кризисные процессы, осмыслял их, вовсе не замыкаясь в «нише» проблем классической филологии. Но как именно происходило его самоопределение? Об этом можно делать только косвенные выводы, основываясь на тематике, дискурсивных особенностях написанных в это время текстов, и неизбежно – на общих предположениях о том, какие (типичные) проблемы должен решать молодой человек в подобной ситуации личного перехода и общегосударственного кризиса. Эти работы требуют сопоставления с более поздними, знаменитыми философскими работами конца 1920-х, когда Лосев фактически был одним из наиболее глубоких «красных платоников» (см. тексты Е. Абдуллаева и А. Каменских в настоящем издании, также [2]). Истоки принятия Лосевым революционного движения естественно пытаться отыскать в непосредственном опыте переживания революционных событий. Существуют естественные ограничения в возможности исследования философского самоопределения, поскольку его исследователь обычно имеет дело с документами, выражающими это самоопределение в сравнительно позднем, отрефлектированном и сопоставленном с самоопределениями других ровесников виде. Некоторым исключением могут быть дневники – если они не подвергаются значительному редактированию автором или третьими лицами (редакторами, наследниками) перед публикацией; к сожалению, молодой Лосев таких дневников не оставил. Выводы предстоит делать на основе опубликованных им в 1917 – 1918 гг. работ, отслеживая в них следы его философского самоопределения, связанного с самоопределением жизненным (с поиском того, что можно было бы назвать «миссией»).
Одну из линий философского и профессионального самоопределения молодого Лосева можно условно назвать «веховской» или, точнее, «неославянофильской». В 1917 – 1918 годах Лосев пишет статью «Русская философия» для швейцарского сборника «Russland». Этот сборник вышел в Цюрихе в 1919 году и не привлёк к себе особого внимания европейцев. Сам Лосев случайно узнал о факте публикации этого текста только в 1980-х [11, с. 144–145]; он вскоре был переведён на русский язык. В книге Е. Тахо-Годи приводится новый перевод, сделанный Владимиром Янценом, и текстологический анализ имеющегося немецкого текста (который, как показывает Янцен, был именно переводом с русского языка. Оригинальный русский текст самого Лосева до сих пор не известен) [14].
История появления этой статьи в изданном в Швейцарии во время Мировой войны сборнике не ясна. Легко заметить, что она представляет собой реферат работ В. Ф. Эрна, и сам выбор этого автора молодым Лосевым весьма показателен. Можно предположить, что выбор этот обусловлен не только и не столько методической четкостью статей Эрна по русской истории, позволяющей легко их реферировать, но и близостью Лосева к Эрну по политическому темпераменту, по ощущению общественного призвания философа.
Владимир Эри занял в истории философии в России весьма своеобразное место [1]. Он активно разрабатывал правую консервативную религиозную идеологию и свои историко-философские исследования использовал как источник аргументов для крайних антизападных (антинемецких) и антисекулярных рассуждений. Его статьи и лекции начального периода Первой мировой войны были в сборниках с «говорящими» названиями «Меч и крест» (1915; наиболее известным и в своём роде классическим стал текст опубликованной здесь лекции «От Канта к Круппу») и «Время славянофильствует» (1915) [13].
Однако Эри не ограничивался полемическим «антигерманизмом в философии», его целью было переучреждение современной философии в России на основе православной традиции и академической философии двух прошлых веков. Эта метафилософская концепция Эрна, а тем более его обращение к философии Платона в поисках новой философской методологии [8], гораздо менее известны сейчас, но являются частью единого философского проекта. По-видимому, он был одним из первых, кто последовательно развивал концепцию единой и при том принципиально отличной от «западной» философской традиции в России, и ещё до Мировой войны проблема существования такой традиции была постоянным предметом его дискуссии с молодыми философами, объединившимися вокруг российской редакции журнала «Логос». Политическая «антизападная» программа и философская программа пересоздания современной русской философии были органически связаны в его творчестве.
Лосев не разделял политический радикализм Эрна. Также он не испытывал и особенного интереса к славянофильству (или неославянофильству), хотя и упоминал о некоторых симпатиях к этому движению в юности – но не более чем временных симпатиях[11]11
В январе 1973 года: «Раньше, когда я был молодой, я распространялся о русской душе, славянофильские идеи у меня были… А потом с течением времени я во всем этом разочаровался… Нации уже нет. Теперь международная судьба» [7, с. 551].
[Закрыть]. И Эрн, и Лосев испытывали глубокий интерес к имяславию, хотя на философию Эрна имяславие не оказало какого-либо заметного влияния, в отличие от фактически сформированного им Лосева. В 1917 году Эрн умер, и нет оснований говорить о каком-либо его непосредственном воздействии на формирующегося филолога-классика Лосева, который стремился участвовать во всех значимых интеллектуальных событиях и дискуссиях. Однако Лосев перенимает у Эрна пафос утверждения самостоятельной интеллектуальной традиции религиозной (православной) философии в России. Это не простое подражание. Он пишет, приводя длинную цитату из книги Н. Бердяева об А. С. Хомякове: «русская философская мысль нашего времени осознала свою собственную сущность… она, как правило, не ставит себе никаких иных задач, кроме тех, которые всегда были в неискаженной русской философии» [11, 238].
Признаки русской философии, по Лосеву, следующие [11, 240]:
1) «Она является чисто внутренним, интуитивным и чисто мистическим познанием сущего, его скрытых глубин, которые могут постигаться не логическим схватыванием и определением, но только в символе»; отсюда фактическое отождествление «русской философии» и философского символизма, античные истоки которого Лосев будет так подробно исследовать в последующие годы.
2) «Русская философия неразрывно связана с реальной жизнью, часто представая поэтому в виде публицистики» – отсюда, по-видимому, и допустимость публицистического пафоса собственных философских работ для самого Лосева (знаменитые «добавленные» фрагменты «Диалектики мифа» [3] – это, очевидно, именно страстная злободневная публицистика).
3) С этим связано то, что «изящная литература является колыбелью самобытной русской философии». Позже Лосев блестяще продолжит эту «традицию» объединения литературы и философии, о важности которого было заявлено уже здесь, в статье 1917 года.
В качестве признаков западной философии указаны и рассмотрены рационализм, меонизм и имперсонализм, а русская противоположность им – логизм, реализм и тонизм [11, 243–244]. Это опять же полное воспроизводство подхода В.Ф. Эрна. Наконец, Лосев пишет: «Русская самобытная философия представляет собой непрерывную борьбу между западноевропейским абстрактным Ratio и восточно-христианским, конкретным, богочеловеческим Логосом и продолжающееся, постоянно возрастающее постижение иррациональных и тайных глубин космоса конкретным и живым разумом» 11, 245].
На мой взгляд, такое полное следование историко-философскому схематизму Эрна – это не проявление интеллектуальной зависимости Лосева от него (как некоей ученической ещё несамостоятельности), но скорее выражение некоего общего настроения, «духа эпохи». Это сознательное обращение к национальной традиции для её победительного утверждения в неизбежном противостоянии европейской культурной гегемонии. Фактически такое обращение становится конструированием; «единую» традицию предстояло ещё создать, для этого Эрн пишет её историю.
Для Лосева православие значило, конечно, нечто большее, чем для самого Эрна. Он не только глубоко интересовался литургикой, самой практикой православной жизни, посещал монастыри (о чём с восторгом много позже воспоминал), но и в своей философии стремился последовательно опираться на опыт православной, святоотеческой мысли, синтезируя её с античным платонизмом и европейской философией Нового времени. Этот синтез приводит позже к довольно странным для современного читателя сопоставлениям процессов в античной философии и в современной материалистической философии [2].
«Постславянофильское» самоопределение Лосева времени русской революции помещает его в большее культурное течение, на которое в рамках настоящего текста можно только указать: это настроение, или течение (не оформившееся в сколько-нибудь заметное и влиятельное культурное или политическое движение) сторонников преобразования российской культуры в сторону её большей «национализации» и «право-слав из ации» с усилением недемократической консервативной центральной власти. Это, так сказать, «философская правая». Яркими представителями этого течения были, с одной стороны, о. Павел Флоренский (который через много лет блестяще выразит его в трактате «Предполагаемое государственное устройство в будущем» [12]), а с другой – авторы первых евразийских сборников. Это было течение несостоявшейся консервативной революции, для которой желательным общественным устройством была бы христианская идеократия[12]12
Понятие «идеократия» ещё в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (1894) было охарактеризовано как «искусственный и малоупотребительный термин» [10], но благодаря евразийцам получило уже надёжную «прописку» в русскоязычной социальной философии. Оно кажется подходящим для обозначения идеального общественного строя, чаемого и лидерами большевиков.
и теми, кто, не разделяя их социальных представлений, постепенно всё-таки присоединялся к ним. Это органическое государство, власть в котором принадлежит недемократическим носителям высшего интеллектуального и духовного потенциала, которые ведут особый аскетический образ жизни и требуют полного подчинения повседневной жизни населения реализации духовных задач государства, взятого как целое.
[Закрыть]. С. Земляной, анализируя фрагменты «Диалектики мифа», называет выраженную в них социальную утопию Лосева конца 1920-х «клерикально-консервативная мифологическая дистопия» [3].
Для Лосева утверждение самого себя в качестве полномочного представителя этой (конструируемой) традиции «русской философии» в его переходном положении начинающего учёного означало и принятие некой общественной миссии, и возможность социализации в московском интеллектуальном сообществе посредством этого. С весны 1918 года Лосев участвует в подготовке книжной серии «Духовная Русь» со «старшими товарищами» – Вяч. Ивановым и С. Н. Булгаковым. Это должна была быть серия небольших работ о философии и, шире, духовной культуре в России, рассматриваемых в «национальном» ключе. В качестве редактора серии весной 1918 года Лосев пишет письма о. Павлу Флоренскому и другим, принимая на себя ответственность за развитие программы по «изобретению» русской философии [11, 291–298]. Этот издательский план не удался в силу не зависящих от редактора серии причин. Благодаря этому проекту Лосев получил возможность позиционировать себя как полноправного участника философского процесса. Впервые Лосев оказывается в деловом взаимодействии с авторитетными представителями старшего поколения, включаясь таким образом в профессиональную социальную сеть. Если бы проект удался, Лосев публично выступил бы в роли представителя этой «неославянофильской» линии. В тот период он формирует эстетическую установку философа-бойца, столь хорошо заметную в более поздних произведениях. В этом он так же напоминает В. Ф. Эрна.
«Неославянофильская» линия в самоопределении Лосева характеризует его общественно-политический темперамент, формирующуюся готовность брать и нести миссию выразителя национальной традиции. Но здесь можно вернуться к вопросу о том, как он при этом воспринимал сами революционные события? По-видимому, это восприятие было предопределено второй перспективой его самоопределения. Её можно назвать идеалистической или символической.
В 1918 году Лосев сотрудничает с анархистской газетой «Жизнь». Она была учреждена известным анархистом А. Боровым, выходила всего несколько месяцев и была закрыта большевиками. Лосев опубликовал в ней три статьи; они были впервые обнаружены и переопубликованы Е. Тахо-Годи. Наибольший интерес из этих статей представляет собой небольшой очерк «К столетию великой книги…» (Жизнь. 1918. № 48.22(9) июня), где речь идёт о «Мире как воле и представлении» А. Шопенгауэра.
Сам по себе выбор этой книги как темы статьи не удивителен, учитывая популярность Шопенгауэра, и удивляет скорее само его появление в анархистском издании. Я хочу обратить внимание на слова Лосева в этой статье, не совсем привычные в тексте рационалиста, вроде бы чуждого декадентскому поклонению стихиям и т. п.: «Мы все поклонники и служители Диониса, этой тайной радости анархизма и совлечения с себя границ индивидуальности… Мы теперь уже не верим в логику, в систему, в законченность, в «мир, как представление». Мы научились ценить силы, клокочущие в глубине души и космоса. Мы научились чувствовать их родство» [11, с. 187]. Кто подразумевается под этим риторическим «мы»? По-видимому, речь идёт о всех современниках, свидетелях революционного подъема «сил, клокочущих в глубине души и космоса». Лосев признаёт хаос и права хаоса. Можно предположить, что это – не только риторическое упражнение.
В 1981 году Лосев вспоминал свои переживания во время революции 1905 года, когда он ещё учился в Новочеркасской гимназии: «Однажды, собравшись в гимназическом саду, гимназисты торжественно сожгли учебник латинской грамматики Никифорова. В этом сожжении я не участвовал, но стоял рядом со многими другими и радовался неизвестно чему… всё это… не просто волновало, а наполняло голову и грудь каким-то бешеным восторгом. А почему, неизвестно. Таких волнений, которые я безрассудно переживал в 12 лет, я потом в жизни уже никогда не имел. И когда пришла настоящая революция, то даже и те ее многочисленные свойства, которые я считал положительными, я уже не мог переживать столь безрассудно и мальчишески, а воспринимал это обдуманно и критически. Но своих безрассудных волнений в 12 лет забыть не могу» [7, 524]. Важно здесь то, что первичным опытом революции Лосева стало чувство интенсивного восторга и экстатического освобождения. «Настоящую революцию» он воспринимает уже на основе того первичного опыта.
Можно ли считать, что православный платоник Лосев воспринимал революцию символически? С одной стороны, ретроспективно нам известно, что он принял её и установившуюся власть большевиков как фактическую и философскую необходимость, как приняли её и другие представители «философской правой». С другой стороны, тема хаоса и экстатики появляется и в этом фрагменте из воспоминаний, и затем постоянно возвращается в корпусе литературно-философских произведений, созданных Лосевым после возвращения с Беломорканала – так сказать, после встречи с советской властью во всей её неприглядной мощи. Одно из этих произведений – это роман «Женщина-мыслитель», о котором шла речь в начале. Вернёмся к нему и к отчаянным письмам Лосева к Юдиной.
Этот роман, как и тематически близкая к нему короткая повесть «Мне было 19 лет…», представляют собой эротические фантасмагории. Их персонаж, рассказывающий от первого лица историю своих приключений, встречает женщину с невероятным музыкальным талантом, чувствует к ней сильное половое влечение и вступает в сложные отношения с ней и её окружением. Постепенно он погружается в сноподобную реальность, где любые межличностные отношения постепенно превращаются в эротический гротеск (ещё в лагерной переписке с женой Лосев писал об образах гофманианы, настоятельно требовавших от него художественного воплощения). Эти произведения действительно кажутся описанием каких-то сложных фантазий, и неудивительно, что Мария Юдина, «опознав» себя в качестве прототипа главной героини «Женщины-мыслителя», была в гневе (об истории образной системы романа см. [4]). Страстно пытаясь оправдаться, Лосев пишет ей два письма, и в них буквально навязывает инструкцию – как именно следует читать его произведения. Он горестно возражает против оценки его нравственных качеств посредством этого произведения, ибо автора нельзя ведь отождествлять с лирическим персонажем. Лосев сокрушается о том, что его длительный духовный труд, вложенный в этот текст, совершенно не был воспринят Юдиной. Он сокрушается, что духовное родство между ними и перспектива близкой духовной связи разрушены её резкой уничтожающей реакцией. Основной лейтмотив этих писем – обида на неспособность адресатки, ослеплённой обидой, правильно прочитать текст романа как философское произведение: «женский инстинкт элементарной самообороны подсказал Вам очень простой выход: похерить всю философию… выхватить сцены, где изображен порок и духовное мещанство, приписать все это мне самому и – отчитать, выругать…» [7, 149]. Лосев указывает на пропущенные ею ключевые для понимания философии романа места и настаивает на правильном чтении его романа. Его читательница должна увидеть: главный персонаж романа погружается в иррациональный оргиазм в надежде спасти «погрязшую» в нём женщину – фактически, эта женщина, несомненный «объект желания», оказывается проводником сквозь иные, «хаотические» реальности, так что мужчине-рассказчику приходится прилагать усилия, чтобы сохранить рациональное восприятие реальности. Текст романа оказывается символическим произведением, устроенным по схеме символа: «верхнее», литературное значение, собственно художественная часть романа открывает его настоящее философское содержание. Эротическая фантасмагория Лосева при правильном прочтении приоткрыеает достаточно внимательному, искушенному читателю или читательнице некий рациональный порядок. Это обычная герменевтическая схема «двойного значения», которая уже в послевоенное время станет предметом специального анализа в философской герменевтике [9]. Лосев настойчиво требует внимания к этому скрытому значению, но достичь его можно только отвлекаясь от себя самой, даже сопротивляясь собственному стремлению увидеть в литературном тексте нечто относящееся к себе самой. Духовной и экзистенциальной неспособностью Юдиной к такому чтению в отвлечении от себя самой Лосев и объяснил её реакцию. Он противопоставляет свой аскетизм её жизне– и страсте-любию (впрочем, позволяя себе в их описании весьма оскорбительную и явно неаскетическую образность на грани эротомании): «не нуждаемся мы [с В.М. Лосевой – М.Н.] ни в чьей помощи и хотим умереть за свое дело вот так, в одиночестве, в нищете, в покинутости всеми, когда Вы там в блудном одеянии зажариваете перед сотнями зевак какого-нибудь мистического онаниста Прокофьева или Шапорина» [7, 152]. Понимание символа требует самоотдачи.
Если предположить, что Русскую революцию Лосев также воспринимал символически, то какую истину он мог увидеть «там», за хаотической мешаниной политических и социальных перемен? По-видимому, это не что иное, как рождение органического государства – идеократического общества «естественной справедливости».
В декабре 1918 года Лосев записывает в дневнике небольшое рассуждение, удачно названное Е. Тахо-Годи при публикации «тезисами о справедливости и социалистах». В них он обсуждает соотношение справедливости и равенства (одна из важных тем теории социализма), приходит к выводу о неизбежно уравнительном характере справедливости и далее пишет: «Ибо социализм только и возможен при монархизме… Все дело, господа, в одном: кто у кого на шее сидит. А уж сидение на шее – это извините, это – религия и онтология. Социалисты – правы!» [11, с. 139]. Дневник был изъят при аресте в 1930 году, и приведённое рассуждение было подчёркнуто следователем. В нём прочитывается элемент характерной лосевской пародийности. Однако эта тема философского оправдания монархизма (или авторитаризма) отнюдь не пародийна. Е. Тахо-Тоди указывает, что эта запись явно перекликается с публицистическими пассажами из «Диалектики мифа». Она также связана с написанными в тот же по еле лагерный период, что и «Женщина-мыслигель», повестями «Встреча» и «Из разговоров на Беломорстрое», где эта же мысль получает довольно изощрённое обоснование. Их персонажи, арестанты, вынужденные к аскетизму самими условиями своего существования, приходят к диалектической необходимости сильной уравнительной государственной власти в Советской России и смирению самих себя в подчинении ей. Так, Вершинин, персонаж повести «Встреча» (по мнению Е. Тахо-Годи, alter-ego Лосева), заявляет: «Да, я очень рад… пришла-таки моя настоящая власть… Цари слишком либеральничали и поэтому я совсем не хочу их возвращения. Царскую политику и русский национализм проводили наемные немецкие министры. А вот сейчас это действительно Русь. Тут, сударыня, Русью пахнет» [6, 386]. Эта новая «настоящая власть» оказывается более «русской», т. е. более соответствующей народной традиции, чем предшествовавшая царская. (Под уничижительным суждением о «немецких министрах» подписался бы В. Ф. Эри, между тем для самого Лосева такой национализм не характерен; не является ли это суждение Вершинина авторским намёком на Эрна?)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































