Текст книги "Артикль. №4 (36)"
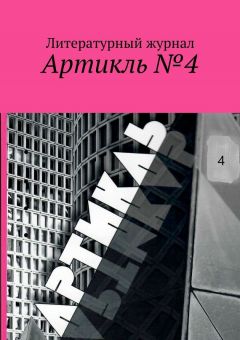
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Эли Люксембург
Рядовой ИхвасСказал я ему: – Поговорим, мори, о чудесах В-евышнего, творимых незримо с душою каждого человека. О странных взлетах и вспышках, когда из последних глубин отчаяния ты вдруг возносишься к вершинам блаженства, неописуемого счастья. И все меняется – и слух, и зрение, и эмоции, и ты становишься как бы космическим существом. Сказал он мне:
– Есть разные виды чудес на свете. Есть чудеса природы, когда Б-г вдруг меняет привычный порядок вещей, и в мире все нарушается. Это не поддается ни объяснению, ни осмыслению. Есть чудеса, творимые Б-гом с отдельно взятым человеком, на уровне эмоциональном – душа твоя либо трепещет, либо ликует. А есть еще «античудо», когда В-евышний скрывает Свое лицо, и все погружается во мрак и ужас. Такое мы тоже знаем. Я видел, как разрушали римляне Храм, как угоняли народ, как опустела земля… А Катастрофа шести миллионов – не «античудо» ли это?
Сказал я ему:
– Поговорим, мори, о чудесах попроще, на уровне личном, о потрясениях души и рассудка, как было, скажем, со мной во время Войны Шестидневной. Давным-давно, во Львове еще… Я шел по улице, был пасмурный, дождливый день. И вдруг зареяли надо мной ангелы и принесли мне весть. Что наши взяли Синай, вышли к Иордану и Мертвому морю, освободили Хеврон и Иерусалим. И я вдруг увидел, что небо над городом стало внезапно иным, мир кругом изменился, пронизанный вдруг каким-то иным, нездешним сиянием. Так было еще и в Израиле, несколько лет спустя, у рынка «Махане Иехуда». Я ехал в автобусе, и вдруг сообщили по радио, что пленников наших в Энтебе освободили, летят они в самолете на родину. И то же самое повторилось…
Я расскажу вам, мори, одну небольшую, но удивительно похожую на мои историю. Она произошла с одним близким мне человеком по имени Ихиель Вайсман, или, иначе Ихвас, как все мы его называли – соседи, друзья и знакомые. Его уже нет в живых, он похоронен на Масличной горе, куда уходят праведники и пророки. Это был высокий старик, угрюмый и мрачный, жил он всегда один. Ходили слухи о нем, что он не совсем в себе, что это последствия какого-то шока, пережитого им в Германии, в бытность его солдатом английской армии. Я почитал его за рава, наставника, поскольку располагал Ихвас самыми обширными знаниями, особенно в Торе, иудаизме. Талмуд он знал, кажется, наизусть. Мне приходилось присутствовать при его дискуссиях с известными мудрецами, и те порой уступали ему, во всем соглашаясь с его доводами и заключениями.
На землю Израиля – тогда еще Палестину – Ихвас сошел с парохода в самый разгар Войны за Независимость: совсем еще молодой, в парадной форме пехотинца Ее Величества Королевской армии, а потому – проблем никаких с сертификатом у него не было.
Пламенный сионист, человек верующий – «бааль-тшува», он с ходу же записался в Пальмах, с головой окунувшись в боевые действия: воевать он умел, войне был отлично обучен – богатый опыт был за плечами. Однако карьеры военной Ихвас не сделал, не захотел. Он говорил, что не за этим приехал сюда. Хотя и выдвигали его в командиры, в большие начальники. Он от всего отказался. Говорил, что Б-га приехал искать, здесь больше шансов с Ним встретиться.
А появилось у Ихваса это желание вот как: душа у него пробудилась еще в Германии, в самом конце войны – за пару недель до ее окончания, когда дивизия их пехотная внезапно прорвалась в местечко Шварцвальде.
В лесистой местности, среди скал и болот, здесь на всю мощность действовал концлагерь – фабрика смерти. Они успели захватить весь персонал: эсэсовцев-надзирателей, палачей при газовых камерах и крематории.
В живых застали несколько сот заключенных.
По сей день, говорил мне Ихвас, душа во мне содрогается: я видел горы трупов, разбросанные по всей территории, видел ходячие скелеты, закутанные в тряпье – детей, стариков, женщин. Сутками напролет бульдозеры копали огромные рвы, людские останки свозились туда на тачках. Тяжелый, смердящий запах был невыносим: водители бульдозеров работали в противогазах. За тачками приставили немцев, они от усталости падали в обморок – эти сукины дети, отродья дьявола. Мы тоже работали не покладая рук, тоже уставали зверски. Не столько физически, как морально – до полного нервного истощения. Что тебе говорить, восклицал Ихвас, припоминая те дни, смотрю я иногда военную кинохронику и не могу отделаться от мысли, что самое ужасное всегда остается за кадром, его нельзя передать. Зрачки наших глаз – вот бы людям куда заглянуть! В зрачках наших глаз запечатлелась правдивая кинохроника.
И вот однажды, когда они крепко спали в бывшей казарме эсэсовцев, смертельно уставшие за день, раздался вдруг страшный окрик:
«Есть здесь евреи? Быстро на выход – только одни евреи!»
Разом вскинулись все головы в казарме. Щурясь на яркий электрический свет, Ихвас увидел Джексона, их офицера, надменного верзилу, ирландца Стива Джексона, то ли известного в прошлом боксера, то ли знаменитого игрока в бейсбол. Расставив широко ноги, он постукивал, как обычно, стеком себе в ладонь.
«Оружие с собой не брать! Одеться и идти за мной…»
От виденных днем кошмаров, от этого выкрика неожиданного, в голове у Ихваса началась сумятица мыслей. Наспех облачаясь в одежду, он лихорадочно соображал: что вдруг случилось? Никто и никогда в английской армии не интересовался его национальностью, при чем тут его еврейство? Куда их на ночь глядя зовут?
Родился Ихвас в Манчестере. Его родители были из Кишинева, пережили тот самый погром знаменитый, бежали в Англию. И вот вам: в Германии, в бывшем концлагере смерти, ему вдруг припомнили кто он… Здесь, на топкой, гнилой земле, где свалены в необъятные рвы его соплеменники – уж не его ли очередь пришла?
Оделись четверо: Ихвас и еще трое парней. Молча потащились к выходу. Разом сделавшись жалкими, обреченными – на глазах у всей казармы; какие-то прибитые в безысходном отчаянии. Притворившись наивным, Ихвас обратился к верзиле Джексону:
«Куда же, сэр, вы евреев своих ведете? Кому мы среди ночи понадобились?»
И раскурив трубку, тот процедил сквозь зубы:
«А это вы скоро узнаете».
Шел мокрый снег, вперемешку с дождем, хлестал пронзительный, ледяной ветер. Кругом были слякоть и лужи. Размашистым шагом Джексон шел напрямик, четверо еврейских парней с трудом за ним поспевали. И строя самые дикие предположения, вполголоса за его спиной перешептывались. Пытались Джексона разговорить, но тот оборачивался, скалясь в гнусной ухмылке.
С двух шагов нельзя было ничего услышать: поблизости ревел бульдозер, освещенный прожекторами, выл и свистел ветер, скрипели за колючей проволокой могучие ели в лесу. Они подходили к другим казармам, паршивец Джексон оттуда тоже вызывал евреев, и собралось их вскоре человек пятнадцать. Солдат, о которых Ихвас и подумать не мог, что они тоже евреи. Словом, подчистили всех, и Ихвасу сделалось дурно.
Лихорадочно соображая, Ихвас пришел к окончательному убеждению: да, война явно близится к концу, во всех окрестных лесах кишат недобитые отряды фашистов, готовые сражаться насмерть. Они прекрасно понимают, что за свои преступления жестоко поплатятся, терять им нечего. А потому – способны на любое безумство и дерзость. Собрали наверно силы свои в кулак, и предприняли контрнаступление. Осадили лагерь и предъявили свой ультиматум: выдайте нам евреев! Только евреев, а вас не тронем… Такое случалось уже в еврейской истории, Ихвас много об этом читал. В истории Польши, в истории Украины: враги пускались на хитрость – выдайте нам жидов и мы вас не тронем, и города брать не будем. И раскрывали врагам ворота – наивные гоим, и те вырезали всех подряд, в том числе и евреев. Похоже, что так и будет сейчас… Эти умники англичане, эти хваленые демократы, ублюдки! Когда мы деремся вместе плечом к плечу, никто нас не спрашивает, какой мы национальности, но если стоит вопрос о жизни и смерти – можно евреев выдать и на расправу.
Так плелись они за Джексоном во тьме, по грязи, по лужам, приготовившись к самому худшему, покуда не спустились вниз, к воротам лагеря, где была столовая – офицерский клуб, и изо всех окон светился яркий, электрический свет.
И тут, мори, их взору явилось чудо. Будто из детства, из сказки.
Они вошли и увидели стол, длиннющий пасхальный стол, покрытый белоснежной скатертью, уставленный всевозможными яствами, квадратными столбиками мацы. Горели свечи на этом столе, таком праздничном в ожидании евреев, стояли бутылки с вином и виски. И где, Г-споди: в концлагере смерти на окаянной германской земле, у самого края войны? На дне преисподней, где не остыли еще адские печи и из-под колосников еще не выгребли пепел сожженных детей Израиля? Да и сами они по дороге сюда уже приготовились к смерти, к коварному предательству… Вообразите себе, мори, их счастье и потрясение?
К ним бросился человек в белой ермолке и белом же, шелковом халате. Вышел из-за стола с распростертыми объятиями. Он был с бородой и в пейсах – армейский раввин в чине полковника, и Ихвас вспомнил его. Несколько дней назад в лагерь приехала делегация из Англии, – члены парламента, военные следователи, судьи и прокуроры из Генерального штаба. Ихвас видел, как Джексон водил их повсюду, тыча стеком своим, как указкой, и давал показания. А этот бородач подолгу стоял над рвами, вздевая к небесам руки и читал молитвы.
«Проходите, солдаты, рассаживайтесь! Я приглашаю вас на Пасхальный Седер, сегодня ночью выходим мы из Египта, из рабства…»
Ихвас узнал его, вспомнил, и тут же все у него связалось. Забилось бешено сердце, готовое лопнуть, выскочить из груди, и навернулись и хлынули слезы. Но прежде, чем сели за стол, под шутки и взрывы веселого смеха, налили стаканчик виски поганцу Джексону. Он тяпнул его, крякнул и подмигнул: «В такое рабство и я бы хотел угодить! Смотрите, не перепейтесь, как гуси, утром чтоб были в казармах…» Похоже, он крепко евреям завидовал.
Потом они пили вино и ели мацу, слушая про казни египетские и чудеса В-евышнего при переходе через море. Снова пили, и снова ели, и этот Седер запомнился Ихвасу на всю жизнь. Ведь всю полноту еврейских страданий и чудесного избавления он только что на себе испытал. Душа его распахнулась и трепетала, разверзлась до необычных глубин, а свет, проникший туда, позвал его к Б-гу.
Григорий Подольский
ВторогодникСтарые школьные фотографии. Еще те, черно-белые групповые снимки. По размеру – больше альбома, края далеко за кромкой обложки. Фотобумага, покрытая трещинами, кое-где с желтыми пятнами, с обломанными уголками. Но… старые-то они старые, а кажется, что сфотканы будто вчера.
Наверное, только у наших школьных учителей эти фото и занимают почетное место на стенах, в аккуратных рамочках под стеклом. А мы, бывшие ученики, неизменно засовываем их куда подальше и натыкаемся случайно.
Для учителей это – вся ИХ жизнь, ИХ выпуски, ИХ достижения. 1975, 1976, 1980…
Думаю, что с годами все же и учителя забывают имена многих своих учеников. В памяти сохраняются лица. Те, детские лица с групповых фотографий.
Ох, давненько не открывал я свой школьный альбом. А тут случайно попался на глаза, вытащил выпускное фото нашего 7-го «Б». Хех! Я-то уж точно всех помню, и не то что по именам, по фамилиям!
Опаньки! Оказывается, не всех!
Вот этот… Как же его звали-то? Долговязый, на полголовы выше каждого из нас мальчишка – татарин, стоящий рядом со мной в последнем ряду. Скуластый, неулыбчивый, взгляд чуть исподлобья. Один на фото без пионерского галстука. Уголок воротника расхлюстанной рубашки приподнят. Господи, да это же Растям! Да-да, Растям Ассадуллаев! Он проучился с нами всего-то один год.
Да, я вспомнил…
Я выпускник обычной школы – не спец, не гимназии, не с математическим или другим уклоном. Обычной – средней школы N 8. По соседству было еще две таких же, обычных – «Пушкина» и 15-я. Но классы во всех трех были переполнены.
Огромный рабочий район «хрущевок» тянулся между Волгой и железнодорожными путями, от стадиона до магазина «Детский мир» и парка имени Карла Маркса, который все называли «Карлуша». Туда мы бегали кататься на каруселях, есть мороженое, а однажды любовались на грандиозное зрелище – горел театр «Аркадия» – жемчужина деревянного зодчества нашего города.
Названия наших улиц – Татищева, Савушкина, Латышева, Коммунистическая, Анри Барбюса, Комсомольская Набережная. Здесь много общежитий – Педагогического института, и Рыбвтуза, здесь самая большая в области Александровская больница, здесь заводы «Прогресс», станкостроительный, «Стекловолокно». И все это – Ленинский район.
Пересечь эту Вселенную моего детства запросто – всего каких-нибудь 15 минут на громыхающем по рельсам красном трамвае или на рогатом троллейбусе.
Второгодник Растям Ассадуллаев вошел в наш класс 1 сентября. Не спрашивая учительницу, не дожидаясь представления классу, он уверенно направился к предпоследней парте. К моей парте. Бросив свой тощий портфель на пол, спросил для проформы: «Свободно?», и опять же, не дожидаясь ответа, сел на соседний стул. Протянул руку:
– Растям.
Я тоже назвал свое имя.
Вообще-то, хулиганов в нашей школе было не сказать что много. Хотя, не без того. Растяма я, естественно, раньше видел – он был на год старше, учился в классе «Г» и тусовался как раз-таки с хулиганьем с улицы Латышева. При этом он не был тем вечно «добадывающимся», стреляющим мелочь у малышей «блатным», которые зимой часами не выходили из туалета, а с весны до осени ошивались в яблоневом саду у нашей школы. Растям тоже носил модную в их среде «фуру – аэродром», что однозначно роднило его с этими самыми «блатными» подростками. Ну и курил, конечно, нисколько не скрываясь от учителей.
Широкоплечий, на полголовы выше меня, с точно резцом прорезанными удлинёнными, чуть на выкате голубыми глазами, обрамленными длиннющими ресницами, рыжеватый, с длинным носом, заканчивающимся квадратным раздвоенным кончиком (сейчас я бы сравнил этот нос со шнобелем молодого Жерара Депардье), он смотрел на мир как бы чуть-чуть со стороны. Взгляд его был то насмешлив, то грустен, то внимателен, но никогда не зол и не равнодушен.
От одноклассниц с улицы Латышева я узнал, что живет он с матерью, работающей мотальщицей на заводе «Стекловолокно». Отец «сидит», а Растям как «трудный подросток» состоит на учете в детской комнате милиции. Всё это было где-то там, аж у стадиона, на улице Латышева.
Не припомню случая, чтобы Растям на кого-то повысил голос или продемонстрировал свою физическую силу. В отличие от меня, по школе он не бегал, а ходил, никогда не дрался, впрочем, задеть его никому и в голову не приходило. Вел он себя как человек взрослый, с достоинством, что ли…
Но при этом он был все же подростком, как и все мы. Списывал у меня безбожно, потому как уроков никогда не учил. С увлечением рассматривал мои альбомы с марками, рисовал на полях самолеты и танки.
Уже через неделю можно было сказать, что мы с соседом по парте подружились.
Преподаватели, поначалу ожидавшие от второгодника «сюрпризов», через месяц уже не обращали на Растяма никакого внимания, ведь был он всегда тих и внешне послушен. К доске его не вызывали, письменные работы оценивали автоматическими «тройками», даже если списано было буква в букву «на пять».
В мае, когда до конца учебного года оставалась всего неделядругая, заболела наш классный руководитель. Отменили последнюю пару по математике.
– Пошли скупнемся, – предложил мне Растям.
Доехав на трамвае до молокозавода, мы уже спускались вдоль забора по полузасыпанному речным песком асфальту к речному трамвайчику, когда Растям показал на часы на моей руке и бросил как бы невзначай:
– Спрячь «котлы».
Большие, не по моей подростковой руке, с фосфоресцирующими стрелками, мне они нравились, несмотря на чуть разъеденную снизу позолоту корпуса.
Я молча расстегнул браслет и сунул «котлы» в карман брюк. Впереди замаячил Обливной остров.
Старенький речной трамвайчик суетился между берегами, перевозя людей на пляж и обратно. Всего-то метров по пятьдесят туда-сюда.
Мы забрались под настил причального понтона, где уже сидели на корточках несколько пацанов в мокрых сатиновых трусах, покуривая «беломорины».
Одного из них я узнал, он учился в параллельном классе.
Поздоровавшись с каждым за руку, представив меня товарищам, Растям разделся до таких же, как у них, черных сатиновых трусов до колен. Мои плавки удостоились скептических взглядов, но насмешек и комментариев не последовало. Аккуратно сложив одежду в стопку, я накрыл ею сандалии, взобрался на понтон и нырнул, тщательно вытягивая тело в струнку, в бутылочного цвета воду.
Что для волжанина 50 метров? Несколько гребков, и мы уже нежились на пляже, зарывшись в золотистый волжский песок.
Дунув на поднятый с песка окурок, Растям попросил у загорающего рядом мужчины спички, прикурил, затянулся и стал смотреть на воду.
Молчание длилось минут пять. Я как всегда не выдержал и спросил первым:
– Ты куда после школы?
Растям отщелкнул в воду окурок:
– Не знаю. Это не имеет значения.
Я удивился:
– Почему? Я вот хочу закончить десять классов и поступить в Рыбвтуз.
– Если хочешь – поступишь. А меня так или иначе посадят… дело времени.
– С чего ты взял, Растям? У тебя в школе за год ни одного замечания, ни одной драки. За что ж тебя сажать?
Растям посмотрел на меня с усмешкой:
– У меня от инспекторши детской комнаты последнее предупреждение. Да и вообще – отец сидит, старший брат сидит… Всё равно или побью, или порежу кого по пьяни.
– Так ты ж не пьешь, ты вообще мусульманин! – я был буквально ошарашен его словами.
– Пока не пью, – непонятно ответил одноклассник, встал и, отряхнув с длиннющих трусов мокрый песок, побежал в воду. Плыл он резко, неуклюже, оставляя вокруг себя фонтан брызг.
Когда мы взобрались на понтон, ребята по-прежнему курили, сидя на корточках. С силой отжав плавки, чтобы не расплывалось мокрое пятно на брюках, я начал одеваться. Часов в кармане не оказалось. Проверил в сандалиях, заглянул в щели настила… Нет часов.
Растям молча наблюдал за мной, а потом, отвернувшись к реке, тихо бросил в сторону отплывавшего трамвайчика:
– Мужики, верните «котлы».
Самый низкорослый из его друзей неторопливо, явно нехотя, поднялся, подошел к Растяму и протянул ему мои часы.
– Ему, – кивнул мой одноклассник, – и извинись.
Через пару дней я опять подрался в школе. И не потому, что любил или умел здорово махаться. Нет, нет и нет. Просто именно со мной это случалось нередко. Вот и сейчас… Выпускники из 8 «А» решили покуролесить в последние дни учебы. На переменах они выбирали кого-то из класса помладше и начинали по-всякому задирать.
Как это ни странно, ко мне прицепился опрятный, обычно добродушный парень. Ростом он был чуть выше меня, довольно плотный, но неуверенный.
– Выйдем? – предложил ему я.
Стайка моих и его одноклассников поспешила в яблоневый сад.
Драка началась вяло – с толчков и словесной перепалки. Но когда он, схватившись за мою новую голубую рубашку, дернул и оторвал пуговицу, я разозлился и со всей силы ткнул его кулаком в глаз. Потом мы схватились, катаясь по земле, а уж в партере я «как учили» в секции, отжал его руку на болевой. Кто-то из «болельщиков» восьмиклассника ударил меня носком ботинка в бок – не больно. Мой обидчик уже ревел («Отпусти, больно!»), даже не пытаясь сопротивляться.
Послышались крики: «Так не честно!» и «Нет, все честно, все пучком!»
Тут кто-то сильно ухватил меня за шиворот и голос учителя автодела приказал: «Отпусти его».
В кабинете, увешанном таблицами систем автомобиля и дорожными знаками, Владимвикторыч – мужик свой! Для приличия отчитал меня (понятно, ведь мой противник – тишайший отличник, а я – записной непоседа и драчун), но отпустил с миром, даже не лишив (о, счастье!) завтрашнего урока вождения.
Учился-то я легко, хотя и без фанатизма. Ездил от школы на олимпиады по математике, физике и химии. Ну, подумаешь, подрался раз-другой, с кем не бывает.
После уроков мы с Растямом медленно шли к остановке трамвая. Ему пару остановок – к стадиону, а мне дальше – на троллейбус и до жилгородка. Он подбрасывал и ловко ловил медную трехкопеечную монетку.
Завернув за угол школы Пушкина, я вдруг «поплыл», почувствовав сильный удар в затылок.
Медленно оборачиваясь, успел заметить, что за моей спиной стоят трое восьмиклассников. Мой давешний соперник, глаз которого заплыл, морщась, потирает ушибленную об мою голову правую ладонь.
Время потянулось резиной. Краевым зрением я увидел, что Растям уже отводит для удара свой огромный веснушчатый кулак. Зрачки сужены, губы плотно сжаты. Мне стало страшно, показалось, что мой друг убьет отличника, нанесшего мне подлый удар со спины. В голове звучали слова: «А меня все равно посадят». Нет уж, только не из-за меня!
Не знаю, как так я умудрился, но я толкнул Растяма, повалил на землю. Его кулак всего чуть-чуть не успел дотянуться до веснушек на переносице восьмиклассника.
Черт его знает, видимо, на какой-то миг я все же потерял сознание. Очнулся, лежа на земле. Голова гудела как пустой котел. Напавших со спины ребят и след простыл. Мой друг сидел рядом, потирая ушибленное при падении плечо.
– Если б не ты, убил бы падлу, – сказал он, не оборачиваясь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































