Текст книги "Артикль. №4 (36)"
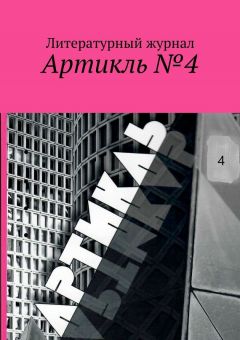
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
А знаешь, у тебя очень свободный, легкий, спокойно-счастливый голос по телефону. Рада, что тебе в Японии все-таки хорошо, пусть никакая тоска тебя там не найдет, и ты вернешься сильным, обновленным и бесконечно, упоительно страстным.
Нелепо прикасаясь губами, целую тебя во сне (сейчас, глубокой ночью), целую тебя сильно-сильно, когда ты читаешь это письмо (утром или днем).
Я повсюду и всегда с тобой. Л.»
***
В одно мгновенье все ожило с невероятной силой и полнотой, захватило, понесло в прежнюю жизнь.
Вот за ней он сюда и вернулся. В покинутом вчера мире он о ней начал забывать, отдавшись потоку других чувств, стремлений, встреч и думал, что она в прошлом и никогда не явится.
Но последний год там все сильнее давала о себе знать острая сердечная недостаточность – недостаток жизни сердца, опустошение той сердечной сумки, как называют ее анатомы, которая когда-то была переполнена чувством, и он всем существом ощущал ту полноту до краев, до выплесков через край. Чувство не исчезло, но приняло вид – чего? воспоминания, фантома? Не имеет значения, в каком виде оно живет. Даже не важно, что чувство было ею. Не прав ли любимый его француз с Boulevard Haussmann, куда забрел он ночью несколько лет назад и долго стоял у сто второго дома под отцветающим каштаном – «a l’ombre des jeunes filles en fleur», «под сенью девушек в цвету»? Там ведь как раз про это. В темном коридоре сейчас не найти с юности привычный старый перевод Федорова, да и не надо перевода, лучше, как писалось самим; под рукой же подлинник. Нащупал в сумке привезенный томик из «Bibliotheque de la Pleade», который как-то купил на книжном развале возле Сены. Во второй части «Девушек…», вот оно: «L’amour le plus exclusif pour une personne est toujours l’amour d’autre chose». Самая исключительная любовь к ней это всегда любовь сквозь нее (так было бы точнее) к чему-то другому. Верно ли? А дальше все объясняется: «J’avais autrefois entrevu aux Champslys es, – читал он вслух, с наслаждением воссоздавая музыку речи и уже улетая на Елисейские Поля, – et je m’tais mieux rendu compte depuis, qu’en tant amoureux d’une femme nous projetons simplement en elle un tat de notre me; que par consequent l’important n’est pas la valeur de la femme, mais la profondeur de l’etat; et que les emotions qu’une jeune fille mediocre nous donne peuvent nous permettre de faire monter a notre conscience des parties plus intimes de nous-meme, plus personnelle, plus lointaines, plus essentielles, que ne ferait le plaisir que nous donne la conversation d’un homme superieur ou meme la contemplation admirative de ses oeuvres». Как все слилось у него в этой одной фразе, перетекающей из опыта и памяти в мысль, и как звучат эти струящиеся слова! Но верно ли то, что важнее всего не ценность женщины, а самые глубокие части нашего существа, пробуждаемые в нас влюбленностью в нее?
Сейчас он со всей былой страстью захотел ее слов, захотел увидеть места и вещи, среди которых они когда-то рождались и звучали, – и больше никто ему не нужен. В них теперь явилось то, чем жил и еще может жить, он должен найти все ее и свои слова. Он поедет к Сергею и заберет их себе.
***
Он все еще сидел у стола перед листком письма и книжкой, не в состоянии встать, что-нибудь делать, когда из темных недр квартиры донеслось слабое дребезжанье. Сначала не понял, что такое; дребезжанье повторялось; потом вспомнил, что телефон. Совсем отвык от этого звука и удивился: кому сейчас сюда звонят? Пошел в прихожую и взял трубку, внутренне подобрался.
– Так ты не вернешься в Рим? – голос Бориса.
– Теперь не вернусь. Почему ты сюда звонишь?
– У тебя мобильный же выключен.
Да, в самом деле, после самолета он не включил.
– Не будем снова о том же, Борис. Ты же согласился, что все правильно.
– Для тебя, наверное, правильно. Но тогда тут придется наши сборища совсем прикрыть. Какие дискуссии без тебя? Кто будет разжигать? Они опять все зальют и загасят своей риторикой.
– Что они и делали постоянно. С ними мне больше не о чем дискутировать. Все эти convegni di esperti превратились в семинары по мультикультурализму и толерантности, мне надоела эта пресная профессорская кухня, а быть на ней condimento mordace я не хочу.
– А Кьеза? Он ведь так надеялся на материалы от тебя.
На минуту он снова оказался там, среди них, мысли по привычке быстро понеслись по прежней дороге, стал припоминать, что обещал Кьезе, и соображать, что бы из того вышло. Джульетто, конечно, действует в нужном направлении и эффектно, он и острый журналист, и толковый политик, в парламентской ассамблее Европы он делал правильное дело, а недавний его с Мейсаном фильм об одиннадцатом сентября кому-то приоткрыл глаза. Мало кто так независим и так смел сегодня, чтобы говорить правду прямо и громко. Но Кьеза никому там не нужен, его даже не надо глушить – его просто молча отторгают, потому что не хочет подчиняться нынешнему мироустройству, которое навязывают всем. Тоталитаризм без видимого насилия. Несравненно опаснее любого авторитарного режима – что монархического, что большевистского, он создает иллюзию свободы и разумности в комфортабельном геополитическом загоне. Не там и не так сейчас надо действовать. Пока их следует оставить один на один с тем, что их ждет в ближайшие годы.
Промелькнуло как давно и окончательно им обдуманное, говорить не стал, только напомнил:
– У Кьезы есть хорошие помощники.
– Ты напрасно решил все бросить и уехать. Ведь можно же изменить формат встреч, состав.
– Изменить так, чтобы был нужный нам результат, невозможно, нам не собрать тех, с кем стоило бы говорить. И оплачивать такое дело даже самые завзятые евроскептики не станут. Я же все объяснил тебе и Франческо. Не обсуждать же сейчас. Теперь я хочу вернуться к себе, а у вас моя деятельность больше не имеет смысла.
– Значит, и не звонить?
– Звони, Борис, звони, но не на эту тему.
Рим, Рим…
Давно ли он писал и даже напечатал, как будто принося обет: Quando ritornero a Roma!
Когда я в Рим вернусь – а я вернусь,
Я слишком много там оставил.
И я спрошу у Piazza Cinquecento,
Где здесь любимый мой башмак?
Он ногу мне набил тогда – когда
Мы долго шли по Appia Antica
От старого Quo vadis по предместьям.
Я скинул здесь его и наконец в Marghera
Пришел полубосой, полу в ботинке.
И я спрошу – у маков Palatino:
Вы помните меня? Цвести вы обещали
Пока я не вернусь, и капли древней
Римской крови в ваших алых чашах
Не могут высохнуть – в них капля и моей.
Когда я в Рим вернусь – а я вернусь,
Когда уйти придется отовсюду…
Давно, бесконечно давно.
Несколько лет назад раздался оттуда совсем другой голос, обещавший совсем новую жизнь:
– Когда ты прилетаешь?
– Послезавтра. Рейс 3276. Встретить хочешь?
– Нет, на машине Паола уехала в Аквилу.
– Ладно, а на такси от Фьюмичино до тебя сколько?
– Пятьдесят – шестьдесят.
– У меня тридцать осталось. Значит на «Леонардо» и от Термини к тебе на автобусе, часа через полтора.
– Ну, жду. До встречи.
И началось. Хотя, собственно, продолжилось, только намного энергичней. Тогда мысли, и настроение, и друзья были совершенно иные. Верили: действуют ради свободы и правды. Жизнь кипела в водовороте событий, лиц, голосов.
Сейчас миновало и казалось нестоящим.
Вечером он поехал в Москву.
***
Проснулся перед Сходней, веселый, почти счастливый. Никогда не знаешь, каким проснешься наутро. (И с кем, цинично добавлял пьяный Олег). Еще и умыться успел до Химок. Встречные электрички подбирают с платформ дачников на Истринское и Клин; вспомнил свои юные московские стихи:
На пригородных поездах
Умчат поклонники природы,
Установившейся погоды
Печать в оставленных трудах,
Раскрытых окон перезвон,
Дверей открытых пересуды,
Осколки брошенной посуды,
Посулы лета за окном…
Впереди посулы радости, воскресших чувств – ничего больше и не нужно ему, ничего он больше и не хотел.
Вышел из метро на Чистых прудах, после подземной толпы и электрических сквозняков с удовольствием подставил лицо свежему утреннему дуновению от уже политой зелени на бульваре. «Холодок бежит за ворот, шум на улицах сильней…» И привычно двинулся к Белгородскому проезду, мимо скамеек, сейчас пока пустых, по раннему часу; на них когда-то встречался с друзьями. Напротив Покровских ворот всегда первым выставлялся ему навстречу своими изукрашенными эркерами, карнизами, балкончиками зелено-белый дом, а рядом с ним скромно держался в тени теткин, особенно к вечеру – в тени от Рахмановского дома на площади. Во двор, на лестницу; ключи переложил в карман еще на бульваре, отпер замок, потянул тяжелую дверь…
В прихожей предстала Маша, совсем им не ожидаемая – как и он ею.
– Ты здесь? – она нечаянно улыбнулась, но спохватилась и спряталась за никаким лицом.
– Мне Сергей нужен, – поспешил он объяснить свое появление, и получилось грубо, он так не хотел; растерялся, не нашел для нее в ответ ничего лучшего. Отдал цветы.
Бросила их на подзеркальник и сразу ринулась наступать, будто вчерашнюю ссору продолжая.
– Тебе не Сергей нужен, а чемодан.
– Значит, уже добралась. Не важно, что мне нужно, особенно для тебя не важно.
– Важно. Опять будешь ее мучить?
– Тебя мучить. Хотя и тебя не буду. А ее это никак не касается, ей давно безразлично.
– Это мне безразлично, я замуж вышла.
– Назло – кому?
– Мужу. Пусть терпит теперь. Это уже тебя не касается. Оставь ее в покое.
– Да я же не трогаю ее, даже не писал, встречаться не собираюсь. Говорю тебе: для нее я ничего не значу, и все, что в чемодане, тоже. Ты ведь несколько лет ни ее, ни меня не видела, а никак забыть не можешь. Что тебя так разволновало?
– Она мне не чужая, – и чуть смягчая тон: – Тоже замуж вышла?
– Не знаю. И ты, оказывается, не знаешь про не чужую.
– Ты всех после замуж выдаешь? – слабо попыталась язвить, в ней никогда не было большой злости; теперь первый шквал уже опадал, гроза уходила.
– Нет, трех никто не брал, пришлось в монастырь отправить. Где все-таки Сергей?
Вдруг сделала два шага к нему и улыбнулась глазами:
– И над этим все смеешься? Совесть есть?
– Что это?
Улыбка от глаз опустилась на губы, но стала совсем грустной:
– Вот так мы с тобой и разговаривали всегда. Пойдем кофе пить. Ты ведь с поезда? Сергей вчера поехал в Лопасню с Татьяной Борисовной.
Сел в кухне; Маша ходила рядом между шкафом и плитой, овевая то горьковато-травным запахом от подхваченных гребнем мокрых волос, то все тем же любимым их «White Linen» от рукавов халата. «Куда отправляется с утра пораньше?» Теплой волной чуть плеснуло в душе, но в теле не дрогнуло ничего.
– Зачем в Лопасню?
– Она ему свой дом дарит, там надо акт составить, еще что-то; и нотариуса взяли.
– И когда они вернутся?
– К вечеру, наверное.
– А ты куда собралась спозаранку?
– На репетицию. Хочешь послушать?
Совсем сейчас лишнее, из другой жизни стало вмешиваться в этот его день, такой хороший сначала.
– Что готовишь? – спросил, откладывая отказ.
– Сонаты Бетховена, ля-бемоль мажор и до-минорную, твои любимые. Помнишь, как ты adagio в тридцать первой «последним разговором» называл? А arietta в тридцать второй была «отъезд навсегда». Ведь так все и получилось, милый.
– Помню, Маша, но сегодня не пойду.
Не сдержалась, опечалилась – надеялась хотя бы блеснуть; играла великолепно. Что-то она делала с роялем невероятное: у него появлялся человеческий голос, которым можно было заслушаться до забвения всего. Особенно в бетховенских сонатах. Он у нее и пел, и рассказывал, и нашептывал, почти различались слова. Рояль был теплокровное умное существо, любящее ее и откликающееся на ее прикосновения. А когда она давала волю своему темпераменту, он мог и рокотать в бурном раскате, мог нестись вскачь – и уносил далеко. И его унес когда-то. Несколько лет не слышал. Бессознательно, может быть, хотела опять увлечь, или подразнить. Больше не поддамся.
– Ты здесь, а муж где? – чтобы окончательно отрезать ход к прошлому и не расстраивать ее перед репетицией.
– Муж в Германии, свою выставку открывает. А у Татьяны Борисовны, ты помнишь, рояль хороший, танеевский.
Пошла одеваться, через полчаса хлопнула входная дверь.
Вышел и он. Побродил по двору, где прошли пять школьных лет, с закадычными друзьями, с Наташей, – когда жил с отцом у тетки. Тут стоял турник, на котором мерялись в подтягивании и крутили «солнце», тут под липой была скамейка, до которой вечером никогда не доставал фонарь, лежала непроглядная тень, и можно было долго целоваться, пока на балкон не выходила Наташина мама и не звала домой. Весенним днем после школы и по воскресным утрам, и летом постоянно, едва он заканчивал уроки с теткой, захлопывал ноты и скатывался по лестнице во двор, его из открытых окон догоняли нескончаемые гаммы, Черни, Клементи, Скарлатти. Их там еще играют?
Теперь двор молчал. Хоть утро и воскресное, не слышно ни гамм, ни этюдов, ни пьес средней трудности. Не носятся мальчишки на великах, бешено звоня, не сидит Леонид Маркович за столом с огромной шахматной доской, на которой не знал поражений, никто не бегает в булочную на Покровку (ее и тогда не называли Чернышевской) за свежим ночного привоза хлебом. Окна наглухо закрыты стеклопакетами, дышат через кондиционеры – на бульваре и на Покровке действительно днем не продохнуть. Никто больше не выставит на подоконник проигрыватель – да и что бы из него такое пропело сегодня? А ведь было, было, что «из каждого окошка, где музыка слышна, какие мне удачи улыбались!» И когда выскакивал утром на площадь, захватывал его там «звон трамваев и людской водоворот», и где-то веселый барабанщик выбивал свою дробь кленовыми палочками.
Дальше по своему обычному малому московскому кругу. Через Макаренко, не спеша, дворами вдоль Жуковского к шестьсот десятой школе в Большом Харитоньевском, откуда с географом начались горы. Обошел – снаружи все та же, только у дверей охранник и калитка на замке. Налево через бульвар в Архангельский переулок (был он в ту пору Телеграфным, а когда-то еще и Котельниковым, по фамилии родственника его), потом по Кривоколенному, по Мясницкой вышел на Лубянку.
На углу Театрального и Неглинной остановился. Что-то Москва начинала давить сегодня. Да ведь он не к ней нынешней приехал. Потянуло из нее вдаль, как и раньше бывало. Свернул на Неглинную к знакомому дому за Кузнецким мостом, восемь дробь десять. Когда-то Ариадна, Деля, звала их здесь: «Я приглашаю вас в леса, мы так давно в них не бывали…» Очень давно. А она все обещала своим улетающим звонким голосом: «Я по тропе вас поведу, она усталость нашу снимет, и станем снова молодыми мы у нее на поводу…» И хотя совсем молодыми тогда были все они, и легко было им играть возрастом и усталостью, ее песня оказалась правдой наперед, сейчас бы на той тропе наверняка ушла усталость и пришла молодость. И в ушах уже отстукивала ему электричка дорогу в Звенигород, где «трава умыта ливнем и дышится легко, и нет уже в помине тяжелых облаков».
Больше никто не пел и никуда не звал в этом доме, да и нигде никто его не звал, не собирали рюкзаки, не ехали, весело перекликаясь, на Белорусский вокзал. Оставалось два дома – на Знаменке и в Кропоткинском переулке, где мог бы еще найти старых друзей, да прихватить Дмитрия – с ними он и мечтал двумя связками на Дыхтау в сентябре. Они не могли бросить горы, стало быть, формы не потеряли. Но давным-давно не созванивались, он был слишком далеко, а они – где они теперь? Не сегодня.
Грусть тяжелела, превращалась в тоску; повернул обратно и вышел на Театральную, куда, взвывая на зеленый, вырывались машины из Охотного ряда.
Дошел до фонтана перед Большим, хотел сесть на скамейку. И вздрогнул и застыл: на скамейке сидела она – в желтой куртке, как тем холодноватым майским утром, когда они вдруг бросились зачем-то в Москву. Он стоял и смотрел на желтую куртку, на черноволосую головку, склоненную к книге…
Пронзило насквозь!
Сорвался с круга, с «Площади Революции» помчался в Измайлово. Искать ее следы в лесу, на Серебрянке. Сумасшедший.
Скитались по парку, лежали на бревенчатых лавочках, солнце припекало. Она пряталась в зелени, и, воображал он, это нимфа Сиринга убегает от него, от Пана, в гущу аркадских лесов, и сестры-наяды из Лебедянского пруда сейчас превратят беглянку в тростник, из которого Пан сделает любимую свирель. Так он и нарисовал ее потом в их альбоме, так и написал на обороте листа. Она стала его свирелью, и он три года играл на ней чудеснейшую мелодию.
В Измайлово он следов ее не нашел, вновь поехал на Чистые пруды за теми листами, на которых ту мелодию они вместе писали.
Глеб Шульпяков
Римская элегияГлава из романа «Красная планета»
I
…запечатаны в бутылку времени и выброшены в море вечности. Но моя-то ручка пишет чернилами!
И так далее, далее.
Возьми в толпу своих призраков.
Огонь с угасающим треском прячется в хворост, человек сбрасывает балахон и спускается с эшафота. Придерживая цепь, садится за столик. Пьет, потом с наслаждением закуривает. Проверяет телефон. «У вас нет и не будет новых сообщений».
Как бы мне хотелось быть таким же беспечным.
На ходу я разбрасываю свернутые в трубочку пасквили.
«Ненавижу этот город».
«Уничтожить его»
Когда я сажусь на большой палец, старик вскакивает с каталки. Он машет проводом от наушников (лучше бы гонял обруч).
Человек-пасквиль, человек-обруч.
Человек-который-ничего-не-весил.
Тут простейшая левитация, теряешь ровно столько, сколько способен вытеснить. Давай! Кривляйся, ведь и в одной монетке музыка.
Рим камней, мир воды. В реках мрамора Твои плавники.
Чем обогнать твои коленные чашечки?
Да, бывают дни, я еле волоку ноги. Просто увязаю в камне, настолько он мягок. Но, бывает, просыпается и моя бабочка. Розовая точка, моя планета.
Как они сегодня расшумелись.
Обсуждение не закончено, для повторной экспертизы нужно заново сжечь его.
Ходатайство откланяется, кошка спрыгивает с колен. Под оглушительное молчание цикад он уходит.
В следующей жизни ты – кошачий царь.
Нет, категорически запрещается: ни кормить, ни брать на руки.
Наш равви скорее даст умереть сыну, чем позволит врачевать его именем Иешуа бин Пантеры. Этот безумец из Галилеи.
Сюда, пожалуйста.
В платяном шкафу синьору будет покойно, стены гетто вопиют беззвучно. Вода в холодильнике бесплатно.
Человек-булыжник. Небольшой и круглый как детский череп.
Собственно, черепами здесь все и выложено.
«Ваша пижама могла бы дирижировать оркестром».
Город пижам. Целые толпы – в музеях, на остановках.
Висят, раскачиваются.
Души умерших или нерожденных? Кстати.
Как разбудить вас.
Белый шлем, белый плащ, белый шум. Моя рабочая форма. При обнаружении стаи нажать кнопку «Вкл». Сирена, птицы взмывают. Стая колышется над городом как сетка, которую закинули в небо.
Где найти перо, чтобы описать ее живой рисунок?
Рыбка ловится, время течет. Бросай!
Жизнь это палиндром с пропущенной буквой, но в Риме всегда мир, всегда любовь.
Где найти… и так далее, далее.
II
Было утро воскресного дня и он лежал, разглядывая черные потолочные балки. Звон колоколов напоминал набат. Но куда бежать, что спасать? Никуда и ничего, спи.
Квартира Даниелы была на последнем этаже. Окна трех комнат, расположенных анфиладой, смотрели на кирпичную стену, а в ванной – во двор. В окружении велосипедов там стояла посеревшая от времени скульптура нимфы или богини. Стена и особенно карниз находились так близко, что Саша представлял, как перепрыгнет через переулок на крышу и заберется под купол, чей барабан виднелся, если высунуть голову. Он даже слышал хруст черепицы. Церковь Пилигримов, но ведь и мы чужаки в этом городе, не правда ли? В этой вытянутой и темной, похожей на вагон поезда квартире, они провели медовый месяц. Метались между улицей, где задыхался римский август, и спальней, которую до озноба выхолаживал старый кондиционер. Раньше, когда Даниела только вернулась из Москвы в Рим, на лето она уезжала к отцу на море. Тогда-то в Рим приезжали они, а потом догоняли ее. Побережье на юге было плоским, а море мелким; хватало Сашу ненадолго, через несколько дней он возвращался в Рим под предлогом «работать». Хотя почему же «под предлогом»? Он закончил здесь книгу. Вот за этим белым столом, покрытым огромным куском стекла, под которым среди счетов и программок сохранились, наверное, и его бумажки.
Спускаясь, чтобы позавтракать, он искал на лестнице имя. Оно было выбито на мраморной наддверной балке – видно, этот Solomonius хотел оставить по себе долгую память. Они с сыном придумывали ему историю. Например, Соломон – раввин синагоги, и однажды находит паспорт на имя Nicolas Gogol. Или… Он надавил на тяжелую дверь и вышел на улицу.
Переулок упирался в мост, а другим концом выводил на площадь Цветов. Полицейский участок, ощерившийся скутерами; пустующая лавка ювелира; продавец сицилийских сладостей. За годы его отсутствия ничего не изменилось. Когда в табачной лавке ему подали кофе и воду, он машинально сказал danke. Но вчерашнее путешествие из Германии отодвинулось в памяти – как длинный фильм, который с трудом заставляешь себя пересматривать. Оставалось только поскорее закончить историю с картинами. Попробую связаться с Фришем по скайпу, решил он.
III
На ступеньках церкви всегда кто-то сидел, пили из пакетов или хрустели городской картой. А кафе выставляло столики немного ниже. Первым на дверной колокольчик откликнулся старик в фартуке. Он стоял за кофемашиной, и узнал меня, или сделал вид. А девушка кивнула, не поднимая взгляда от кассы. И всегда вид у нее был такой – недовольный, а плечи сутулились. Лишний раз не улыбнется. Prego. За соседним столиком сидели две старухи в огромных, на пол-лица, солнечных очках. Дальше студентка с мотоциклетным шлемом на локте; а священник с карандашным пробором смотрел в телефон. Девушка составила чашки на стол и отвернулась. Чек она прижала пепельницей. Сквозь стекло белело пятно фартука, старик наблюдал за ней. Наверное, вдовец – других женщин я за стойкой не видел. А девушка мечтает снять проклятый фартук и уехать. Но кто будет стоять на кассе? Чужого человека он не хочет. Хорошо, если бы тесть занял его место. Но о замужестве она и слышать не хочет. Тогда займись домом, советует он. Сделай ремонт в своей комнате. Ну, она и занялась, проделала в комнате еще одно окно. Третье, на восток. Что еще за святая троица? Отец снимает фартук. Какой бог? Он не расслышал и переспрашивает. Нет, не зря говорят, что сирийской Оронт впадает в Тибр. Вся грязь в городе оттуда. И кто? Собственная дочка. Отец в бешенстве, он тащит ее к префекту. Тот устраивает расследование. Из тех ли ты, спрашивает он, кто собирается перед восходом солнца и воспевает Христа, как если бы он был Богом? Христос и есть Бог, отвечает девица. Они переглядываются. Подумай хорошенько, говорит тот, иначе нам придется собрать общину. Делайте что должно, говорит она. Принеси жертву богам, умоляет отец. Отрекись. Этот человек обычный галилеянин, лишенный из-за безумия страха смерти, и мы забудем, что случилось (это говорит префект). Вспомни о матери, что бы она сказала. Но та непреклонна. Ее хлещут воловьими жилами, а раны растирают власяницей, но на следующий день следов на теле нет. Тогда одна впечатлительная девица по имени Иулиания тоже объявляет себя христианкой. Ее раздевают, подвешивают, глумятся. Но, хвала Господу, воля девиц не сломлена. И префект приказывает казнить новообращенных; отец сам отрубает дочери голову. Правда, торжествуют они недолго, той же ночью в городе гроза и оба злодея погибают. Их убивает молнией. Поэтому артиллеристы считают Святую Варвару своей покровительницей. Известно ли вам, что ее мощи хранятся во Владимирском соборе? Их привезла византийская жена князя Владимира. Обратите внимание, пожалуйста, на фасад, как изящно архитектор вписал церковь в городскую застройку. Вы, наверное, уже прочитали табличку. Dei Librari. Фасад церкви немного напоминает корешок книги, не правда ли? Нам повезло, она открыта. Здесь мы видим поистине уникальную коллекцию интерьеров, имитирующих разные сорта мрамора: каррарский, сицилийский, боттичино фьорито и другие. Прошу вас, отключите мобильные телефоны. Церковь Святой Варвары была построена…
IV
Нет! Ничего не меняется в этом городе. Паром «Коринтия» вышел в море, утонул и отбуксирован на рейд. Окна прорублены, заложены и снова прорублены.
Не отменять же завтрак?
Святая Варвара выносит кофе.
Рим способен уместиться в мотоциклетном шлеме, вот и моя мысль скользит по кругу.
Истории, которые ты придумываешь, рассказаны, забыты и снова рассказаны.
Соломон возвращается домой в один и тот же час.
Зачем ему время?
Рим и есть Время, и есть Мир.
Есть любовь.
«Roma – Amor».
Так будь беспечным. Как эти воробьи.
По пустым тарелкам прыг-скок. Время по колено,
его здесь море.
Молодой варвар из страны третьего мира,
в белых штанах с рюкзаком из фальшивой кожи,
я спускаюсь та-та-та в корыто Рима,
и утверждаю та-та-та, что мы похожи…
Вот так войдешь под арку, чтобы перевести дух, поднимешь голову – ах! – эти волны, эти прохладные впадины и складки.
Руку мастера видно по теням, которыми они наполнены.
«Чем помочь синьору?»
Я потерял время, да и жарко.
«Нет ничего проще, – отвечает полицейский. – На барахолке в Сан-Лоренцо отыщется даже то, чего не было».
Барахолка моей памяти.
«Недавно я приобрел там тросик для фотокамеры».
V
Саша вернулся с рынка и составил на стол пакеты, и тут же услышал скайп. Звонила жена и он принялся ходить по квартире, показывая, как устроился. У Даниэлы ничего не переменилось, сказал он, поворачивая камеру на стену, где висели рисунки их сына. Вот, смотри. Не забудь потом все убрать и вынести мусор, сказала жена. И найди, пожалуйста, мои очки, они остались в комоде. Где? Где зонтики. Какие рисунки, пап? На экране появился мальчишка. Саша снова развернул компьютер, но тот уже исчез. Проплыл потолок и окно с голубым небом в пушечных дымках. Когда ты обратно, спросила жена. Потом пропало изображение. Они перекинулись парой слов в темноте, а когда попрощались и он отключился, компьютер запиликал снова. Это был Фриш. Он не хотел говорить с ним; в городе, где он очутился, не было места его аферам. Хотя? Он безразлично посмотрел на тубус с картинами и нажал на кнопку. Появился кусок крашеной стены с каким-то прибором и трубками. Больница, наверное. Но это был задний двор дома. Изображение задергалось, череп его приятеля был плохо выбрит, а на щеке белела нашлепка из пластыря. Голова напоминала маску. Приветствую тебя, мой драгоценный друг, сказала маска, едва разжимая рот. Прости (он показал глазами на повязку). Не могу широко открыть. – Как ты, как твоя… – очнулся Саша. – Что это вообще было? – Непредвиденные обстоятельства, – ответил он. – Теперь все в прошлом. Как настроение у пана писателя? Ах, Рим, Рим (он зачастил, словно не хотел вопросов). Колизей, Форум. Феллини, Муссолини. Сладкая жизнь. Азы и зады цивилизации. А герр дихтер неплохо, я вижу, устроился (тут маска состроила укоризненное выражение). Бедняга Фриш в Риме никогда не был. Может, махнуть? Примешь? Найдется, где преклонить больную голову? Шучу, моим ранам прописан германский воздух. Аллес гут, Гитлер капут. – Скажи мне лучше (Саша перебил его) – что мне делать… Он кивнул на тубус. – В Базеле никто не пришел за ними. Наверное, надо передать твои картины. Времени у меня немного. – Да выброси ты их, – сказал Фриш. – К свиньям собачьим. – Что? Саша не понимал, всерьез он или нет. – Прости. Снова шутка. Снова неудачная. Я доставил тебе неудобство этими картинами, несколько неприятных минут. Да? Все-таки три страны, две границы. Но жизнь коротка, а искусство вечно. Сегодня ты будешь свободен. – Повисла пауза и если бы маска не моргала, Саша решил, что трансляция остановилась. Ему вдруг пришла дикая мысль, что это очная ставка и Фриш говорит под запись. Что с той стороны сидят полицейские или, хуже того, бандиты, которые напали на него вчера на немецкой заправке; Робин Гуды из Чернигова. И он решил ни о чем не спрашивать первым. Да, – ответил он. – Благодарность моя безмерна, напомнил Фриш. – Пауза. – Он покажет город. Он… – Фриш замолчал и посмотрел вниз, как будто читал по шпаргалке. – Кто? – спросил Саша. – Что это я! – Спохватился Фриш. – Какая бестактность. Сморозил, сглупил. Синьор скритторе и сам может показать Рим кому угодно. Но все ж не пренебрегай, амиго. Да ты его, собственно, знаешь…. – Это он добавил как бы в задумчивости. – Кто он? – Повторил Саша. – Где тебе удобно, где ты остановился? – Не слушал Фриш. – Дай адрес, я записываю. – Саша отрицательно качнул головой: – Пришли номер, я договорюсь сам, сказал он. – Умно, согласился Фриш. – Сам не люблю испорченных телефонов. Так во сколько? – Саша посмотрел на продукты, которые не убрал в холодильник. – Пришли номер, – повторил он. – Добре, сказала маска. – Но только не затягивай. Как говорится, с плеч долой, из головы вон.
VI
Это была пачка выцветших полароидов в оранжевой коробке Hermes. Компания молодых людей, юношей и девиц с беспечными шевелюрами, позировала у окна в этой самой квартире. Судя по одежде, конец восьмидесятых. Кроме Даниелы тут был ее брат, тощий губастый подросток, похожий на Мика Джаггера, остальные незнакомы. Кто-то курил, кто-то сжимал бутылку. Даниела в короткой юбке, какая стройная фигура. А рядом моя будущая жена. Она потом часто рассказывала, как провела лето в Риме среди университетских приятелей Даниэлы. Да вот этих, по всей видимости. Границы только открылись и она отправилась с свое первое путешествие. Даниела и раньше помогала ей, особенно, когда перебралась на родину. Она выросла в СССР и хорошо знала, что это такое, когда нечего надеть, нечем накраситься. Она делала это, словно возвращала долг. Но потом все переменилось. Отец разорился, жить в Риме стало бессмысленно дорого и они разъехались: отец в мачехой на юг, а Даниела в Лондон, где нашла работу. Квартиру они сдавали. Это было в середине 90-х, когда в Москве, наоборот, жизнь пошла в гору, и теперь уже моя будущая жена приглашала подругу – на Новый год и летом. Та постепенно стала частью их семьи, тем более, что своей так и не обзавелась. А эти снимки были свидетельствами жизни, когда обе девушки были одинаково беззаботны (и невинны, добавлю я, ведь память отпускает грехи, есть у нее такое свойство). Она счастлива, а меня нет в ее жизни. Что я делал в это время? Когда она любила Рим, когда ее обнимали молодые люди? Как бывает только в юности? Писал, был ответ; его не печатали; он писал больше, его стали печатать; как будто отдавал, что должен. Но кому и зачем? Вместо того, чтобы обниматься с пьяными вином и беспечностью людьми? Та жизнь, которую они прожили вместе, была наполнена взрослым счастьем, но досада, что пока он писал, он упустил что-то важное, осталась. Когда он увидел фотографии, он ощутил ее.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































