Текст книги "Артикль. №4 (36)"
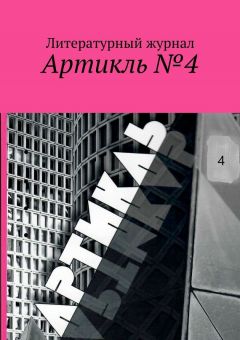
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
***
Наступили каникулы. Папа устроил меня поработать на завод «Прогресс», в 5-й цех – «всё не по улицам болтаться».
Наш участок ширпотреба собирал торшеры. Работа не пыльная, если не считать тяжелых чугунных «блинов» – подставок, которые надо было возить из литейки и по лестнице поднимать на второй этаж. Видя меня, разгружающего «блины», папа довольно улыбался. С тех пор, кстати, в его воспитательный лексикон и вошла присказка: «Не будешь учиться, будешь всю жизнь „блины“ таскать».
Оформили меня монтажником первого, самого низкого разряда. Начальника участка звали Виктор, а еще одного рабочего – Эльдар. Коллеги по торшерам были лет на семь-восемь старше меня. Оба дружили, оба играли в футбол за «Волгарь» – правым и левым хавбеками. Когда на участке не было комплектующих, Виктор с Эльдаром колдовали над своими шипованными бутсами, обсуждая игры. При этом называли имена футболистов, которые были кумирами нашего города.
Лето просто зашкаливало по жаре.
– Эй, малой, слетай-ка быстренько в литейку, принеси газировки. Только с солью! – обратился ко мне Виктор.
Пробегая мимо гальванического цеха, я увидел Растяма. Он сидел под навесом с папиросой в зубах, обтачивая напильником заготовки.
– Растям, привет! Какими судьбами? – радостно закричал я. Мой школьный приятель, не прекращая опиливать деталь, кивнул, садись мол.
Я сел напротив. Расправив длинную, чуть гнутую сигарету «Бородино» из припрятанной от родителей мятой пачки, я воровато оглянулся (меня ведь из-за отца ползавода знает) и тоже закурил.
Растям коротко взглянул на меня и огорошил:
– Всё, закончилась моя учеба. Теперь вот работаю разнорабочим в гальванике.
Оказалось, что у его матери обнаружили силикоз легких. Такая распространенная профессиональная болезнь на заводе «Стекловолокно». Ее надолго положили в больницу, а жить-то им на что-то надо.
Я тоже рассказал, что работаю «на торшерах» с футболистами из «Волгаря». Растям, как выяснилось, был соседом Эльдара по дому, и, что было для меня новостью, не пропускал ни одного матча любимой областной команды. Благо, стадион был в двух шагах от дома.
Поболтав о том – о сем, мы распрощались. Мне надо было бежать в свой цех.
Я рассказал о Растяме и Виктору, и Эльдару, а потом и отцу.
С тех пор мы с моим одноклассником больше не пересекались. Через неделю родители взяли отпуск, мы уехали на месяц в Кисловодск. А позже я узнал, что Растяма перевели в 5-й, отцовский, цех, где зарплата повыше. И не на «торшеры» – таскать «блины», а учеником, его взял к себе в ученики лучший токарь завода! С Эльдаром и Виктором они подружились.
Больше я ничего не знаю о своем школьном друге-второгоднике. Так уж сложилась жизнь. Но и благодаря ему в том числе я осознал, что бить человека в спину – один из тяжких грехов. Это раз. И еще. Говорят, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Наверное. Но все же, хочется верить, что человек и сам выбирает свою судьбу.
ПощечинаСлавик сидел, подоткнув ладонью полыхающую румянцем щеку, еле сдерживая слезы, делал вид, что углублен в учебник истории древнего мира. Одноклассники за соседними партами глазели на него, перешептывались и перехихикивались между собой. А ему было обидно. Пять минут назад он получил первую в своей жизни пощечину. Звонкую, унизительную, а главное – незаслуженную.
Нет, ну скажите, за что?
Если подумать, всё началось месяца за четыре до пощечины. Их пятый «б» был обычным классом в обычной средней школе. Разве что учителя на собраниях в один голос говорили родителям: Класс «сильный», но – «недружный».
Большинство нынешних пятиклашек знали друг друга аж с младшей группы детского сада, когда они вереницей усаживались на зеленые эмалированные горшки.
Потом почти вся их группа-«подготовишка» перекочевала в первый «б», где который год грызет гранит гениальных гитик. Вот сидят они в три ряда, правда, не на детских горшках, а за исписанными шариковыми ручками зелеными партами. Уж какая тут дружба-то за десяток «горшок к горшку» лет! Славик где-то вычитал, что даже космонавты за время полета друг другу надоедают!
Может быть, потому и не было в их классе всяких там «лямуров-тужуров», пока не угораздило злосчастного Елисеева влюбиться в Маринку Зябликову. Да не просто влюбиться – втрескаться по уши!
Собственно, влюбляться-таки уже стало в кого. Неприметная со времен эмалированных горшков Зябликова не вдруг, но быстро принялась расцветать и хорошеть. И уже не безобразили ее фигуру ни коричневое форменное платье с белым воротничком, ни черный фартук, ни нитяные коричневые колготки. Аккуратненькая такая стала, с намечающимися «где надо» выпуклостями, с волосиками, собранными на затылке в каштановый хвостик… Шея у Зябликовой приобрела грацию, изящность, глазки поголубели.
Короче, наш «королевич Елисей» ей и в подметки не годился. Ну не было в нем ничего примечательного кроме жестких темно-синих джинсов «Levis», привезенных ему из плаванья дядькой.
И вот, пошло-поехало! Стал Елисеев ежедневно, хотя и робко, но настырно «провожать» Зябликову после школы домой. А это аж три троллейбусных остановки пехом!
С несчастным видом, отставая на добрых десяток метров, плелся он по аллее за Зябликовой. Набитый учебниками ранец был, конечно, сам по себе тяжел, но еще тяжелее было безразличие девочки. Она его, типа, не замечала в принципе.
Дабы растопить сердце «спящей красавицы», Елисеев покупал у мороженщицы у кафе «Ветерок» вафельный стаканчик с пломбиром, однако сократить дистанцию и угостить-таки даму сердца кавалер стеснялся.
Когда девочка входила в свой подъезд, Елисеев вставал на бортик песочницы, приподнимался на носки и еще битых полчаса пялился, вытянув шею, в Маринкины окна, рассеянно слизывая с липких пальцев растаявший пломбир.
Однажды Елисеев притащил в класс отцовский фотоаппарат «Зенит» и наконец-то осмелился попросить Зябликову «попозировать» ему.
Эт-то надо было видеть! Пунцовый от смущения, кавалер выискивал ракурсы получше, пригибался, вставал на колени, один раз даже улегся на пол, но фотомодель паясничала, высовывала перед объективом язык и строила прикольные рожицы. В конце концов, влюбленный фотограф разревелся при всем честном народе и «сбежал с подиума».
Вездесущая классная руководительница Марьиванна засекла плач Елисеева и немедленно, всем своим «заслуженноучительским» нюхом почуяла, откуда ветер дует.
Она решила, что пробил час “ звонить во все колокола», собирать вече, то бишь начистоту поговорить с классом о сиих высоких материях.
Марьиванна назначила классный час на тему «Я помню чудное мгновенье». Как дипломированный математик, она все просчитала заранее.
Вначале было слово, то есть теоретические данные о соотношении в обществе М. и Ж., потом последовала информация о пубертатном периоде у девочек и мальчиков. Затем Марьиванна прочла (с выражением) стихи А. С. Пушкина о любви.
После фразы «как дай вам бог любимым быть другим» она окинула многозначительным взором класс и предложила высказаться по теме. Народ смущенно похихикивал, поглядывая на умудренного в этих делах Елисеева. Красный как рак, не привыкший к такому вниманию класса, тот буквально съехал под парту, спрятав голову глубоко внутрь своей джинсовой куртки.
Славик же, с самого начала недооценивший всю серьезность темы, слушал учителя лишь вполуха, углубившись в лежащий на коленях роман Дюма. И вот на самом интересном месте, когда Атос передавал Миледи палачу из Лилля, класс зашелестел «анонимными» мини-сочинениями на тему «С кем бы я хотел сидеть за одной партой и (главное!) почему».
Нехотя уступив ситуации, Славик спрятал книгу и быстро накарябал пару строк о том, что, мол, любит всех девочек в классе уже за то, что у большинства из них по случайному стечению обстоятельств – птичьи фамилии, а он обожает птиц. И что ему все равно, с кем из классных птиц щебетать за одной партой. Подписавшись (ему-то скрывать было нечего, да и почерки учеников не тайна за семью печатями), Славик сдал свой листок Марьиванне.
Казалось бы, ситуация исчерпана. Ан не тут-то было! Классная руководительница просто представить себе не могла, что без преувеличения открывает ящик Пандоры!
Она же и назвала это «новым поветрием».
Назавтра класс кучковался, сплетничал, делился слухами, перекочевывающими от ряда к ряду и от парты к парте. Физик Палпалыч назвал бы этот бардак броуновским движением. Так и казалось извне. Но изнутри всё было иначе. Ребята непрерывно, но закономерно, перемещались из группы в группу, обсуждая между собой хитросплетения детских любовей, о которых, вот те на (!), Славик ранее и представления не имел!
Оказалось, что еще раньше, чем Елисеев влюбился в Зябликову, она сама влюбилась в Каренина. А Каренин еще раньше втрескался в Воронову, а Воронова вообще давно – в Чернова, а Чернов – в Журавлеву, а Журавлева вообще ни в кого не втрескивалась, любуясь только на свои «пятерки» в дневнике.
И откуда что взялось?!
Девчонки, слетевшись в стайку, щебетали между собой о письме Татьяны к Онегину, а мальчишки – как бы попасть в кинотеатр на новый фильм, который «детям до шестнадцати» – «И дождь смывает все следы». Кто-то вообще принес в класс и тайком показывал друзьям «Камасутру»! Оба пола, и мужественный, и прекрасный, ругались и ссорились между собой. Обсуждалась и грядущая глобальная рокировка.
Славик во всех этих перипетиях активного участия не принимал. Какая разница, с кем сидеть за партой, если это все равно будет девчонка? А с мальчишкой – ну кто ж его посадит?
Но остаться над схваткой не получилось. Его пересадили одним из первых.
В принципе, за два года он уже привык к своей соседке по парте – старосте класса Людке Глухаревой. Средняя «хорошистка», она была гренадерских форм, на физкультуре стояла во главе класса, а уж за ней Каренин, потом Чернов и Славка.
Широкая в кости, сильная от природы Глухарева была настоящим старостой! Славка хоть и учился лучше нее, но был неусидчивым, болтливым, смешливым и озорным. Именно для сдерживания Славкиного темперамента Марьиванна и усадила их со старостой за одной партой.
Во время контрольных по математике Славка подшучивал над Глухаревой, намеренно закрывая от нее ладонью свою тетрадку. Тогда та невозмутимо, двумя сильными пальцами левой руки – большим и указательным, брала запястье соседа «в клещи» и крепко прижимала его ладонь к своей коленке, удерживая до тех пор, пока не спишет у него всё подчистую.
По должности или по велению души, но на всех родительских собраниях Глухарева старательно клеймила Славкину бесшабашность, приводя в пример Чехова («в человеке всё должно быть прекрасно!»), выдавала «на-гора» цитаты из Сухомлинского и Макаренко. «Предки» -заводчане внимали и млели от ее дисциплинированной начитанности. А придя домой, ставили Глухареву в пример своему непутевому чаду. И это было привычно и, по большому счету, правильно.
Ссылка Глухаревой за парту в последнем ряду отразилась прежде всего на успеваемости самой старосты. К тому же, ее оставили одну! Теперь не у кого стало списывать, да и обязанность воспитывать Славку отпала сама собой.
Новая соседка слева (Славка называл ее Светка левая) не имела начальственных полномочий. Фамилия ее была, как и у большинства девчонок класса, птичья – Бусел. По-белорусски – аист. Любительница бальных танцев, с круглым лицом, круглыми глазами и кругленьким же носом-картошечкой, она сразу предложила соседу стать ее партнером по вальсам и мазуркам. Зная увлечение своего нового соседа марками, Светка левая поначалу приносила в класс альбомы своего младшего брата. Но Славке это было малоинтересно, ведь меняться брат ей не разрешал.
Веселее было справа. А именно – Светка правая. Та сидела в параллельном через проход ряду.
Можно даже сказать, что Славка с ней подружился. Они постоянно хохотали на пару, передавали друг другу всякие там записки, и вообще… Светка была симпатяга с никогда не сходящим со щек розовым румянцем. Когда рука мальчика с запиской на миг касалась ее руки, извечный румянец Светки правой усиливался (хотя куда уж румяней-то!) и заливал все лицо. Поэтому, скорее из исследовательских побуждений, Славка старался подольше не отпускать ладошку правой соседки. Ну, в рамках приличий, конечно.
Надька Воробей сидела на задней от него парте и постоянно буровила взглядом затылок Славика. Вообще-то она была подающей надежды пианисткой. Надька старалась пресечь дружеские рукопожатия Славика со Светкой правой, несильно лягая сидящего впереди мальчика ногой по попе.
Сама она была девочкой пышной, с рано повзрослевшей грудью и ножками-«бутылочками». Когда Воробей бегала, грудь ее смешно поколыхивалась, а ножки напоминали ножки рояля. А бегала она часто. Сама заденет Славика, побежит, а тот – ну ей вслед! Догнав, что не составляло в общем-то большого труда, для смеху обхватывал Воробей сзади, сжимая как бы невзначай оба мягких холмика. Надька на миг переставала дышать, прямо-таки застывала, ловя «кайф», но через миг-другой «бездыханности» начинала бурно вырываться из некрепкой сцепки мальчишеских рук, разводя их в стороны музыкальными ладонями. Почувствовав свободу, Воробей опрометью летела куда подальше – в противоположный конец рекреации.
По мнению Славика, волей-неволей вовлекавшегося в новое «поветрие», грудь Воробей, бесспорно достойная, все же уступала по грации «прелестям» другой одноклассницы – Кукушкиной. Та обладала просто-напросто обалденной, отличающейся особо плавными формами фигурой с умеренными возвышенностями и изгибами-«легато». Ну прям тебе виолончель. Достоинства Кукушкиной впечатляли. С ней-то уж не забалуешь – строга! Но стоило той открыть рот, как очарование пропадало напрочь. Свистяще-шипящий голос безнадежно портил безупречную музыкальность внешности.
В силу обстоятельств, задумываясь на означенную тему, Славик иногда представлял себе идеал своей будущей возлюбленной. Профиль Зябликовой, «виолончель» Кукушкиной, мелодичный голос Журавлевой, легкий характер Светки правой, умение танцевать Светки левой и непосредственная чувственность Надьки Воробей.
Вот! Вот с такой бы нескучно и на необитаемом острове по (ве) селиться.
При всем при том, что девочкам он, как ему казалось, нравился (а что, характер нормальный, нрав веселый, да и вообще, пацан-то он видный), Славке все это было по сути своей «по барабану». Не вообще, нет. Гипотетически он понимал всю важность темы. Но не в смысле детских «любовей-морковей». Пока его привлекали спорт, марки, кино, друзья во дворе и другие преимущества детской жизни.
Вот и сегодня, насмеявшись вдоволь со Светкой правой во время урока литературы и набегавшись за Воробей, остаток большой перемены Славка посвятил обмену марками с Мишкой Далем.
Мальчишки тихо сидели за партой и увлеченно рассматривали альбом, когда кто-то тронул Славку за плечо. Обернувшись, он увидел Снегиреву. Эту девочку он знал, можно сказать, с пеленок. Мало того, что они родились в одном роддоме с разницей в день, что в детском саду сидели на соседних зеленых горшках, а теперь учились в одном классе, еще и его «предки» были приятелями-сослуживцами с родителями Снегиревой.
Девочка тем временем положила на парту два голубых билета в кинотеатр «Призыв», улыбнулась (немного искусственно), и громко, чтобы слышал весь класс, предложила:
– Слав, пойдем сегодня вместе в кино. В «Призыве» «Железная маска». Смотри – 6-й ряд, 10 и 11 места. Я вчера купила.
Славка от эдакой неожиданности чуть не выронил из рук редкую марку. Идти со Снегиревой в кино ему ох как не хотелось. Конечно, если б с Зябликовой или со Светкой правой – он бы еще подумал, так, ради престижа. Никого еще девчонки перед всем классом в кино не приглашали! Но Снегирева… Это ведь также обыденно, как под домашним столом с ней в войнушку играть, пока «предки» 1 мая празднуют!
Помявшись, с натянутой на лицо «лыбой», ответил:
– Ну ты знаешь, Наташ, я, в общем, сёдня не могу. Занят. У меня тренировка и всякое такое…
– Я так и знала. И вообще, не ври – тренировка у тебя не сегодня, а завтра, – выпалила звенящим голосом Снегирева и неожиданно отвесила мальчику звонкую, совсем взрослую пощечину. А потом повернулась и опрометью выбежала из класса.
Синие билетики в «Призыв» заколыхались от сквозняка и медленно спланировали с парты на пол.
Гомон в классе мгновенно стих. Оконная муха жужжала и билась о стекло. Крякнула под чьей-то ногой паркетина. Славик опустился за разрисованную шариковыми ручками парту, закрыл багровеющую, пылающую огнем щеку ладонью и уткнулся невидящим взглядом в раскрытый учебник.
Было очень, очень, очень обидно и хотелось плакать.
За что?
***
Зябликова сладко потянулась в постели и толкнула Славика в бок.
– Слав, вставай, уже темнеет. Тебе пора.
Вячеслав открыл глаза и, увидев нависшие над ним манящие губы Зябликовой, притянул ее к себе и поцеловал, ощущая отзывчивую упругость.
– Всё-всё, Казанова! Тебе давно пора. Снегирева, наверное, места себе не находит. Да и мой «королевич Елисей» вот-вот из командировки нагрянет. Марафет навести нужно.
Славка подскочил как ужаленный:
– Да ты что!
Через пять минут он уже был, что называется, как огурчик.
– Что сегодня своей соврешь? – улыбнулась хитро Зябликова, подравнивая мизинчиком подкрашенные губы.
Стараясь не соблазниться на прихорашивающуюся для Елисеева полураздетую подругу, Вячеслав выдал экспромт:
– Как что? Операция на сердце затянулась.
– И это почти правда, доктор! Затянулась, и надолго, – она потянулась к своему бюстгальтеру, – застегни. А щека-то у тебя пунцовая, совсем как тогда! Эх, Славка, две диссертации защитил, а врать так и не научился, – Маринка чмокнула его в пунцовую щеку.
Вячеславу даже в зеркало смотреть не надо было – половина лица горела огнем, совсем «как тогда».
Придя домой, он тихо отпер входную дверь квартиры, прислушался, снял туфли и в одних носках неслышно пробрался в спальню.
Жена уже спала. Ну и слава богу!
Выйдя утром к завтраку, Славка широко улыбнулся:
– Доброе утро, Нат.
– Доброе утро, Слав. Извини, тебя не дождалась, уснула. Как спалось?
– Прекрасно.
– А знаешь, у тебя ведь щека румяная.
Но щека-то не горела! Он бы почувствовал!
Славик потер лицо рукой и посмотрел на ладонь. На ладони краснели следы помады Зябликовой…
Валентин Толецкий
На днеФрагменты из романа
Beethoven. Sonata №31,
in a flat major.
Глаза открылись.
Но ничего не изменилось: та же темнота, что и прежде, и что-то в ней есть, различить невозможно, только представить…
Первым тихо заговорил вопрошающий: «Что там? Где? На чем все остановилось?»
И словно из глубины, невнятно слышится: «Там, на том дне лета». Что за день? Сторожащий время шепчет: «День лета Господня, десятое июня».
Ах, да, ведь и сегодня десятое. Ее день… Какое совпадение! Но про нее потом, потом.
Или не день, а дно? Дно лета?
Нет, это дно Леты.
Теперь он понял, где пропадал в долгие часы ночных забвений и затерянности.
Лета постепенно вымывает из тебя все, что ты знал и помнил раньше, но не все растворяет бесследно, часть былого навсегда остается на ее дне. Там и находишь свое забытое и незнаемое.
Но сейчас со дна надо подняться наверх.
Когда-то он легко уплывал против течения Леты – далеко, туда, где никто не сторожил время, где он невесомо витал в гамаке между сосен, улетающих с ним к таким же невесомым облакам в голубое небо – бездонное, там ведь нет никакого дна. И в солнечно-высокой хвое, чуть покачивая ее, ровно шумел не стихающий теплый ветер из-за ближнего леса, которому не было конца, как и детскому лету. А с террасы доносилось бабушкино: «Иди к столу!». «Иду-у-у!» – и на бегу босыми ногами ощущал смешное покалывание старых сосновых шишек в траве. И после обеда на велосипеде на станцию, где на деревянном прилавке под навесом продавали в газетных кульках лесную землянику, и запах ее смешивался в жарком воздухе с запахом горячих на солнце шпал – запахом дальней дороги и безвестных полустанков.
Все-таки надо всплывать.
Почему сегодня ушел на дно? Не много пили на проводах, не усталость навалилась.
Потому что вернулся сюда, откуда все начиналось, и здесь ночью затянуло в летний омут.
Хорошо, что вернулся, что этим днем, и до начала зимы еще можно быть. Что-то еще очень хорошее… Да, осенью последний раз наверх, на Дыхтау. И лишь только прозвучало внутри имя горы, ощутил холодящее душу дыхание вершины, и зардела закатным светом на далеком снежном склоне радость…
Поднялся, пошел к окну, с беспросветно задернутыми шторами, потянул тяжелую ткань в разные стороны – плеснуло солнцем на темный паркет, отблеснуло в зеркале. Открыл форточку. «Сквозь фортку кликну детворе: „Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?“» – «Третье тысячелетие, Борис Леонидович. Двор бездетный, безголосый, безлюдный, заставленный машинами. Но все еще висит у меня на стене портрет Толстого за столом, карандашный набросок вашего отца, подаренный мне вашим сыном Евгением Борисовичем».
Рядом ясноликая молодая бабушка, Валентина Михайловна, урожденная Толецкая. Весной четырнадцатого года вышла замуж, и они с мужем после венчания в Михайловской церкви посадили в своем имении Волотова, на берегу Сожа, дубок. Только он один теперь и остался от усадьбы. А в девятнадцатом году деда Александра Ивановича Козлова, праправнука поэта Ивана Ивановича, расстреляли красные как землевладельца и дворянина. И бабушка давно лежит на горке на Rokantikes kapines под Вильнюсом, недалеко от своей Польши.
Ниже мама с отцом, который здесь очень похож на Блока, между ним и мамой он сам, четырех лет.
Слева фотография Леонтьева, красавец с чуть раскосыми глазами —татарское наследство от Карабановых.
Достоевский.
На полке Пан, Приап, Афродита, Ахиллес, Арес, Атлас, кентавр, Геракл – бронзовые из Афин, Фессалоник, Родоса, собирал везде.
Все пока на месте, слава Богу.
Он двинулся дальше, по длинному темному коридору, задевая за торчащие углы книг на стеллаже, тянувшемся до самой двери. Хотел взглянуть, нащупал выключатель, но лампа зло сверкнула и погасла навсегда. В прихожей было светлее – из открытой кухни доходило немного света. И тут увидел: обе входные двери приотворены; оторопел от неожиданности. А… вот же что: забыл ночью запереть – от радости, что попал, что не сменили замки, что снова дома. Закрыл старинный замок с курком, крюк накинул. Вот и ключи валяются на скамейке под зеркалом. Два старых, тяжелых с кольцами и бородками и один поновее с замысловатыми зубцами. Вторую связку, кажется, не вынимал. Ночью ехал из аэропорта, и Юрий Иосич напевал ему из шестьдесят пятого года: «А счетчик такси стучит, и ночь уносит меня, от разных квартир ключи в кармане моем звенят». Ну, не в кармане, конечно, пока бренчали сбоку в сумке. Одни – отсюда, другие от теткиной квартиры в Москве, на Чистых прудах. «Как там Татьяна Борисовна моя? Два года ни от кого никаких вестей о ней. Они решили, что мне незачем».
Зашел в кухню. Холодильник отключен, пустой, кому он нужен. Как и сам он здесь. Главное, есть ли в шкафу кофе – есть, банка с зерном. Рядом и кофемолка. Если работает, утро состоится. В ванной редко и звонко по металлической сетке капало из крана – всегдашний звук опустевшей квартиры. Открыл окно, вдохнул утреннюю свежесть с подветренного заднего дворика, куда выходила ванная и где, стиснутый гаражами, столько лет пробивался к жизни худощавый клен. Прошелестел тихий привет, махнул зелеными ладонями. «Спасибо тебе, дождался меня».
Еще обязательно тупичок в конце следующего коридорчика, его детский угол, и за ним вечная домашняя тайна с незапамятных времен. Тут тусклая лампочка зажглась.
Это как будто вторая прихожая, с давным-давно заложенным небольшим оконцем и наглухо закрытой двойной дверью на черную лестницу. Здесь раньше стоял его подростковый «Орленок», теперь еще стоит его верный горный друг, с тремя звездочками на каретке и шестью на колесе – восемнадцать скоростей! Где только он на нем не носился! Казалось, взлетишь, когда разгоняешься под уклон, – но медленнее, медленнее, и вот он снова пропускает вперед другой велосипед, и едет за развевающейся голубой джинсовой курточкой. Но об этом потом, потом…
Тут ставили в угол в наказание. Он повернулся лицом к стене, уткнулся в нее, провел пальцем по обоям. Конечно, они не те, и не раз. Но запах тот же – похоже на камфару. От шкафчика с лекарствами. Так всегда пахло, когда болел. Что-то маленькое шевельнулось внутри. Заигрался, потерял во дворе новый волейбольный мяч, честно не помнил, где, с кем, стал что-то сочинять, пока вспоминал. Поставили за вранье. А он вовсе и не врал. Обидеться, заплакать; и, правда, слезы чуть-чуть выступили – не от обиды, а от возврата туда. Стал вытирать, задел ладонью щетину на щеке и усмехнулся. «Расчувствовался, старый мальчик».
И эта дверь. Такая же двустворчатая, высокая, как в их гостиную, с толстой бронзовой ручкой, темно-желтая краска на краях двери облупилась. Открывали ее при нем очень редко, еще реже ему разрешали заглянуть, что там, за ней. Однажды сильно ударился коленом, ездить уже не мог и раньше вернулся с улицы; покатил велосипед в ту прихожую и застал маму у двери, упросил еще раз зайти с ней туда.
В комнатах стоял полумрак из-за плотных штор, едва раздвинутых и прихваченных внизу витыми шнурами с кистями. Он жадно выхватывал глазами из полутьмы все, что было в комнатах. Комод со статуэтками из разноцветного мрамора, самая высокая среди них была бело-розовая нимфа, от изгибов ее тела и кругло выступающей груди он долго не мог оторвать взгляд. Рядом диван с высокой спинкой, обитый черной кожей, особенно блестящей с одного края – видимо, тут кто-то всегда сидел, догадывался он. Кто? Справа от входа маленький столик с овальным зеркалом, подсвечником, шкатулкой, все стояло на черной плетеной салфетке. За ним три книжных шкафа до потолка – пустых. Пахло не известной ему жизнью, старинным сухим деревом, слабо – чужими духами.
По громко в неживой тишине трещавшему паркету в следующую комнату, где посередине огромный стол, покрытый темно-вишневой скатертью с серебряными узорами, вокруг стулья с гнутыми спинками и ножками. Напротив двух окон, хотя и занавешенных, как везде, но дающих немного больше света, у стены стоял длинный поставец с витриной, в которой белели чашки, блюдца, вазочки, разные тарелки – похожие он видел у себя в гостиной. По обеим сторонам поставца на стене – картины в тускло-золотых рамах. Над столом мутно сквозь пыль поблескивали подвески на люстре. Между окон башней высились замолкшие Бог знает с каких времен часы.
И поворачивали направо, через скрипучую дверь с тяжелыми коричневыми портьерами, в третью комнату с печью в синих изразцах, с секретером, двумя большими креслами и большой тумбой, на которой стояли бронзовые часы, тоже потерявшие время, а над ней на стене висел гобелен с едва различимыми замками, лесами, охотниками и собаками. Рядом с печью был широкий диван, возле него шкаф. Мама посидела на диване, задумавшись, потом выдвинула ящик в секретере, достала бумаги, перебирала их довольно долго, пока он обходил комнаты, взяла из них одну, и они пошли обратно.
Только однажды открывали дверь в другую прихожую за этой комнатой, откуда был ход на последнюю лестницу, – он так и не знал точно, куда она выходила; скорее всего, на другую улицу. Много раз бродил с той стороны дома, возле примыкавших к нему флигелей, пытаясь угадать, в каком из них была парадная с ведущей к ним лестницей. Говорили, что в той прихожей в старину жила прислуга. В углу ее стояли черная чугунная ванна и такая же дровяная колонка на высоких ножках, отгороженные ширмой; сбоку от них, у окна, небольшая чугунная плита с четырьмя конфорками, столик, стул с продранной обивкой. В другом углу узкая дверь, наверное, в туалет. И прихожая, и ванная, и кухня вместе.
Когда вернулись, заперев замок на два оборота, мама велела ему хорошо вымыть руки и лицо и пошла к себе прятать ключ.
В детстве он придумывал, что там будто бы кто-то обитал, ну, хоть иногда. Ведь мог же тот человек приходить туда по той дальней лестнице. Тем более что тогда и позже, изредка стоя возле таинственной двери, казалось ему, слышал какие-то звуки. Конечно, мама заходила в те комнаты в то время, когда там никого не было и не могло быть. Но почему они сами не жили и в них? В ту пору никто не объяснял ему, почему и чьи они, просто говорили, что не наши комнаты, а он не понимал, как же так, если это продолжение их квартиры и ключ у них, и мама там бывает. И где теперь ключ? Мама незадолго до кончины сказала, что забрала Татьяна Борисовна и увезла в Москву.
Много лет живя в этой квартире, он временами свыкался с ощущением, что, здесь, во второй прихожей кончается его домашний мир; дверь словно сливалась со стеной, и он почти не вспоминал, что за ней. Очень редко комнаты открывались ему во сне; он просыпался со странным чувством, что спал там, а под утро вернулся в свой кабинет. Вскоре он забывал и о снах. Однажды он случайно с удивлением узнал, что те комнаты не значились в их ордере и почему-то вообще в ЖЭКе не числились.
Кофейные зерна, должно быть, давно лежавшие в банке, оказались все-таки не затхлыми (его дожидались? Марина заходила сюда и купила свежие?), а когда размолол их, привычно запахло бодрым утром, и скоро еще сильнее – из кофеварки началом хорошего дня. Хотя сколько раз это бывало обманом.
После кофе пошел в кабинет к столу и, не думая, зачем, открыл правую тумбу, хотя знал, что верхняя ее полка пуста, – незадолго до отъезда он сложил все в затрепанный спортивный чемоданчик и отдал Сергею, чтобы тот увез подальше и спрятал получше. Перед тем минуту колебался: не взять ли с собой? Но решил: пусть прошлое остается в прошлом, сейчас его ждет иная жизнь. Если когда-нибудь вернется и если вспомнит о жизни той, всегда можно будет вернуть и ее остатки.
А на нижней ему ничего не нужно. Все-таки наклонился заглянуть и в дальнем углу вдруг заметил что-то белое. Встрепенулось неясное предчувствие невозможного. Протянул руку и из щели между полкой и стенкой тумбы вытянул сложенный вдвое лист. Неверными руками развертывал, едва различал строчки, увидел подпись, дыхание замерло, а в груди и в голове ударило так сильно, что в глазах все залило темной водой – «темные воды Леты», успел он подумать, и через несколько секунд сквозь них стали проступать буквы, складывались в слова…
«У нас дует восточный ветер, он несет мне твой голос, веселый и открытый, нежный и глубокий, твой аромат, душистый, пряный, влекущий – вот и весь ты уже здесь, со мной. Я теперь живу в двух частях света, в двух часовых поясах, буквально в двух измерениях. Ты звонил, а пушка била полдень, у меня голова закружилась от усилия осознать, что тебя нет рядом, что ты безумно далеко. Сейчас почти десять вечера, слушаю Орфей – Бах, виолончель, очень созвучно нам – медленно, и тем глубже, с телесной пронизывающей дрожью.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































