Читать книгу "Плавучий мост. Журнал поэзии. №4/2016"
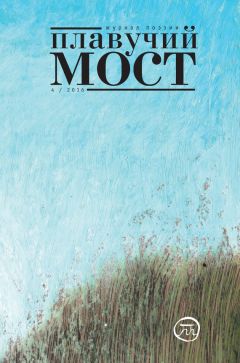
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Жертва вечерняя
Поколение рыбьего жира
Постепенно уходит из мира.
Пили вязкую жидкость для роста.
Подросли…
Доросли до погоста.
Для чего?! И кому было надо?
Воспитателям детского сада!
Им хотелось, чтоб мы без печали
После жира, как рыбы, молчали.
Мы шумели и спать не хотели.
Просто так. Без особенной цели.
А сегодня без всякого гула
Половина навеки уснуло.
… ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером водворяется плач, а на утро радость.
Пс. 29, 6
Сонет о русском Ниле
Вечером плач – а на утро
Радость от искренних слез.
Это прощает слабость
Сердцам сокрушенным Христос.
А в чём поэзии милость?!
Держит сочувственный вид,
Жертвы вечерней не просит,
Жалкой судьбы не простит.
«Не помню, погода какая…»
Томится праздный дух, что надо жить по вере —
Желаю я порой, как голубь легкокрыл,
В пустыню улететь. Там понимать, что звери
Верней людей. Но нет пока на это сил.
А там бы в тишине – в пустынной атмосфере —
Свет к свету собирал и бороду не брил,
И с ангелами пел молитвы я в пещере,
И на пески смотрел, и на зелёный Нил.
Я в городе живу. Не ем сухие травы.
И на камнях не сплю. Не приручаю льва.
Но все-таки и я, поверь, имею право
На непреложные и кроткие слова:
Не стоят ничего богатство, власть и слава, —
Надежнее стихи и неба синева.
Не помню, погода какая
Стояла, родился когда я.
И вряд ли я вспомню погоду,
Когда, обретая свободу,
Душа моя выйдет из тела.
Тепло было? Буря шумела?
Не вспомню.
На небе прохожий
Вдруг спросит: – Денёк был погожий?
Денёк, да и век, был короткий.
Всю жизнь слушал метеосводки.
Зачем?! Я ответить не в силах —
Лил дождь или солнце светило,
Стояла погода какая,
Родился и умер когда я.
Инна Домрачева
Мужчинам тоже знакомы чувства
Родилась 24.12.1978 в Свердловске. Выпускница факультета журналистики УрГУ (ныне – УрФУ). Участница товарищества поэтов «Сибирский тракт». Публикации в региональных альманахах «Крушение барьеров» (Екатеринбург, 2000), в сборниках «Дни творения» (Екатеринбург, 2002), «Шахматы» (Екатеринбург, 2003), «Мегаполис провинциальный» (Екатеринбург, 2005), в журналах «Урал», «Волга», «Сибирские огни», «День и ночь», «Новая реальность», «Белый ворон», в изданиях «Лучшие стихи 2011 года. Антология» и «Антология современной уральской поэзии». Вышли две книги стихотворений: «Обечайка» (серия «Только для своих» портала «Мегабит») и «Лёгкие» (серия «Срез» товарищества «Сибирский тракт»).
«Мотылек говорит второму: смотри, смотри!..»«Душ выключи. Забудь о феврале…»
Мотылек говорит второму: смотри, смотри!
Или нет, догоняй скорее, лети за мной,
Мы уснём поиграть в людей, у кого внутри
Осыпается звон хрустальный и медвяной.
Мы не знали – мелодию глушит любая дрянь,
И того, что твердеет воздух, произнесён,
И всё жальче к рассвету людьми оставаться впрямь,
Хорошо бы уснуть и увидеть, что это сон.
Всё, что пело, летало, бегало и росло
Не забудь, и вот этот камень ещё возьми,
Ты досадливо говоришь: потянул крыло,
Но ещё минуту мы снимся себе людьми.
«Неба не было, было пятно…»
Душ выключи. Забудь о феврале.
Взгляни в окно расслабленно и бегло:
Там зной решился в паспортном столе
Переменить фамилию на пекло.
Река мелела, погибал ручей,
Бежала прочь вечерняя прохлада,
И небо становилось горячей
Сковороды обещанного ада.
Безветрие играло в города,
Жара крошила скулы истукана,
И высыхала горькая вода
В глазницах мирового океана.
«Из реальности, словно из класса…»
Неба не было, было пятно
От луны среди хмари и веток,
Лето длилось и было пьяно,
Как на лавочке в сквере подлеток.
И слова заскреблись изнутри,
Незаметно и робко сначала,
Говори что-нибудь, говори,
Чтобы я, цепенея, молчала.
И в ушах раскатился прибой,
Без амнистий и даже кассаций,
Я казалась довольной собой,
А потом я устала казаться
И стояла, держась молодцом,
Лишь на скулах горячие пятна,
С беззащитным и глупым лицом,
По которому сразу понятно.
«Четыре часа утра. На дороге пусто…»
Из реальности, словно из класса,
Изгоняемый думает – стоп!
Со вчерашним совпали цвет глаз и
Папиллярные линии стоп.
У берёзы, растущей из крыши
На ослепшем бараке под снос
Беззащитно и даже бесстыже,
Кровь светлей и прозрачнее слёз.
Станет слух осязанием звука,
В полночь бездны суфлируют псу,
Можно прятать в прощанья разлуку,
Если дерево прячут в лесу.
Разлучаемый, бесцеремонный,
Без ребра остающийся куб,
Он оттиснет печать Соломона
На шершавом пергаменте губ.
«змей был тестировщиком, а яблоко – баг-репортом…»
Четыре часа утра. На дороге пусто.
На зеркале – птичка, за зеркалом – Пугачёва.
Конечно, мужчинам тоже знакомы чувства,
Вот чувство голода – очень сильное, к слову.
Кафе на обочине. Может быть, даже вкусно.
До города – двести, всего ничего осталось.
Конечно, мужчинам тоже знакомы чувства —
Внезапная, неотменяемая усталость.
Как в восемьдесят седьмом самолётик Руста,
Спикировать к ней на двор сквозь дожди и зимы,
Конечно, мужчинам тоже знакомы чувства —
Невыносимо же, право, невыносимо…
Погнали к Петру, если будет проезд к воротам,
А если не выпустят – на проходную ада,
Но крест в неоновой краске за поворотом,
Раскинув ладони, машет – браток, не надо.
Внезапно из рации голос, притворно строгий,
Как будто подслушал ненужное, даже слишком:
«На двадцать втором километре – ремонт дороги».
Спасибо, братишка.
Спаси тебя бог, братишка.
«Здесь вырывают волосы, скалят пасть…»
змей был тестировщиком, а яблоко – баг-репортом,
добро и зло отличались вкусом, но чаще сортом,
в большинстве они были с ещё не выведенного древа,
из того оборота, где strawberry fields forever.
а ева была уязвимостью, ева была проблемой,
ранкой, некстати надсаженной жилкою подколенной,
и даже не человеческим фактором, а настоящей бедою,
тёмной от крови с жёлчью горькой слюной густою.
я не хотела родиться евой, это доводит до исступления.
откуда синяк? подрался с никитой, чтобы не лез к лене. я,
мама, не думаю, что девочки должны варить и качать железо,
но она же тоже ходит на каратэ, и могла сама ему врезать!
понимаешь, сын, в том куске кода, который описывал еву,
уязвимость была прописана в начале строки, слева,
и когда этот участок закомментарили, вывели из работы,
ева перестала быть женщиной. стала ботом.
«Хвоинка в зубах, кивком отброшена грива…»
Здесь вырывают волосы, скалят пасть,
Здесь инвалидность духа зовут любовью,
Надо же было так хорошо попасть,
Это не сказка, это Средневековье.
В небе висят драконы, звенит в ушах,
Ложные сущности переполняют стеки,
Нечего ездить на крысах и на мышах,
Время поставить опыт на человеке.
Пьяный вагант задушил гончара струной,
У оружейников скидки на меч и стрелы,
Странные люди снятся тебе весной,
Ты не о деле думаешь, Синдерелла.
Коршун умеет падать не только вниз,
У реактива какой-то не тот оттенок,
Зёрнышко воздуха в плевру, не промахнись,
Зёрнышко крови – в полуживую вену.
«Перед белым воющим гробом скорой…»
Хвоинка в зубах, кивком отброшена грива,
Разбитые кисти, ментоловый взгляд инородца,
Первый симптом человека на грани срыва —
Он вечно удачно шутит и часто смеётся.
Это тебе. На конверте гуашью – «Каю»,
Мы с ней намедни столкнулись на биеннале.
Уши горели вчера, до сих пор икаю,
Чем, улыбается, вы меня поминали?
Парни твои писали, играют в «Мальмё»,
Спрашивали, каково тебе в теореме?
Холодно, отвечает, а так нормально,
Даже отлично, только знобит всё время.
«Мы искренние. Мы глупые…»
Перед белым воющим гробом скорой
Воин останавливает коня,
И святой Дракон говорит Егору:
Если хочешь славы – убей меня.
Можно говорить и молчать некстати,
Убегать на фронт и чураться свар,
Но в любом сюжете ты – покупатель,
Впрочем, вероятней всего, – товар.
Если бы умел я, то вырос песней,
Я б щадил людей и разил врага,
У Егора вид непристойно честный,
Даже для героя и дурака.
А святыни, ценности мне не впору,
Истина по курсу один к пяти,
Браво, отвечает Дракон Егору,
Ты успешно продал себя пути.
С. И.
«Ариадна, спрашивает он тихо…»
Мы искренние. Мы глупые.
Мы верим словам: «Уходи!»
Глазами растерянно лупаем,
Ломается что-то в груди.
Подумай, действительно гонят ли,
Не в соль обращаясь – в угли.
Они ж это всё, чтоб мы поняли!
А мы уже правда ушли.
«Реальность, чем её ни мерьте…»
Ариадна, спрашивает он тихо,
Измучённый этой гонкой безоглядных доверий,
А где выход, как выбраться из лабиринта?
Иди к центру, отвечает она, иди к болевому центру.
Там, откормленное и тренированное,
Дремлет моё бешеное самолюбие,
Разбуди его – и выберешься на волю.
Одного не знаю, Тезей, —
Как назовут тебя там, снаружи…
Реальность, чем её ни мерьте,
В простых предметах – койка, хлеб,
Восторг и чувство близкой смерти,
Как в ливень у опоры ЛЭП.
А те доверие и нежность
В дешёвом фантике из фраз —
Они тебя убьют, конечно,
Но, может быть, не в этот раз.
Светлана Максимова
Преображение боли
(Цикл стихотворений)
Максимова Светлана Борисовна. Родилась в 1958 г. в городе Харькове, через четыре года семья переехала в город Макеевку Донецкой области, где я закончила среднюю школу, училась на филологическом факультете Донецкого университете. Не закончив обучение в университете, в 1992 г. поступила в Литературный институт им. Горького, семинар Евгения Винокурова. В 1987 г. закончила Литинститут, в 1988 г. вышла первая книга стихов «Вольному-воля», затем еще четыре в разные годы. Лауреат премии им. Сергея Есенина за 1996 год. Многочисленные публикации в периодике. В 1996 г. работала в Южной Америке над мемуарами эмигрантов первой волны, в результате родился роман «Хождение за три солнца», отдельные части публиковались в журнале «Дружба народов» 2003 год, № 10 и 11, 2014 год № 7. Занимаюсь живописью и музыкально-поэтическим театром, играю на австралийской трубе диджериду в собственной группе «Этно-Миф». Сейчас проживаю в городе Голицыно, Московской области. В городе Макеевка Донецкой области живет моя мама.
Преображение – август 2014
И смотрю, запрокинувшись, долго я
в небеса и глаза предвечерние…
Пахнет яблоком белое облако —
это, матушка, Преображение.
Пахнет яблоком белое облако
над Украйной, когда-то радужной.
Через поле оплавленный колокол
черным яблоком катится, матушка.
И не знает, кому довериться —
звонарю, иль блуднице яростной.
А густое цветенье вереска
пахнет яблоком, пахнет райским-то
тем соблазном в тиши пожарища,
где целует беда в уста…
Мама, в косы вплети, пожалуйста,
мне лишь райские ветры августа,
А не эти, что пахнут порохом,
на лету поджигая аиста…
Через душу оплавленный колокол
черным яблоком катится…катится…
Между верою и неверием
разрывается это яблоко.
Мама, мама… Раскрыла двери ты
В пламя праздника и… заплакала…
Моей маме и Юре Юрченко
«Преображение боли…»
Другу поэту, который ушел на войну
в степи, где я вырастала пацанкой упрямой,
верю ли я? А кому еще верить? Кому?!
Как пережить невозможную эту вину —
то, что я здесь, ну а мама моя… Ну, а мама…
В праздник пресветлый Фаворского света звоню
старенькой маме, чтоб голос хотя бы услышать.
«Преображение нынче», – я ей говорю.
Слышу в ответ – рев снарядов над крышей.
«Ну, ничего, – отвечает, – что людям, то й нам.
Ты не волнуйся, мы здесь отсидимся в подвале.
Это война…» А зачем она эта война,
Старая мать понимает едва ли.
Помню, сказала: «Куда я поеду, куда?..
Это мой дом – здесь и справят однажды поминки.
Здесь рушником расцветала речная вода.
Ну, а теперь нет ни капли во рту, ни росинки…»
Это так больно, что боль не сложить мне в слова.
Это так больно, что боль прерывает дыханье.
Эта страна обезумела, словно вдова,
что посылает своих сыновей на закланье.
Эти гробы, что приходят с обеих сторон…
Чья в них победа, ответь мне, и чье пораженье?
Этот огонь… Эти стаи орущих ворон…
Преображенье твое, Украина, преображенье.
«Господи наш Спасе…»
Преображение боли
в то, о чем не сказать —
в небо над полем боя,
где открывают глаза,
смертно обнявшись двое.
Как хорошо им обоим
больше не убивать.
Преображение боли
в песню, что пела мать.
Клонится над тобою,
тянется поцеловать…
«Старенькая, схоронившая сына…»
Господи наш Спасе,
все-то Тебя мы славим —
мама моя в Донбассе,
ну, а сестра – в Полтаве.
«Спой мне, родная, спой мне, —
шепчет в степи трава, —
в этой пустой обойме
только любви слова…»
Мертвого слышит мертвый,
Ну, а живой едва ль…
Так мне сказала мама
и повторила сестра
возле сожженного храма
взорванного родства.
Они звонят друг другу —
и каждая плачет в трубку.
А я звоню им обеим
и даже плакать не смею.
Обращение
Старенькая,
схоронившая сына,
дочь, отпустившая петь
в небеси,
смотрит в окно
и молчит…
Украина,
в жертву кого
хочешь ты принести?
«Лети, моя вера тихая…»
Господи, я говорю тебе прямо —
вот моя боль и вот мое имя…
На Украине живет моя мама
и плачет слезами моими.
А у меня уже слез не осталось.
Друзья увидят глаза сухие
и говорят: «Это просто усталость…»
Зачем ты в детстве послал стихи мне
в образе ангелов белых-белых,
а они потом снайперами обернулись
в том самом хоре, где девушка пела.
На каждой из пройденных мною улиц
они держали меня под прицелом —
на крыше взорванной школы Беслана.
Как же теперь мне остаться целой?!
Как после этого быть слабой?!
Если в огне рокового часа
мир содрогнулся от нашего братства —
раною стала икона Спаса
в храме разрушенном – в сердце Донбасса!..
И это я говорю без метафор,
А просто с оливковой веткой в клюве
в пустом ковчеге своем метаясь,
листки роняя – любит, не любит…
Листки календарные – любит, не любит… —
на воду ложатся в безлюдной глади.
И город чудесный всплывает из глуби,
Где мама мне гладит белое платье.
А утром кладет его к изголовью.
И мы живем в коммунальной квартире
с такой, о Боже, к тебе любовью
в таком прекрасном и добром мире.
И я не знаю иного исхода
И выхода я другого не знаю,
когда все ясней и ясней год от года
оттуда – из чуда – к Тебе всплываю.
«Прощенье… словно отраженье…»
Лети, моя вера тихая,
спеши впереди души
по лезвию вдоха-выдоха,
туда, где точат ножи
над тоненькой пуповиною,
где бьется мой бог внизу
и сердце его воробьиное,
похожее на слезу,
по форме пули отлитое,
завернутое в лоскут,
с игрушечною молитвою
зарытое в талый грунт…
И названное вселенною,
где в горстке одной земли
убийцы и убиенные
никак найти не смогли
то место в своем отечестве,
где каждый из них – дитя —
хоронит в слезах младенческих
несчастного воробья.
«Мама моя голодает…»
Прощенье… словно отраженье
одной любви моей в другой…
И непонятное решенье —
взмахнуть рукой,
тебя как будто призывая…
Смотри же, это я стою,
уже седая, но живая,
и душу слушаю твою,
что по стеклу дождем струится.
Какой же, Боже, в этом стыд,
коль сердце бедное, как птица,
по-человечьи говорит?
А вот смешно, а вот нелепо —
такой живой такое сметь.
Я забываю слово «небо»
и вспоминаю слово «смерть».
Оно мне кажется каким-то
приотворенным, словно дверь.
И нет ни боли, ни тоски там,
где спят друзья мои теперь.
И в этой вечной колыбели
никто не плачет уж навзрыд,
Но тихо-тихо… еле-еле
по-человечьи говорит.
Чужесть
Мама моя голодает
в вольной своей Украйне.
Ангелы к ней прилетают.
Справа, который крайний,
крошки в ладонь собирает —
голод на небе тоже.
Слева, который, играет
ей на губной гармошке.
Вместе они толкуют
вот на какую тему:
как это там рифмуют
где-то о них поэму,
если на завтрак – крошки,
да и на ужин – крошки,
если дыханье божье —
только в губной гармошке.
Справа и слева – крайний —
глупым поэмам внемлют.
И под цветком герани
их зарывают в землю.
«Малые мира сего…»
Чужесть царит на свете.
Чужесть страшней чумы!
Эти чужие дети —
Господи, это мы!
Тот, о ком сердце болело,
как же ты стал чужим?!
Чужесть на свете белом
стелется, словно дым.
Дочиста прогорело —
нечего поджигать!
Чужесть меня пригрела,
словно родная мать.
Ей же сдались на милость
села и города.
Заново породнились
Чужестью навсегда.
Ночью в слезах проснулась
бабка в селе одна.
Чужесть домой вернулась —
плачется у окна:
Матушка, обними меня,
матушка, обогрей.
И от чужого имени
освободи скорей!
Мается Чужесть, стучится —
плачет старуха во сне.
Поезд товарный мчится —
мимо в ее окне.
Дверь распахнулась – Ну же!
Доченька, ты моя —
И обогрела Чужесть —
и обняла себя!
«И глухие воскликнут: «Ответствуй!..»»
Малые мира сего,
жить на отрубленной ветке —
холодно и высоко…
Падают к Богу монетки
все сквозь дырявый картуз
у музыканта-калеки.
Он же не дует и в ус —
Струны, прижатые к деке,
левою… левой одной…
– Как он играет, о Боже! —
то ужаснется порой,
то восхитится прохожий.
Нужно родиться в аду
ангелом и самородком,
чтобы на третьем ладу
струны зажав подбородком,
левою… левой одной
Моцарта, Шуберта, Баха…
– Что это, Вольфганг, со мной? —
Спросит Сальери, без страха
выпив свой собственный яд,
губы платком вытирая.
– Это, мой друг, музыкант
где-то в России играет.
Странница
И глухие воскликнут: «Ответствуй!».
И немые ответствовать станут.
Эта белая ночь погорельцев
и рубахи белей покаянной.
Все она осветила дороги.
все дороги к сгоревшему дому.
Там стоит тишина на пороге
и подобна Господнему грому.
Матрёшки
И где я ни присяду – на облаке, в трамвае ли —
а все со мною странница чудная заговаривает.
Не про жизнь,
не про смерть,
а про алую ниточку,
мол, повязаны мы —
от запястья по щиколотку.
Да про матушкин стон
вспоминает, вздыхая,
глядя в птичье гнездо:
не она ли?.. Она ли!
А, сколь матушка моя, говорит, ни умирала —
все плакалась-жаловалась, что не полетала.
Дай, говорит, смертушка, я да полетаю,
А потом приходи, но с другого краю.
Я случайно ведь в мире собой оказалась,
Я случайно рождалась, случайно венчалась…
Я случайно не зверь, и случайно не птица,
Я случайно, не знаю, какая страница
молитвенника, что раскрыт при дороге,
а там говорится о ласковом Боге,
что любит и нежит, крыла расправляет,
как будто, и вправду, страницы листает.
Крыло и крыло – я молитвенник-птица,
и вся я раскрыта на этой странице,
где время лететь мне давно уж приспело, —
Сказала та странница и… полетела…
Преображенное яблоко
Когда бы небеса почаще разверзались!..
Когда бы жизнь моя – один мгновенный шок!..
Но что за тишина… И дремлет на вокзале
старуха, навалясь щекою на мешок.
Как в детство, в небеса впадая понемножку
и обретая вид затертой хохломы…
И вот уже в нее, как в старшую матрешку,
вошли и купола, и древние холмы.
Под теплою щекой – матрех нижегородских
полнехонек мешок на ярмарку зари.
Мне кажется, что я, из крохотных и кротких
матрешек тех – одна, последняя внутри.
Что свет на мне свои владения смыкает,
на плечи мне взвалив огромную вину.
Но что за чудеса!.. Вот век меня ломает —
а изнутри еще находит не одну!
Преображенное яблоко маме
я подаю на таком расстоянье,
что только сердцем и дотянуться
через безумства всех революций.
Через руины, разрывы и пламя
преображенное яблоко маме —
не на ладошке далекого детства,
лишь на своем растревоженном сердце.
Худенькая, в белый луч истончившись,
в белом платочке – все выше и чище
над пепелищем родимым сияет,
яблоко света в ответ посылает.
Трубки коснувшись едва телефонной,
яблоко света сжигает айфоны.
Яблоко жизни летит над боями,
бьется, как сердце в древнем Бояне,
что из веков к нам взывает глубинных
голосом мамы моей голубиным:
«Чтоб не случилось, держитесь, держитесь
преображенного яблока жизни.
Ведь все равно мы родные, родные,
хоть исклевали, как гроздья рябины,
вороны наша сердца, раскровавя.
– А все равно, я живая, живая, —
шепчет земля, наши корни вздымая, —
вот посмотрите, я – ваша, родная!
Сколько б ни выпало скорби и горя,
Древо растет из единого корня
Лишь для того, чтоб зажглось на вершине
Преображенное яблоко жизни!»
Вот потому облаками, корнями,
сердцем тянусь я к старенькой маме —
к веточке верхней, к вечной отчизне,
к преображенному яблоку жизни.
Игорь Касько
Стихотворения
Родился в УССР. Образование высшее (военное училище). Автор книг «Многоточия надежды…» (2014) и «Сорок четыре одиночества» (2016). Поэт, переводчик, публицист. Один из основателей ставропольской литературной группы «Кавказская ссылка».
«Давным-давно, когда я не был взрослым…»«Всё сбылось…»
Давным-давно, когда я не был взрослым,
Когда деревья плыли в высоте,
Ответов было меньше, чем вопросов.
И мне казалось, в основном, не те.
В пять лет прочёл «Букварь». А дальше – больше…
Как снежный ком росла моя печаль.
Зверел, предупреждая, колокольчик:
«Уймись, остановись!», он мне кричал.
Я думаю, что если бы взобраться
На гору книг, что я за жизнь прочёл,
То Джомолунгма – ниже, точно, братцы.
Я посчитал (и морду кирпичом)!
Мне – сорок три. Ни родины, ни денег.
Есть дом и сын. И саженцев – сады.
И, вроде, я не конченый бездельник.
И мог бы жить, но… книги. Жди беды
От многих знаний, всяк сюда входящий.
Мир книг сейчас далёк от мира лжи,
Что величают громким словом «жизнь».
А книжный мир – он самый настоящий.
Всё сбылось. И даже то, что сбыться
не могло ни при каком раскладе.
Яблоня засохла. Меркнут лица
уходящих в небо. Ветер гладит
крышу хаты, треплет занавески,
что торчат неряшливо из окон
с выбитыми стёклами. Довеском
из непрочных реденьких волокон
кажется забор. И нет калитки.
От сарая – кирпичей да щепок
небольшая куча. Маргаритки
робко смотрят из-под крупных кепок
лопухов. Разруха, запустенье
правят бал в, живом когда-то, доме,
помнящем и радость, и веселье.
А теперь лишь карточка в альбоме
нам напомнит о родимом доме,
где мы жить и умереть хотели.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























