Текст книги "Артикль. №5 (37)"
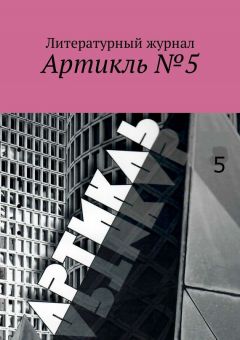
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Инна Иохвидович
Об Але и Мае«…Человеческое тело… наиболее чувственный, и при этом единственный источник радости, боли и истины… любое прикосновение оставляет на нём след», – утверждала, польский скульптор Алина Шапошникова, но читавшая эти строки Мая то соглашалась с ней, то категорически отрицала…
Но после приезда с выставки скульптора она задумалась. Не только её работы поражали и потрясали, но то, что пришлось ей узнать о самой «Алине, Але» (так теперь она называла её про себя), заставили задуматься.
Сидя в глубоком кресле, прикрыв веки, Мая думала об удивительной схожести и одновременно несхожести их судеб.
Алина была на двадцать лет старше неё, но родилась в году, что тоже заканчивался на цифру шесть! Так же, как и Мая, родилась Алина в еврейской семье. У обеих матери работали врачами. Но в двенадцать Аля, незадолго до того пережив смерть отца, оказалась сначала в сменявших друг друга гетто разных городов, а уже потом в лагерях смерти – в Аушвице/Освенциме и в Берген-Бельзене. И, если бы у матери была иная профессия, а не была б она хорошим врачом, то не выйти было бы им обеим на белый свет. По всей видимости, мама Али была практикующим терапевтом. Но, если бы Мая с со своей матерью, врачом-рентгенологом очутились бы в концентрационном лагере, то вряд ли им удалось бы спастись!
Девятнадцатилетней девушкой вышла Алина Шапошникова из ада концлагерей…
Думая о собственной судьбе, Мая благодарила Провидение за то, что ей пришлось родиться через год после войны. И уже одно только это, будучи в преклонных летах, Мая считала огромнейшей жизненной удачей.
Она вспоминала, как в отрочестве и в ранней юности, она, как и Алина, отдала дань увлечению идеями построения коммунизма, веруя даже в такие частности, как в бесплатный общественный транспорт к 1980 году. Она, так же, как и Аля, разочаровалась в этом.
Но, если Алина уродилась красавицей, на облике её даже концлагерь не оставил своих следов, то, живя в мирное время, в благополучной семье, Мая с удивлением наблюдала за происходившими с нею в отрочестве метаморфозами. За превращением себя, хорошенькой, с правильными чертами лица, гармонично сложенной девочки в незнамо что?! В ставшую малого роста, толстоватую девушку-подростка с большим еврейским даже не носом, а шнобелем! Он-то первым и бросался в глаза при взгляде на её лицо. Не спасали даже печальные карие глаза, опушённые длинными ресницами…
Но, если в своём творчестве Алина Шапошникова была сосредоточена, как писали о ней искусствоведы, на проблемах интимности, то Мая, начиная со своих нелепых первых, написанных ею опусах, на поисках несуществующего чувства – любви?!
Роднило их то, что обеих интересовало их собственное тело, обе были, по-разному, но нарциссами в женском роде.
Но, если у Али это было от избытка женственности, то Мая страдала от недостатка эстрогенов – женских половых гормонов.
Она с ума сходила из-за собственной волосатости. Волосы были всюду, на руках, на ногах, на лице, усами и бакенбардами, в ложбинке, между двумя, вытянутой формы грудями, как в народе их называли: «уши спаниеля».
Иногда, когда она оставалась в квартире одна, то раздевшись, смотрела на себя в полный рост, на своё отражение в большом зеркале и не сдерживала катящихся по щекам слёз…
«Какой уж тут интим!» – сморкалась совсем юная девушка в носовой платок.
Чтоб как-то справиться с этим своим, как она называла, уродством, годами она посещала кабинеты эпиляции, с их процедурами, дорогими, болезненными и мало что изменявшими в её внешности…
А в это время Алина Шапошникова переехал на жительство в Париж.
Для отливки своих скульптур ей не требовалась натурщица. Она отливала себя, была для себя Natura Vita.
Но с начала семидесятых у скульптора Шапошниковой пошёл цикл «Новообразования». Окровавленные бинты, «слеза» в виде женской груди – тяжёлый ассамбляж, таким образом она словно бы оповещала мир о болезни своей, смертельной…
В последних работах Аля уже не отливает себя, своё истерзанное болезнью и пытками лечения тело. Теперь она отливает тело белокурого ангела – своего сына.
Потому что запоминание тела, сохранение не сохраняемого – это и есть её скульптура.
Всё её творчество теперь – это уже не столько эротический, сколько эротико-танатологический трактат.
Танатос, как и всегда, одерживает победу над Эросом… Алина Шапошникова умирает 2 марта 1973 года… Таков конец всякой жизни, даже не столь трагичной, как у Алины. В анамнезе её болезни не одна маммакарцинома, а и гетто, и Аушвиц/Освенцим, и Берген-Бельзен…
Мая в 1973 году пишет свои опыты, это один из первых годов её занятия литературой. Именно от невозможности полноценной женской жизни она обратилась к писательству, как к спасению. Да и бессмысленность существования подступала вплотную…
Потом Мая родила дочь от дружка, красивого, моложе неё лет на семь парня.
Дочь и писание стали основой и смыслом её жизни.
Но и её настигла общая, их с Алиной болезнь – маммакарцинома. Мая, ошарашенная этой новостью, поначалу ничего не может понять. Ведь эта разновидность рака, как считается, бывает у красивых женщин, у очаровательно женственных. Обычно у воплощения женственности?!
«За что?! – кричало всё внутри неё, – мне-то за что?!»
И вновь, после операций и облучения, Мая благодарила Бога за то, что родилась тогда, когда научились хоть как-то справляться с роковой болезнью. Ведь её девочка-дочь, ставшая девушкой, ещё нуждалась в матери, ещё была совсем-совсем молоденькой. И Мая просто не имела права на смерть! А кроме всего, до своих читателей, пусть и в интернете, она обязана была донести своё знание: «Что рака бояться нечего, как ни страшен был он, и что даже есть «жизнь после него», пусть и не совсем комфортная. Она написала мини-повесть «Скорбный лист или история моей болезни: введение в танатологию». Все её новеллы были теперь о человеке болеющем, о человеке смертном… Она писала о раковых больных и диабетиках, о тех, кто жаждал любви да потерпел крушение, о курении, как о секундном спасении, первой затяжке, и о курении, как о причине многих болезней… Обо всём этом пугающем, что сопровождает человека в его жизни. А путь жизни и ведёт прямиком к Ней!
Она поняла правоту Алины, писавшей: «Неуловимое, ничтожное мгновение – вот единственный символ нашего земного бытия»…
Времени на дальнейшие размышления об эротико-танатологическом трактате великой Алины Шапошниковой не осталось. Потому что закипел чайник, и пришлось заливать кипятком воздушные овсяные хлопья. Мая была обязана их съесть перед вечерним приёмом лекарств и инъекций…
Эстер Пастернак
Неизвестная внутренняя АфрикаВ воображении всегда меньше эгоизма, чем в воспоминании.
М. Пруст
Коричневая бабочка, шурша крылышками, приникла к зеркальной глади. На подоконнике по-прежнему лежала стопка неразобранных фотографий. Только из одних надписей можно было написать рассказ. На горизонте колебались медные нити рассвета. Мамонты холмов вписались в низкие облака, а желто-седые склоны просвечивали насквозь, точно сделанные из папиросной бумаги. В расплывающихся красках плавали тысячи пылинок и, казалось, что ничего больше не будет, кроме этих минут, сотканных из искристых точек августа, подернутого серо-голубой дымкой.
Внезапный порыв ветра сбросил несколько фотографий, и взгляд Аси остановился на одной – поле черных ирисов. Она помнила это поле, только его больше нет, – вместо него жилой район. «Архивная фотография. Впрочем, не только эта…» В банке из-под кофе что-то позвякивало. Она сняла крышку, и на ладонь выкатился красный сердолик. Ася была уверена, что камень давно пропал. Положив сердолик в шкатулку, она открыла картонную коробку из-под обуви. Модели детских машинок. «Такие игрушки уже не производят, сегодня все одноразовое…» Ее отнесло к другому берегу – к детству сыновей. Этой машинке пятнадцать лет, а этой одиннадцать… Волшебный источник памяти, удивительный материк, очерченный зыбкими контурами. Она поднялась, но, по-видимому, слишком поспешно – машинки рассыпались по полу, и разъехались каждая по своему маршруту. Сейчас она думала о том, что ни одна из многих дорог, по которой они с Йони успели пройти, не была так близка ей, как эта, последняя из тысячи первых. Ася развязала тесемки на папке с рисунками, на которой детским почерком было выведено: «Живопись. Ш. П.».
В конце дня она заехала за сыном в поселение «Санур», деревню художников.
– Клоун у тебя получился замечательный!
– Мама, я не хочу быть художником.
– Это совсем необязательно. А кем ты хочешь быть?
– Еще не знаю.
Августовские ножницы раскроили день. Из зеркала на нее глядело усталое, осунувшееся лицо. В одиночестве последних дней Ася чувствовала себя Азовским морем – азов, лаазов. Странное ощущение не оставляло ее, ощущение западни, как раз в том месте, к которому она так стремилась. До приезда Йони оставалось прожить вторую маренговую ночь. Завтра в Рехане соберутся желающие созерцать падение метеоритов. Она вспомнила полыхающую ночь 17 января 1991 года. Огненные дуги ракет прорезали высокий небосвод, несясь на Тель-Авив, и казалось, не ракеты, а они с Йони перемещаются в пространстве. Интересное это слово – созерцание; с-озерцо, а может с-ладонь? Есть в нем оз – отвага и есть отрицание. «Жизнь – великая неожиданность. Я не вижу, почему смерть не могла бы оказаться еще большей». Это Набоков. У нее же наоборот: «Смерть – великая неожиданность всегда, я не вижу, почему жизнь не могла бы оказаться еще большей». И оказалась. Ася помнила странное ощущение ухода глубоко в подсознание вселенной, когда всё, дотоле называвшееся емким словом «смысл», разбилось на мелкие осколки беззащитности. «Нет, нехорошо это, – она отрицательно покачала головой, пытаясь освободиться от нежелательных мыслей – лучше оставим эту „неизвестную внутреннюю Африку“11
В своем романе «Абу-Тельфан, или Возвращение с Лунных гор» (1867) Вильгельм Раабе назвал расщепленное человеческое сознание «неизвестной внутренней Африкой».
[Закрыть] другим и пойдем дальше, точнее, вернемся дальше».
…и вот опять стою я перед домом
пронзительно, пронзительно знакомым,
и что-то мысль мою темнит и рвёт.
В. Набоков
«Давным-давно…» – так всегда начинаются сказки, – угодно было Творцу сделaть их обитaтелями своеобрaзного места на севере Самарии, небольшом причудливом островке в тридцати километрах от ближайшего города, и в двадцати от Средиземного моря, с контрастами от бархатной погоды до сильного ветра, летящего с моря. По сути, сегодня все это уже история.
…Моросил дождь. Скалы пребывали в странной сонливости. Полная луна смывала кузнечиков в ручей, и во всем преобладала медлительность движений, некий отрезок времени, имеющий для Аси особую ценность, поскольку она знала, что даже самому значительному событию в жизни человека ни в чем нет продолжения, и все пережитое повторяется лишь в воспоминаниях.
– Ты помнишь змею на финиковой пальме?
– Помню. Дан убил ее выстрелом из охотничьего ружья.
– Убил, а она продолжает жить.
– Как это?
– Не знаю. Она откуда-то выползает. Слышишь, деревья источают запах ранней осени, а птички поют: “ Тивись фью, ти-вись, фью… Ты весь дивись…»
– Осень у нас настолько короткая, что поздней не бывает. Когда ты ее в последний раз видела?
– Змею? Вчера.
– Я уже говорил, что две твои макушки – признак гениальности?
– Не преувеличивай.
– Ты вообще находка – не оставляешь отпечатки пальцев – никаких следов.
– Не преувеличивай.
– Ну, что ты заладила, ведь если я на самом деле преувеличу, то найду в тебе такое…
– Мои макушки именно то, что ты называешь моей интуицией. Поднимись на веранду, промокнешь.
– Разве это дождь? Вот после праздников начнутся дожди.
Сквозь влажную ткань ночи пробивался незнакомый звон. Ненадолго задержавшись, он исчез за черными холмами Ревавы. Звук этот, несомненно, относился к первичному чувству разрыва, каким оно бывает, когда события прошлого без черновика вписаны в чистовике. Из последней неразобранной коробки с книгами Ася вытащила одну, наугад. Это оказалась книга под названием «Мешех». «Однажды еврейский мудрец Хасдай ибн Шафрут написал хазарскому царю, владения которого находились на территории нынешней России, в нижнем и среднем течении Волги, письмо, которое начиналось словами: «Верховному главе Мешеха и Туваля». Жил рав Хасдай во времена Гаонов, великих еврейских ученых, а те считали, что именно на севере расположены те страны, которые пророк Иехезкель называл царством Гога. И, может быть, от слова «рош» предводитель, голова, произошло слово Россия. Согласно еврейской традиции, когда говорится о «предводителе Мешеха и Туваля», подразумевается некая «северная страна; т. е. имеется в виду современная нам Россия. По крайней мере, известно, что Мешех, согласно объяснению Иерусалимского Талмуда, – это место по названью Мисья, а в одной древней книге «При Моше», сказано, что под Мисьей понимается Москва».
Прижавшись щекой к цепочке рассвета, Ася глядела на пальмы, одетые в потрескавшуюся крокодилову кожу. Все равно ничего нового не скажешь. Но, если «литература это неустаревающая новость»22
Эзра Паунд
[Закрыть], то мысль о непредумышленной форме восприятия, несколько утешает. Она вышла на балкон и полетела над распластанными полями в отмеренное, круглое время, бесполезно прячущееся в стволе бутылочного дерева, и то, что начиналось для нее вереницей сомнений, получило, наконец, свое единственно возможное завершение.
Таня Гринфельд
ПревращениеБыл ясный летний день, листья на росших в саду кустах были такими ярко зелеными, будто их облили краской.
От обилия зелени, а может, от того, что солнце в этом году светило как-то по-особенному, в саду появилось множество гусениц, которые облепили самые сочные листья и пожирали их с невероятной яростью, оставляя лишь тоненькую прозрачную кожицу.
Гусеницы двигались быстро, переползали с листа на лист, жадно двигая челюстями и стараясь насытиться, что, по всей видимости, было просто невозможно.
Одна из гусениц отставала в этом занятии, целиком поглотившем ее сородичей, и со стороны казалась какой-то сонной. А может, голод не гнал ее с такой силой? Впрочем, на нее никто и не обращал внимания.
Вдруг солнечный луч, переместившись с соседнего листа, упал на то место, где, задумавшись, сидела наша гусеница. Конечно, солнце освещало их и раньше, но ни одна из гусениц не замедлила своего движения настолько, чтобы заметить это.
Но наша гусеница просто замерла от неожиданности и недоумения. Что бы это могло быть? Прикосновение луча было теплым. «Это солнце», – услышала она голос, прозвучавщий внутри нее.
Солнце? Но что это? Она чувствовала его любовь и сама испытывала к нему нечто похожее. «Солнце, солнце», – щебетали вокруг птицы, но гусеница не смогла их хорошо расслышать, так как от рождения была глуховата, так же, как не могла и видеть солнца – она была слепа. И все же ей казалось, что она его видит, во всяком случае, она ясно чувствовала его тепло. Открыв для себя, что есть нечто такое, о чем она никогда не помышляла в своей маленькой жизни ранее, весь смысл которой заключался в том, чтобы покрепче и плотнее прижаться к листу, как можно быстрее при этом двигая челюстями, она потеряла чувство страха. Гусеница приподняла туловище над листом, насколько можно, и крикнула вслед своим подругам: «Остановитесь! Знаете, что…» Но никто даже не обернулся.
Все произошедшее настолько потрясло ее, что она расплакалась. Жить, как раньше, она уже не могла. Ведь теперь она знала, что за пределами ее мира лежит какой-то неизвестный мир, какая-то другая жизнь, и над всем этим есть оно, Солнце, или то, что называется им.
Гусеница растерялась, не зная, что ей делать дальше. Догонять остальных уже не имело никакого смысла, да и сама жизнь, казалось, только теперь приобрела настоящий смысл. Она проползла еще немного и остановилась, прислушиваясь к себе. Она ощущала, что что-то изменилось в ней. Но что? Мысль о движении вперед не принесла радости, есть не хотелось, и вообще все тело налилось тяжестью, казалось, что она вот-вот потеряет сознание.
«Что со мной происходит? – испуганно подумала гусеница. – Неужели я умру, так и не узнав, что такое Солнце? Но я не могу умереть вот так, теперь, когда я ЗНАЮ!»
Разволновавшись, она потеряла равновесие и скатилась с листа в траву. В каком-то бреду она еще немного судорожно дергалась туда и сюда, пока наконец тельце ее не замерло окончательно, вытянувшись в оцепенении.
Очнулась она спустя некоторое время в очень странном месте. Глухая стена окружала ее со всех сторон, как если бы она сидела в узкой трубке тростника.
«Где я?» – подумала она и тут же вспомнила все, произошедшее с ней. Внутри было тихо, и вначале ни звука не доносилось до ее слуха, как она ни пыталась что-то услышать. Ко всему прочему, было очень тесно, и она не могла даже шевельнуться. Но самое ужасное было то, что у нее пропал голос, и она не могла бы дать знать о себе, даже если бы захотела. Ей было страшно и очень одиноко. Чтобы отвлечься, она стала вспоминать свою короткую жизнь – какой самонадеянной и глупой она была прежде вплоть до того момента, когда на нее упал луч солнца. Думая об этом даже сейчас, будучи совсем беззащитной и считавшей себя похороненной заживо, она вновь ощутила тот же прилив радости, что испытала тогда, и это настолько согрело ее, что она старалась теперь как можно чаще возвращаться к этой мысли, так как это очень поддерживало ее в новом для нее положении полной отчужденности от внешнего мира. Иногда ей казалось, что время остановилось. Если бы только не одно обстоятельство…
Все то время, что она находилась под непроницаемым панцирем, с ней что-то происходило. Она вряд ли могла сказать определенно, что именно это было, но не проходило дня, чтобы внутри нее или с нею не происходили какие-то перемены. Иногда это было настолько неприятно, что гусеница предпочитала спать и не думать о происходившем с нею, тем более, что она понимала, что от нее сейчас ничего не зависит. По мере того, как сознание ее прояснялось, а слух обострялся от того, что ей приходилось постоянно вслушиваться в тишину, она стала слышать движения за стенами и голос, похоже, рассуждавший именно о ней.
«Что это за страшилище лежит тут?» – услышала она, и сердце ее сжалось от боли.
В дальнейшем ей пришлось не раз слышать подобные голоса. К тому же, время от времени налетавшие откуда ни возьмись птицы пытались склевать ее. В такие минуты она была рада, что у нее есть надежное укрытие, а появлявшиеся поначалу любопытные голоса, как правило, в досаде говорили:
«Ничего особенного, это всего лишь бесполезная ошибка природы».
«Должно быть, я действительно очень безобразна», – думала гусеница, но это почему-то уже не огорчало ее так сильно.
Об очень многом передумала она за это время.
Но интересная вещь: хотя одиночество ее затянулось, оно уже не тяготило с прежней силой, в нем не было отчаяния первых дней. Не то чтобы она привыкла, но ей даже нравилось быть наедине со своими мыслями, когда ничто не мешало этим раздумьям.
Как-то раз она проснулась в какой-то тревоге, предчувствие не отпускало ее, ей казалось, что именно сегодня, сейчас должно произойти нечто важное. Она напряглась, пытаясь раздвинуть стены своей темницы, хотя раньше это ни к чему не вело, но некий зов звал ее поступить именно таким образом.
И тут случилось неожиданное. Послышался треск, это отскочил кусочек сухой корочки, и в щелку проник луч света. Ей показалось, что она ослепла вторично, но это было именно так, и Солнце, настоящее Солнце на этот раз ослепило глаза.
«Солнце! Я вижу Солнце!» – воскликнула она, удивясь собственному голосу, таким непривычным было его звучание.
Это была правда, она видела Солнце, потому что теперь у нее были глаза, и она потянулась к свету, торопясь освободиться, хотя от долгой неподвижности это получалось несколько неуклюже.
Освободившись от остатков сухой кожуры и с удивлением оглянувшись на то, что удерживало ее так долго взаперти, она замерла на ветке, чуть дрожа от неожиданности и новых ощущений. Свобода пьянила ее.
Она не узнавала себя. Теперь у нее были невероятно длинные ножки, цепко обхватившие стебелек, изящное маленькое тельце с тонкой талией и нежным пушком, а за спиной трепетали еще не расправленные чуть влажные крылья. Это было настоящее чудо.
«Неужели это я? Не может быть, наверное я сплю», – билось в ее сознании. Могла ли она когда-либо раньше, находясь в теле зеленой толстой гусеницы, предположить, что все это произойдет именно с нею? Все это пронеслось у нее в голове, пока ее крылья просыхали в ласковых лучах солнца, а сама она, кивая усиками, с удивлением оглядывала мир вокруг блестящими глазами, в которых отражалась залитая солнцем лужайка со множеством росших на ней цветов и большой дом, а еще дальше за домом верхушки деревьев, и над всем этим – бесконечное голубое небо. Из дома выбежали дети – мальчик и девочка. Дети, смеясь, бежали к ней, стараясь опередить друг друга, – каждый считал, что именно он увидел ее первым.
Сейчас она точно знала, что это необыкновенное существо и есть она сама, и несказанное счастье переполняло ее душу.
Тогда она распахнула свои великолепные крылья, отливавшие всеми цветами радуги, взмахнула ими несколько раз, будто пробовала их силу и размах, и внезапно, оторвавшись от куста, взлетела навстречу взошедшему солнцу. И почти одновременно в воздух поднялись тысячи и тысячи, целые рои таких же, как она, грациозных созданий. Внизу, перекликаясь сотнями голосов, шумел своей жизнью лес.
А бабочки кружились и кружились в солнечном луче, поднимаясь все выше и выше, пока совсем не скрылись из вида.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































