Текст книги "Артикль. №5 (37)"
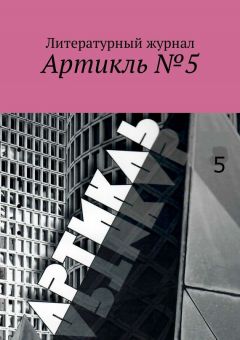
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Он наскоро простился с еще сонной женщиной, погладив ее прелести с чувством почитания и преклонения, и вышел на лестницу. Было 7 часов утра. Баба из 7 квартиры смотрела в приоткрытую входную дверь на него блестящим внимательным взглядом, от которого можно было сойти с ума на месте. Но Креш видел и не такое, она для него была легким завтраком это несчастная тетка. Он кивнул ей, прищурив свой карий глаз снайпера, и побежал вниз, перескакивая через две и три ступеньки. Дом был старый, построенный лет 77 назад в функциональном немецком стиле «баухауз», линии простые, ступени высокие, но колени Креша держали его прочно. Баба из 7-й квартиры сердито хлопнула своей дверью со словами «зол стэ…», дальше было не расслышать, но можно при желании догадаться.
Во дворе Креш отцепил свой замаскированный от воров, которые что-то разгулялись в последнее время, электрический самокатик, который завелся одним движением кисти, и покатил к морю под легким и весьма прохладным дождем. Через 7 минут он был на пляже и мгновенно высмотрел Ахмеда под пластиковым бордовым грибом на фоне хмурого моря в волнах с белыми гребнями. Араб только что умылся и медленно и сильно вытирался своей футболкой. Никого не было вокруг, только стучали жалюзи открываемого прибрежного кафе напротив набережной. Они пожали друг другу руки не без мужской церемонности: крепко, открыто и уверенно, как и полагается. Скамейки стояли по кругу, Креш уселся напротив, облокотясь на руль самоката. Он смотрел на Ахмеда внимательно и серьезно, без улыбки наблюдая за этим человеком, за движениями его худых сильных рук. Ахмед не был встревожен или напуган, вел себя спокойно, ничего он не задумывал, судя по пониманию Креша, который очень не хотел ошибиться. Старик лет 80, который прибегал сюда каждый день, бегал неподалеку от них, прыгал, улыбался, окунался в серо-зеленую воду с головой, выскакивал с раскрытым задыхающимся сиреневым ртом с бесцветными губами и ровным рядом прекрасно сработанных дорогим мастером зубов. Две девушки спортивного сложения, стройные и расслабленные, неторопливо бежали от них по самой кромке моря в сторону севера, склонив головы с собранными на затылке светлыми волосами. Они обе были в голубых рейтузах, которые у знаменитого русского писателя названы «лосинами», от вида и содержания которых можно было сойти с ума даже бесстрастному наблюдателю.
По набережной за спиной Ахмеда тоже спортивным шагом ходили люди все больше средних и пожилых лет: берегли здоровье. На правом плече у Ахмеда была глубокая почти зажившая царапина. «На вот, поешь, принес тебе тут», сказал Креш и передал Ахмеду пакет с едой. Тот взял его со смиренной благодарностью, отмеренной идеально точно. Ему было, наверное, сложно соблюдать достоинство и одновременно благодарить яхуда, подумал Креш. Почему-то здесь на этом берегу совершенно не было ни чаек, ни других морских птиц. Через километр-полтора возле порта птиц было много, все наглые, крикливые, а здесь нет, как не было. Объяснения у Креша этому нет. Возле тротуара он углядел двух ворон, которые зло ссорились из какого-то маслянистого комка. И как-то он успокоился от этого, летают, сварливые, некрасивые, недоверчивые. А вон пролетел редкий в этих краях средиземноморский буревестник, Креш его не заметил.
Ахмед ел хорошо: не торопился, аккуратно, но видно было, что очень голоден, как может быть голоден редко завтракающий здоровый молодой мужчина. Пару раз Креш поймал на себе его благодарный, странный взгляд человека, который судорожно пытается понять что-то и не может. А и бог с ним, не можешь понять и не надо, да что тут понимать-то, скажите? Что?
Вся эта грошовая психология благодарности и недоверия Крешем не воспринималась. Он жил в нескольких измерениях: правда – неправда, любовь – ненависть, злоба – доброта и так далее. Никаких оттенков этих чувств он не понимал. Креш не любил обобщать, но иногда это получалось сверх его желаний.
Однажды Семен, русский охранник главного входа, «наша последняя надежда», как его иногда серьезно называл Таль, задумчиво сказал Крешу, который вышел покурить: «Вот у американцев или европейцев взгляд мутный, не ухватить, а у нас наоборот, взгляд ясный и прозрачный, как наша честь и совесть, душа и сердце». Он очень хорошо говорил на иврите, насобачился болтать за 9 лет жизни здесь, в Россию этот обладатель ясных и прозрачных глаз хитрого и жестокого умника не ездил. «Ни ногой», по его собственным словам. Так он объяснял Рахмонесу, который его слушал уважительно и внимательно, как слушают раввина в пятницу вечером.
Ахмед, подумав, сказал, что старший брат его научил достоинству и фатализму. «Знаешь, что это такое?» Креш молчал. «И просить ни у кого ничего не надо, а я за сынка своего просил, не сдержался, антагонизм с учением брата, понимаешь?» Креш понял.
Ветер принес запах свежей выпечки из уже действовавшего кафе на другой стороне набережной. Горячий пар машины, которая варила кофе из молотых колумбийских зерен, лучших из всех существующих, по мнению оптовиков и некоторых избалованных потребителей, также вырвался наружу, радуя окрестный люд. Запах этот напомнил о действительности, недостаточно сладкой, по мнению Креша, и вполне-вполне приемлемой, по мнению Ахмеда. «Сынок мой вроде бы получше, Креш, – сказал Ахмед с набитым ртом, – я звонил раньше, сказали так, понимаешь?» Креш кивнул, что понимает. Ахмед позволил себе расслабиться, что было очень заметно. Не улыбался. «Ты с женой то говоришь, она в курсе?» – поинтересовался Креш. «Сказал ей про сына, с братом потолковал, брат мой очень умный, сказал, чтобы я молился, у тебя есть брат?» – спросил Ахмед. Креш покачивал головой, что можно было понять как «не знаю, неизвестно». У него были брат и сестра, но он никогда и ни с кем не говорил о них, они остались в стороне от главной направляющей жизни Креша. На трассе ориентирования в лесу под Бейт-Шемешем Креш их потерял. Не только их, многих других тоже.
Ахмед напомнил Крешу какого-то дальнего знакомого, только он не мог вспомнить кого. Это костистое крупное лицо, впалые черные непримиримые глаза… кто это? Кошка сидела рядом и неотрывно смотрела на Ахмеда, на то, что он поглощал. Ахмед не реагировал, не реагировал, но потом оторвал кусочек мяса от последнего бутерброда и протянул животному в руке, бросать было нельзя из-за мокрого песка под ногами и вокруг. Кошка не верила в намерения человека, но желание есть было сильнее страха. Она сделала гибкий шажок, другой, осторожно взяла мясо зубами и ушла, как пришла. За пластиковой стенкой она начала жадно есть, давясь и торопясь, оглядываясь, как бы чего не вышло. Ахмед, закончив трапезу, стряхнув руки, посмотрел на нее понимающе: «Так-то вот, сестренка, жизнь неожиданна, иногда хороша». Креш тут же понял, на кого он похож. Как его пронзило. Ахмед был похож на фото того русского на обложке книги, который написал «Колымские рассказы». Конечно, все совпало: не бойся, не надейся, не проси, так написал этот русский костистый дядька. Ахмед немного отступал от образа русского героя, он был другой веры и судьбы, 100 процентного сходства не было, но все-таки и здесь было не так как там, правда?! Совсем не так. Имя автора книги Креш воспроизвести не мог, это было выше его сил, а Глеба поблизости не было. И быть не могло, какой Глеб.
По набережной споро и громко проехала телега, запряженная гнедой лошадью. Молодой небритый возчик в застиранной куртке с капюшоном, напяленном на голову, наблюдал окрестности с нейтральным видом туриста. Лошадь недовольно мотала головой, демонстрируя характер. Возчик говорил ей с облучка, «тпр-р, парА, тпр-р». Изредка он вытягивал руку с кнутом и гулко щелкал им в простывшем воздухе рядом с ее крупом. Лошадь дергала вперед на грани нервного срыва, возница довольно рычал и укладывал кнут подле себя до следующего рывка. «Ну, капара, давай лети в родное Яффо к площади Часов, где меня уже заждались». Он вез овощи и фрукты для тамошних этнических ресторанов, а также картонки с яйцами и испеченные ночью хлеба с грубой деревенской, полопавшейся местами, коркой. Хлебы эти метались на столы официантами вместе с оплывшим сливочным маслом в миске и ножом-пилой для нарезания ржаных буханок. Рядом с возницей лежала немецкая овчарка, положив голову на лапы и неотрывно глядя перед собой. Ахмед посмотрел вслед этому нередкому здесь экипажу и повернулся к Крешу. «Я вечером подойду к ресторану, можно», – спросил он. Ахмед ожил после еды, воспрянул, в глазах появилась надежда. «Обязательно, только пройди осторожно мимо охранника, он всегда на страже», – объяснил Креш. Ему было неудобно все это произносить, но сказать было надо, он ненавидел эксцессы и скандалы. Он вообще был не публичный человек, предпочитая сидеть в углу и наблюдать, и слушать. Или читать странные книги посторонних здесь авторов с ужасной судьбой. На поясе у возницы был прикреплен традиционный местный нож, который называют здесь шабария. Древнее оружие бедуинов, имеющее ятаганную форму. Ножны были сделаны из дерева и покрыты тонким слоем металла в узоре. Угрожающая форма ножа внушала страх и уважение к нему и хозяину его.
Креш, глазастый, как и все снайперы, даже бывшие, углядел шабарию, мирно дремавшую у бедра возницы, которому было явно тесно в городе, но он терпел. Заработок кормильца значительнее скуки, важнее переживаний, сильнее ревности. Изредка через одинаковые промежутки времени, возница опускал руку на нож, убеждался в его наличии и успокаивался. Профилактика своего рода. Телега с невысокими бортами удалилась со всем своим ярким наполнением, скрылась с глаз. Из сердца вон. «Я пойду, дела», – сказал Креш. Ахмед поднялся за ним и пожал его руку своей плоской жесткой кистью без теплоты, но явно дружески. Так здороваются и прощаются сахбеки, то есть друзья. Какая-то тяжкая мысль вспыхнула и погасла без очевидного оформления в мозгу Креша. Что-то связанное с ножами, которым Креш поклонялся с детства, но что именно, он никак не мог восстановить. Креш вывел свой самокат к тротуару, оседлал его и покатил в частой и не сильной пелене дождика. «Шабария, шабария», – повторял Креш. Не вспомнил, что его огорчило. Сверкающие лезвия крутили над его головой свой огненный арабский танец. Сырой плотный песок, потемневший под дождем, окрашивал этот пейзаж в густые оттенки охры, такая картина позднего Писарро, что ли: свет, воздух и темный песок. Время для ссор и выяснения отношений, тяжких запоев под текущее дождем окно и чтение загадочной прозы под зажженную с утра лампу у дивана. Полстакана и хлеб, еще полстакана и еще хлеб, взгляд на улицу с перебегающими дорогу голоногими смеющимися студентками и еще полстакана под бурчание новостей в советском радиоприемнике 50-х, купленном у старика-болгарина на необъятном блошином рынке, то бишь, на барахолке в Яффо.
Креш влажно покашлял, все-таки было прохладно. Они простились с посветлевшим Ахмедом, который гнал вокруг себя такую атмосферу веселья и радости, что хотелось предупредить его от сглаза. Сглазить может и хороший человек, говорил Крешу когда-то родственник-старик, не родившийся здесь. Он ушел по своим делам, бесшумно покатил напротив огромных окон нового ресторана, где готовили в самом центре зала, в открытую, несколько поваров и рослых поварят с элегантными движениями рук. «Звони мне, хорошо?! Номер помнишь?» – спросил его Ахмед. Креш кивнул, что позвонит и что помнит, все-то он запоминал. Брат Ахмеда его не занимал нисколько, он понимал, что у того здесь сейчас влияния нет.
Креш двинулся, толкнувшись левой ногой от асфальта, не думая об Ахмеде. У него были утром две лекции, надо было успеть к 9, а пересечь нужно было весь город, умытый, чистый, свежий. Хотя самокат уверенно и нагло решал проблему всех пробок, но кто знает, дороги скользкие. С Ахмедом тоже как-то, если не решилось, но стало понятнее Крешу. «Вдалбливают им в голову с малолетства, черт знает что», – думал Креш об этом костистом самостоятельном арабе, объезжая по крутой роскошной дуге длинноногую, с золотой цепочкой на идеальной формы щиколотке, даму, и ее уверенного спутника, с покатым животом и тончайшими часами на широком запястье простолюдина.
Добродетельным человеком Креша назвать было трудно. Он был как бы заторможен, задумчив, иногда очень опасен. С ним нельзя было связываться ни прохожему с разболтанными плечами воришке, ни хмурому смотрителю на автостоянке, ни средних лет контролеру, штрафовавшему безбилетников и намусоривших граждан, ни подвыпившему молодому мужчине, который строит себе фигуру настойчивыми упражнениями в зале после умственной работы. Креш вцеплялся в противника, обычно надуманного, как клещ. Он всегда прятал карты, играл слабо. Когда он входил куда-либо, скажем, поднимаясь по лестнице наверх, то с первым же шагом его видна была порода, его пластика сверхчеловека, его классовая принадлежность. Царский поворот головы, тяжеловатый подбородок, намеренное невнимание к одежде, широкий и легкий шаг, раскованный корпус. Отец его был приземистого роста торговцем, если быть точным. Магазин отца назывался «Тысяча мелочей», дело шло хорошо.
Свернув налево с пустого бульвара и прибавив скорости на, ну, абсолютно пустом до прозрачности проулке, Креш натолкнулся своим проникающим псевдосолдатским взглядом на крупную надпись, сделанную на аккуратном зеленом вагончике. В таких обычно сидят прорабы или бригадиры коммунальных служб, например канализационных систем, которые имеют привычку портиться в самых неожиданных местах. Бах, и пробило, и чистенький газончик стал вонючим, похожим на болото пространством, буро-рвотного цвета. На вагончике кто-то ровно, черно и сильно написал: «Ахмед – убийца и мерзавец». Креш отвернул круто голову и, притормозив, на повороте влево проехал дальше. Кольнула его эта надпись очень сильно, он не любил таких совпадений, они нарушали ему жизнь.
Вдруг он стал интернационалистом, хотя значения этого слова Креш, конечно, не знал. Что-то из первого мая, из программы лево-прогрессивной партии, из скучной телепередачи с какими-то громкоголосыми, тухлыми участниками. У Креша все знания были на уровне интуитивном. Дурацкая белозубая полуулыбка, появлявшаяся некстати, делала его похожим на какого-то популярного скандинавского не то раскрепощенного артиста, не то на сконфуженного поклонниками певца. Он не закончил свой воинский маршрут, необходимые для военной квалификации 24 месяца. Потому-то Креш не боялся всего, что происходило вокруг. Он жил возле жизни, обиженный на армейские тупые, по его мнению, законы и армейскую жизнь до смерти. Если бы не Таль и его ресторан, то неизвестно что и как с Крешем бы стало.
Уже подъезжая к университету, Креш вспомнил, что не привез Ахмеду одежду на смену, у них было примерно одинаковое телосложение. Ахмед был костистее, пошире, Креш же казался более ловким и складным. Но Ахмед был и постарше Креша лет на 7—8. Креш приготовил ему пакет со штанами и рубахой, все было на размер-другой больше чем надо, так, как любил одеваться он сам. Все эти ночные игры с компьютером и телефонными звонками затмили память, Креш расстроился от этого. Рубаха была с флагом Италии на плече, когда-то он ее очень любил, считал, что похож на жителя Тосканы, почему-то он зацепился за Тоскану. Женщина его улыбалась и говорила, что «ты похож на Креша и только на него», она ревновала его к одежде, к которой Креш был совершенно равнодушен. Она посчитала, что он любит эту одежду больше нее, женщину было не переубедить. «Вечером возьму на работу, он придет и заберет, только позвоню на знаменитый братов мобильник», – подумал Креш и, пройдя через гулкий холл с полом из шлифованных синих мраморных плит, привезенных из Кении, осторожно зашел в лекционный зал. Рот у него совершенно пересох, погода была какая-то дурацкая, ни то, ни се, так здесь бывает осенью, весны-то в европейских представлениях почти нет в этих краях.
В лекционной студии находилось 14 студентов и докладчик – специалист по современному Ирану, субтильный человек европейского происхождения, выучивший фарси огромным усилием воли и усидчивостью. Иначе говоря, он взял этот язык, как берут недоступную роскошную женщину, наглыми домогательствами и измором. Теперь вот он рассказывал, очень высоким, но поставленным лекторским голосом с ужимками и повторами историю современного Ирана, которая не обещала больших радостей слушателям.
Популярный лектор, прервавшись, поводил по Крешу сиреневыми, какими-то свежими глазами, недовольно ответил на приветствие и извинение, и показал кивком, чтобы проходил. «Па-пра-шу не опаздывать», – сухо и громко сказал он. Креш согласно кивал этому зануде, чуть ли не спиной. Он не обижался. Сел возле рыжеволосой, прелестной девушки с белоснежной кожей, которая охотно и легко подвинулась, освобождая место для Креша на скамье.
«Так вот, – сказал лектор, – на чем мы остановились? Не подскажете, уважаемая Лимор?» Соседка Креша поднялась, как будто раскрывала застывшие ножницы, оказалась очень высокой и стройной, как смоковница, и сказала: «В столице Ирана Тегеране жизнь резко отличается от жизни в других местах этой страны, к этому городу очень подходит известное выражение о том, что Нью-Йорк это не Америка, Москва это не Россия, но Париж это Франция». Лектор явно удивился. «Спасибо вам за замечательную память и внимание, Лимор, вы заработали лишний балл на экзамене, я бы сказал, даже два балла», – отметил лектор, рассматривая девушку в упор, как картину Матисса в его зале в петербургском Эрмитаже. На этой картине было изображено в двух цветах лицо русской красавицы Лидии Делекторской, томской сироты. Эта иерусалимская Лидия теперь старательно записывала слова злобного, волевого лектора, только листы тетради трещали под ее авторучкой.
Дома Креш опять читал «Колымские рассказы», отчетливо понимая, как попадает через эту странную, великую книгу в другое пространство, незнакомое, страшное, величественное. Пространство это фосфоресцировало, как ненастоящее, но Креш его ощущал почти физически. Он как бы шел в отрепьях и страшных башмаках из автомобильных шин, качаясь от слабости и голода. Холод пронимал его до костей, он почти не боялся, потому что бояться уже было ему нечего. По сухому снежному насту, издавая славные звуки, распространяя запах бензина, очень быстро мчались грузовики и груженые самосвалы. Снежный полусумрак и болезненный голод кружили Крешу сознание, он был близок к тому, чтобы прилечь у двухметрового сугроба возле дома и заснуть без снов. Жизнь его была поставлена на кон в этом пространстве другой земли. Он попал через эту книгу про Колыму в другое пространство
«На Колыме не поют птицы. Цветы Колымы – яркие, торопливые, грубые – не имеют запаха. Короткое лето – в холодном, безжизненном воздухе – сухая жара и стынущий холод ночью.
На Колыме пахнет только горный шиповник – рубиновые цветы. Не пахнет ни розовый, грубо вылепленный ландыш, ни огромные, с кулак, фиалки, ни худосочный можжевельник, ни вечнозеленый стланик.
И только лиственница наполняет леса смутным своим скипидарным запахом. Сначала, кажется, что это запах тленья, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы.
К тому же – мертвецы на Колыме не пахнут – они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте», – вот что было написано в этой книге, которую написал писатель с непроизносимой русской фамилией.
Вечером Креш приехал на работу пораньше, потому что был большой заказ, ожидался наплыв гостей, и Таль просил быть его во всей красе. Он встретил Креша на крылечке, стоя возле Семена, который сегодня был при полном параде: белая рубаха, галстук, лакированные башмаки, только куртка подкачала, серая какая-то, бесформенная, невзрачная. Но главное, что Семену она нравилась. Она нравилась, и это было решающим фактором в выборе этим, да и другими тоже, одежды. Семен пожал руку Крешу и праздно спросил: «Ну что, Кореш, как жизнь?» Он все время ждал от этих парней несмышленышей какого-нибудь просчета, который только он один сможет исправить. Просчеты у них были все время, Семен их не исправлял, он свои частые ошибки не мог исправить, куда ему было до чужих ошибок. Но самонадеян он был сильно. Очень мало ел, обходясь бутербродом и стаканом чая утром, больше за весь день ничего. Ну, воды попить. На ночь он съедал пластиковую баночку простокваши, «гиль» под названием. На сложении его это не отражалось. «Только зрение острее», – объяснял Семен Талю. Тот смотрел на него непонимающе. «Странный ты человек», – говорил Таль и возвращался в кабинет, считать и пересчитывать. «Все-таки Бог у них не деньги», – думал Семен, когда Таль выдавал ему премию в удачный день. «Они тоже все разные, ты смотри», – удивлялся про себя охранник на евреев. Однажды он сподобился и подумал про ребят, когда они крепко выпили и закусили в день памяти по погибшим, расслабленный от чувств и мыслей: «Все-таки грешил я на них много». Но эта мысль быстро уходила от Семена, потому что «не такие уж мы все полные дураки, все не ошибаются». Понятно было ему наверняка, кто дурак, а кто и не дурак. Ответа на свои вопросы Семен искал в мокрых боках автомобилей у обочины. Блестящие тела их подкармливали его взбудораженное сознание. Если уж быть совсем честным, то Семен этого Таля боялся, не побаивался, а вульгарно боялся, этих стылых светлых глаз, изуродованной руки, трех его проникающих полостных ранений в живот из АК-47, его больной души. Короче, он боялся этого человека и ничего не мог с собой поделать.
По внешнему виду ничего узнать про Семена было нельзя, человек как человек, две ноги, две руки, широкие удобные штаны на американских подтяжках для удобства, большая кошачья башка и в ней много разных мыслей про жизнь и отдельные составляющие ее. Встревоженный взгляд был у мужика, но сегодня у кого нет встревоженного взгляда, только у младенцев разве что, а?! Да и то.
«Там сегодня богачи по супам решили вдарить под спиртик, приготовь им что надо и главное, как надо, Креш, времени уже нет», – сказал Таль без улыбки. Глаза его, схожие с глазами киногероев, потемнели, набрали синей мути, это был не его день, если верить звездам. Это день не был и днем Креша, хотя он родился совсем под другой звездой. У Таля был замечательный в малом холодильнике 96% спирт, который он выдавал под мясные супы, надежным проверенным людям. Однажды дал непроверенным и поплатился неприятностями. Спирт в Стране-Израиле всюду хороший, если говорить честно, люди разные.
Креш славно поработал в этот вечер. Рахмонес помогал ему, как мог, стараясь попасть в такт. Супы кипели на огромной плите, Рахмонес ходил с несколькими ложками, никогда не ошибаясь в том, какая должна мешать что: какая чечевичный суп, какая минестроне, какая суп из бычьих хвостов, какая ливийский мозговой, какая кубе-хамуста, какая суровый гуляш, какая африканский суп с орехами, какая прозрачный азиатский бульон с красными метками разящего перца. И никаких меток на них или зарубок там, на ложках не было. Брал он их уверенной рукой и не смешивал одно с другим. Вот таковы были его кулинарные знания, этого скромняги Рахмонеса, цены которому не было буквально. Не зря его уважал и почитал Таль, не зря считал незаменимым Креш. Так продолжалось несколько часов до того, как посетитель начинал убывать. В 12 часов ночи, согласитесь, хлебать суп из бычьих хвостов или тайский жгучий безобидный на вид бульончик под ледяную скандинавскую водку не всякий сможет. А были такие, которые усугубляли съеденное и выпитое куском мяса с кровью, которое решительно готовил уже другой человек Таля. Это был аргентинец Альфредо, специалист с вьющимися угольными усами, в фартуке, сапогах из грубой буйволиной кожи до колен и в красном колпаке чревоугодника. Увидев такого человека, можно было стать на месте вечным поклонником Аргентины, страны бесконечного мяса, откровенного танца танго, который был внуком кубинской хабанеры, сыном уругвайской милонги и родственником польской мазурки и нигерийского барабанного ритма. Но в ресторане этом, который назывался «Хабанеро», было мало людей, любивших танго и тесно танцевавших его. Конечно же, с женщинами в облегающих тело крепдешиновых платьях и в капроновых чулках на длинных резинках вдоль круглого бедра. Нога женщины в разрезе платья сводила с ума и возбудимого подростка, и восторженного юношу и даже опытного мужчину в шляпе на загорелый узкий лоб, в двубортном пиджаке с накладными плечами гангстера и двухцветных туфлях с белым верхом, хищно склонившегося над падающей партнершей, кстати, не менее хищной, чем он.
Рахмонес был типичным рахитом, с длинными руками, сутулой спиной и великоватым для его головы колпаком. Сил и энергии у него было много, хватало на работу и на жену, которая в нем души не чаяла, на сумасшедший рок-н-ролл «вокруг часов» незабвенного Элвиса во время обеденного, как это ни смешно, перерыва. И даже на всеобъемлющие многогранные размышления возле парадного подъезда о жизни и о судьбе самостоятельного человека в нередкие минуты отдохновения его хватало. Помимо других достоинств Рахмонес был известен и замечательной приправой, которую он готовил для мяса в дневные часы, чтобы успела настояться к вечеру.
Он крошил страшные перцы шата и хабанеро, которые называл тонкий и толстый по их внешнему виду, добавлял в ступку чеснок, кориандр, зеленый лук, подливал оливкового масла, соли, выдавливал лимон и толок все тяжеленной каменной дубинкой. Пропорции всех ингредиентов были известны только ему самому, предполагалось, что он все брал на глазок, наверное, так оно и было. Но вкус был незабываемый. Привередливый Таль накладывал это месиво великолепного цвета жизненной субстанции на тарелку столовой ложкой и, макая хлебушек, заедал прозрачный куриный бульон с рисом, вздыхая от счастья и совершенства окружающей жизни. Когда-то, совсем недавно, лет 5 назад, он лежал раненый в Ливане, с вырванными кусками тела, попав в засаду со своей группой, почти мертвый. Трех ребят этого рейда скосили в первую минуту, четвертый взорвался вместе с боезапасом. Таль шел за командиром, который словил первую очередь, у них не было ни одного шанса. Таль получил три пули, остался жив, но все время балансировал на грани жизни. Вторая группа прилетела спасать ребят через 10 минут. Врач погиб на месте, выскочив из вертолета. Друг Таля, с которым они выросли и вместе призвались, были как братья, носился по небольшой полянке, простреливаемой со всех сторон, и орал, не слыша своего голоса «Таль, Таль, брат, ты слышишь меня?»
Менее минуты стояла какая-то стылая нехорошая тишина, ничего услышать было невозможно. Вроде бы этот запыхавшийся старший сержант услышал не то вздох, не то стон. Он шагнул вправо, продвинулся вперед и увидел в высокой мокрой ночной траве Таля, лежавшего ничком. Он поднял его на руки, как ребенка, и, пригнув голову, побежал с ним к вертолету. Ему помогли внести друга, второй врач подал ему руку и он запрыгнул внутрь. Сладко и нестерпимо пахло кровью внутри.
Вертолет приподнялся и улетел. Лету до дома было минут 12—14, не больше. Друг Таля, вообще, был совсем не тяжелый, даже легкий. Крепкий, жилистый, опасный, но не тяжелый. Врач хотел дать ему таблетку, но он отказался. Врач посмотрел на него и отошел. Вернулся с пластиковым стаканом коньячного напитка. «На, выпей, Асаф», – сказал он. «Да я не пью», – ответил Асаф, но стакан взял и выпил залпом, как большой, не почувствовав вкуса. Врач принес бутылку 777 и налил еще стакан, добавив крепкое красное галилейское яблоко. «Давай». Асаф взял без разговоров и глотнул, как лекарство. Волнение отпустило, он расслабился. На базе Асаф был уже категорически пьян и заснул в коридоре лазарета на стуле. Таля увезли в больницу в Нагарии, прооперировали, спасли ему руку и какой-то важный внутренний орган в животе. Он провалялся там почти месяц, потом восстанавливался, потом его отпустили с пенсией, льготами и шрамами от операций. Он остался в резерве, каждый год призывался на несколько дней или недель, было что делать, он многое умел, он был военнослужащим наивысшей квалификации, даром, что старший сержант по званию. Параллельно он придумал ресторанный бизнес, который неожиданно пошел в гору.
Когда не было посетителей, Рахмонес любил присесть сбоку за подсобный столик со своей порцией супа и салатом. Он просил аккомпаниатора, который начинал работу часам к 7 вечера, а сейчас покуривал после обеда, на который приходил специально, хотя и не ежедневно, поиграть ему что-либо из любимого и близкого. «Что же сыграть?» – спрашивал аккомпаниатор. Он мог бы посостязаться с Рахмонесом по части хилости. «Ну, я не знаю, мне вас учить? Так много всего. «Есть город, который я вижу во сне» или «У нас на Брайтоне веселая мишпоха» или «Мурку» или, на худой конец, «Давай пожмем, друг другу руки, и в дальний путь отправимся с тобой», – скороговоркой говорил Рахмонес. Этот диалог повторялся из раза в раз, его можно было назвать онтологическим. Пианист Вениамин, человек большой ресторанной судьбы, неизвестно о чем думая, поправлял галстук, вытягивал сухие руки, хрустел своими какими-то выгнутыми пальцами и, положив голову на правое плечо, поводя туманного цвета глазами, начинал играть, склоняясь вперед, двигая корпусом, задумчиво нашептывая в микрофон на рояле: «Сиреневый туман над нами пролетает, над тамбуром горит полночная звезда». Рахмонес подпевал ему, коверкая мотив, вкушая тайский суп, вредный для почек и слизистой желудка, но полезный для жизненных процессов. Однажды Семен сказал ему серьезно, что «нужно целовать следы его башмаков всем присутствующим». Никто не пылал такой страстью, Таля при этом не было, потому и сошло, потому Семен и посмел сказать это. Но в прочитанной им книге именно так и говорилось про людей типа Семена.
Сильная телом и слабая духом официантка Лиат стояла в проходе и, терзая салфетку сильными руками, пыталась петь грешными губами. Она не понимала этот язык, но сочувствовала ему сильно. Только Таля не хватало для полноты картины, он бы высказался по многим сторонам рабочего процесса своих сотрудников, но его не было здесь. Наверное, к счастью.
Но вечером все было иначе. Лиат быстро семенила с серебряным подносом в руках, на котором стояло по 6—7 тарелок супа. Она не думала о грехе, это отражалось на ее внешнем виде. Мужчины наблюдали за ней с большим и одобрительным интересом, она это чувствовала, поеживалась как от холода, не могла сосредоточиться, иногда улыбалась своим мыслям, явно не здешним. Тарелки дымились, присыпанные нарезанной зеленью, водка лилась наравне с местным красным вином, расцвет израильских виноделен за последние четверть века можно было сравнить только с расцветом военной мысли и компьютерного программирования за те же 25 лет, которые в историческом плане значат секунду-полторы, не больше. Вениамин играл по заказу, петь не пел, но мурлыкал в такт, сообразуясь с ритмами недавнего и давнего прошлого. Таль с печальным видом прогуливался в районе входной залы с портьерами, неподалеку от строгого мэтра, по виду итальянца, а на деле триполитанца, что не одно и тоже. Триполи, сказочный город на берегу Средиземного моря. Триполи есть и в Ливане, недалеко, да не то. Мэтр был в белоснежных перчатках иллюзиониста и сюртуке, что являлось большой редкостью для тель-авивской вольницы. У него было сжатое лицо со впалыми выбритыми щеками. Он был очень смугл и строг. Он был так напряжен, что о него можно было бы зажигать спички. Никто этого делать не рисковал.









































