Читать книгу "Плавучий мост. Журнал поэзии. №4/2017"
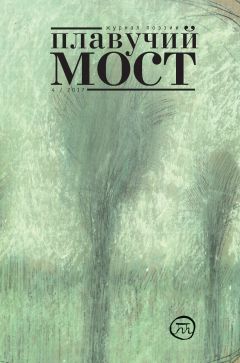
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Бахыт Кенжеев
Стихотворения
Родился в Чимкенте. С 1953 г. жил в Москве. Закончил химический факультет МГУ. Один из учредителей поэтической группы «Московское время» (вместе с А. Цветковым, А. Сопровским, С. Гандлевским…). В 1982 г. переехал в Канаду. С 2008 г. живёт в Нью-Йорке. Автор 4-х романов, 8-ми поэтических книг, лауреат нескольких литературных премий (в т. ч. премии «Анти-Букер», 2000). Один из составителей антологии новейшей русской поэзии «Девять измерений» (2004). Лауреат «Русской премии» за 2008 год.
«Давай о былом, отошедшем на слом, где лезвием брились опасным…»Давай о былом, отошедшем на слом, где лезвием брились опасным,
тушили капусту с лавровым листом и светлым подсолнечным маслом,
страшились примет и дурных новостей, не плавили платины в тигле,
точили коньки, и ушастых детей машинкою времени стригли —
там с неба струился растрепанный свет, никто еще, в общем, не умер,
и в марте томился в газетке букет мимозы (привет из Сухуми!).
Пластмассовый штырь, дорогие края, трамваев железные трели.
Куда они делись? Бог знает, друзья. Как всякая тварь, отгорели,
вальяжным салютом над местной Москвой, золой в стариковских рассказах.
Есть список небесный, на каждого свой, ореховых и одноглазых
грехов. Поскорее зови, не трави, другого уже не попросим.
Напрасно ли мы в потерпевшей крови, как вирус, минувшее носим?
«Я почти разучился смеяться по пустякам…»Я почти разучился смеяться по пустякам,
как умел, бывало, сжимая в правой стакан
с горячительным, в левой же нечто типа
бутерброда со шпротой или соленого огурца,
полагая что мир продолжается без конца,
без элиотовского, как говорится, всхлипа.
И друзья мои посерьезнели, даже не пьют вина,
ни зеленого, ни крепленого, ни хрена.
Как пригубят сухого, так и отставят. Морды у них помяты.
И колеблется винноцветная гладь, выгибается вверх мениск
на границе воды и воздуха, как бесполезный иск
в европейский, допустим, суд по правам примата.
На компьютере тихий вагнер. Окрашен закат в цвета
побежалости. Воин невидимый неспроста
по инерции машет бесплотным мечом в валгалле.
Жизнь сворачивается, как вытершийся ковер
перед переездом. Торопят грузчики. Из-за гор
вылетал нам на помощь ангел, но мы его проморгали.
«Снег сыплет, как пепел, пускай и белей…»Снег сыплет, как пепел, пускай и белей.
Вот я и отпраздновал свой юбилей,
немалую денежку пропил.
А в детстве мечтал завести хомяка —
грызун глуповатый, но шкурка мягка,
хорош, дружелюбен и тёпел.
И белая крыса с предлинным хвостом
являлась подростку в мечтанье простом,
и сахару с писком просила.
Обидно, что долго они не живут —
кто спорит, конечно, не десять минут,
но два, ну, три года от силы.
А наша с тобою – умна и долга.
Неделя-другая – растают снега.
Эол, как положено, дуя,
согреет лужайку, и бережно кот
в подарок хозяйке в зубах принесет
пушистую мышь молодую.
Давай полетим золотою золой
и снегом льняным над февральской землей,
где света беда не убавит,
где звери простые, вернее, зверьки,
не ведая веры и смертной тоски,
неслышно предвечного славят.
«Когда бы знали чернокнижники…»Когда бы знали чернокнижники,
что звезд летучих в мире нет
(они лишь бедные булыжники,
куски распавшихся планет),
и знай алхимики прохладные,
что ртуть – зеркальна и быстра —
сестра не золоту, а кадмию,
и цинку тусклому сестра —
безликая, но многоокая —
фонарь качнулся и погас.
Неправда, что печаль высокая
облагораживает нас,
обидно, что в могиле взорванной
один среди родных равнин
лежит и раб необразованный,
и просвещенный гражданин —
Дух, царствуя, о том ни слова не
скажет, отдавая в рост
свой свет. И ночь исполосована
следами падающих звёзд.
«Во сне, как в губчатом металле, насыщенном парами льда…»Во сне, как в губчатом металле, насыщенном парами льда,
душа скитается местами, оставленными навсегда.
Как водится, журчит водица, и палестинский лист шуршит,
не сбудется – так пригодится, и завершится, и простит.
Грядущим тлением не тронут, о двух руках, о трех горбах,
легко забрасывает в омут мережу пасмурный рыбак,
охоч до живности безрукой, хрустальноглазой, и грехом
не пораженной. Старой щукой трепещет в воздухе сухом
его добыча. Твари нищей, читай, земной, да и морской, -
есть время покидать жилище, речною исходить тоской —
прощай, шепчу, желанье славы, жужжание веретена —
ах, рыбоньки мои, куда вы? Алеют звезды. Ночь нежна.
«Надо мною небо плоско бойко жаворонок вьется…»надо мною небо плоско бойко жаворонок вьется
а внизу картина босха в смысле всякие уродцы
жжет костры глухая нежить проплывает лентой пестрой
и друг другу сердце режет саблей обоюдоострой
запах серы тихо тает ночь рыгает жизнь сожрамши
впрочем часть из них летает на крылах из черной замши
недомузыка кривая так нечисто и нечасто
воют твари раскрывая клювы черны и зубасты
да и мы младыми были колеся по русским сёлам
ясных барышень любили песням верили веселым
и смущался без конца я ну какой простите гений
без улыбки созерцая этих мрачных измышлений
не люблю иеронима небо страшное рябое
плач звезды необъяснимой над фабричною трубою
нет сражусь со смертью-дурой чтобы сердце не уснуло
обнаженною натурой легким томиком катулла
«У фонарей, где хлопья снега тают…»У фонарей, где хлопья снега тают,
где голос плоти теплится едва,
невидимые ангелы летают —
бесполые ночные существа.
Зачем – бог весть. Не дышат, но играют.
Не знают ни заботы, ни труда.
Поют. Разносят вести. Проплывают.
Не пьют. Не существуют никогда.
А я еще носить умею имя
и отвечать вопросом на вопрос —
но спорить не осмеливаюсь с ними,
печальная машина без колес.
Немного водки, осени немного.
Умыть лицо. Обнять родной порог.
Изготовлять суглинистого бога
из месива проселочных дорог.
Мы лузеры, мы оба в мелком ранге,
но все-таки не улетай, постой —
храни меня по имени, мой ангел,
фантомной боли доктор золотой.
«Безденежной зимой, неясного числа, легко поётся…»Безденежной зимой, неясного числа, легко поётся.
Не повторяй, что молодость прошла и не вернется,
не убивайся, мальчик пожилой в домишке блочном.
Спасётся всё, тварь всякая, и Ной в своем непрочном
ковчеге. Зря ли, смертью смерть поправ, как Авель, равен
всей прелести земной расстрелянный жираф, о, Копенхавен?
Вернуться в прошлое, которое ничуть, пока мы живы,
не исчезает. Умереть, уснуть. Конечно, лживы
те утешения. Проснуться поутру, а не присниться.
Чугунны идолы на мусорном ветру, подъяв десницы,
зовут куда-то, кулачком грозя.
И трудно жить, и умирать нельзя.
Элегия перваяВеришь ли, снова сквозь полупрозрачные облака
рассиялось бельмо луны ртутным светом, Господне око.
Жизнь ли сужается, как замерзающая река,
и становится твердью заснеженной, одинокой?
Или же кругозор налима, по глупости вмёрзшего в лед,
сжимается? Или ревниво рыбак проверяет снасти
для подлёдного лова? На автопилоте крейсирует ночной самолет.
В старости, говорят, утихают страсти:
лакомишься карамазовским коньячком со льдом,
переживаешь, что нет писем от взрослого сына.
Прибывает житейская мудрость, обустраивается дом,
подрастает высаженная осина.
Помнишь, был такой пожилой персонаж из отдаленной земли
Уц? Неудачник, зато непременный участник очных
ставок с Богом. Выздоровел от проказы. Перестал валяться в пыли.
Обзавелся новой семьей и т. д. – смотри известный первоисточник.
Элегия втораяИз прошлого мне что-нибудь сыграй,
скрипач слепой, напомни милый край,
стишок слезливый, писанный по пьянке,
бычки в томате, детский анекдот,
стакан, гитару, да горбушку от
шестнадцатикопеечной буханки
с уральской солью, с постным маслом, да.
Сколь молоды мы были, господа,
сколь простодушны были и невинны,
сколь сладко задыхались, влюблены,
от красоты и дивной глубины
очередной Ирины или Риммы!
Тихонько спит прошедшее навзрыд,
лишь время негорючее коптит
в светильнике умершего поэта,
как масло постное. Ах, нищие, народ
тревожный – пьет, а денег не берет —
наверное, монах переодетый.
И вдруг прошепчет: честно говоря,
кто саван шьет – тот трудится не зря,
так строил фараон на радость сёстрам
свой гроб, и пел предутренний петух,
усваивая вечность не на слух,
а зрением и опереньем пёстрым
Элегия третьяДом: этажерка, кролик, фикус. Не низок, хоть и не высок.
В ладошке яблока огрызок, а в небесах наискосок
летают пламенные стрелы, и мать младенцу говорит:
не плачь! Не звёздочка сгорела, а так, простой метеорит.
Давно и дома нет, и звезды скудеют с каждым днем, пока,
клубясь, переполняют воздух раскатистые облака,
под осень мама моет раму, и мы с сестрицею глядим.
Сухой листок, как телеграмма, летит бульваром золотым.
Нет, не смешно, скорее просто. Резец, орган, крысиный хвост
от колыбели до погоста, под светом падающих звёзд,
небесной сволочи бродячей. Кому пиковый интерес,
кому гоняться за удачей – светло, а времени в обрез.
Как ларчик из крыловской басни, как монтекристовский сезам,
дар памяти ещё прекрасней, чем ночь, отпущенная нам.
Но что и вспомнишь – так неточно, нечётно как-то, сгоряча —
пустой листок депеши срочной, печать ночного сургуча
Элегия четвёртая«На Венере, ах, на Венере у деревьев синие листья»
Николай Гумилев
Удлиненные тени событий и вещей, голосов, чаепитий
поздних, голуби, вещие сны, дальний грохот гражданской войны.
Нет, не граждане мы – горожане, мяли кожу, ковали, дрожали
над младенцами – вдруг дифтерит? Как же ярко Венера горит,
там лишь ангелы, дети малые, ни Дзержинского там, ни Троцкого,
а на елках иголки алые, а в музеях картины Бродского,
водопады, ручьи, лечебная валерьяна, скрипка, пирожного
благоухание, словом, волшебная философия невозможного.
Все исчислено и измерено. Толку нет от мертвого мерина —
травяной мешок, волчья сыть – ни стреножить, ни воскресить.
Элегия пятаяЗапах горелой резины серые птицы одни
что за бесснежные зимы что за короткие дни
что за январь неохотный распространяясь окрест
будто дошкольник бесплотный хрусткое облако ест
сколько ни шарь по карманам нету мобилы увы
славно лежать полупьяным в вежливых лапах москвы
столько нашепчет историй и подростковых забот
сколько друзей в крематорий микроавтобус свезет
хрип постаревшей пластинки леннон а может булат
организуем поминки водка селедка салат
веруя в родину эту в немолодую родню
выпью расплачусь лишь свету вечному не изменю
словно незрячий ощупал жизнь и сказал неплоха
кладбище звездчатый купол храма у вднх
там же где богоугодный меж гаражей вдалеке
бродит январь безработный с кроличьей шапкой в руке
Элегия шестаяПора, мой друг, пора. Я Пушкина листаю.
Четвертый час утра. Элегия шестая.
Поморщусь, закурю, и выдохну привычно:
печаль моя мутна и ночь косноязычна.
Вопит во сне вдова, на свадьбе шут рыдает.
подснежник радует, и тут же увядает,
играют радугой разводы нефтяные
на лужах городских. О чем ты хнычешь ныне,
неблагодарный раб? Кому ты так глубоко
завидуешь? Кому светло и одиноко?
Ах, мышья беготня. Уже пробили зорю.
Запахнет серый свет бродящею лозою,
и дымом – свежий хлеб, не душным, а сосновым,
и спросят мёртвого: «не грустно? не темно вам?».
Лимоном, лавром, друг, точнее, лавровишней.
Давно ли вечно жить нам обещал всевышний?
Но это было там, в других краях, где горе
топили юноши в арабском алкоголе,
и пела под дождем красавица чужая,
грядущей тишине ничем не угрожая.
Элегия седьмаяЛ. С.
Все кажется – вернусь, и станет все, как было,
на Малой Бронной, где теперь сугроб
(как я тебя любил, как ты меня любила!),
аптека и кофейня. Жизнь взахлёб.
И будет нам тепло среди зимы косматой:
подпольный Галич с плёнки запоет,
и кухню полутемную зальет
люминесцентный свет продолговатый.
Любил-то я тебя, а был влюблен в одну,
другую, третью, и сердился, право,
когда ты выговаривала: ну,
ты, мальчик мой, неправ, а впрочем, слава
Создателю: он сам – творенья часть,
то сдвинет ось земли, то сам себе дивится,
то посылает всякой мрази власть,
то глупость – юношам, то молодость – девицам.
Кончается благословенный век мой.
Ты умерла, (а я не поумнел),
но все смеешься, пепел сигаретный,
как бы профессор с тонких пальцев – мел,
вдруг стряхивая в оранжевое блюдце.
Нет, не вернусь. Ушедшим не проснуться,
лишь Патриаршие сверкают инеем,
и небо черное, и светло-синее
Элегия восьмаяАх, как смешно ты мечешься, голубчик, в рубашке клетчатой, в сиреневых носках.
в штанах (вельвет песочный в мелкий рубчик), с зачитанным Овидием в руках.
Не нам воспрять – лишь ангелам, вернее, созданиям, не знающим стыда —
мы выцветаем, глупый мой, бледнеем, а то и вовсе пропадаем, да.
Не возвратит заоблачный охотник оброненного в черных подворотнях,
в года, когда с отточенной тоской свет теплился в столярной мастерской
на первом этаже замоскворецком, на сельском кладбище, в евангелии детском.
где Гавриил, небесный генерал, Давида молодого уверял:
лишь певший об увиденном впервые снять цепь врожденную умеет с грешной выи
одним движением – и в тесном вещем сне зубами скрежетать без помощи извне
Элегия девятаязацвела конопля дозревает мак
а подумал о будущем и обмяк
и зашелся кашлем от сигареты
различив за безлицею синевой
осторожный и жалобный голос твой
повторяющий что ты где ты
распахнется при черной свече зрачок
молоку на смену придет обрат
станет страшно и тихо-тихо,
лишь под утро в углу затрещит сверчок
таракану друг и цикаде брат
подзывая свою сверчиху.
потемнеет пристань невдалеке
где спустился бы в лодку с узлом в руке
раскулаченный, только пешим ходом
бормотать ему по водам чужим
над которыми сириус недвижим
истекает бесплотным медом
полно хвастаться кожаным ярлыком
на княжение – певчих сверчков на корм
игуанам и мелким змеям
размножают – и светимся мы во тьме
и встречаемся как не в своем уме
и прощаемся как умеем
Элегия десятаяотсидели за школьною партой возмужали в родной стороне
затхлый запах свободы плацкартной кружит бедную голову мне
и играет в граненом стакане счастье странника спелый агдам
и дошкольники машут руками уходящим на юг поездам
и еще я студент не добытчик а страна за моею спиной
набивает ивановский ситчик полыхает травою степной
тянет сети работает то есть про железнодорожный рассвет
сочиняет стучащую повесть но у времени совести нет
счет идет на такие секунды что и выбора нету прости
не замай темнохвойной пицунды моря в гаграх и праха в горсти
предвечерний покоится с миром не резон уже и недосуг
воскресать молодым пассажирам поездов уходящих на юг
Элегия одиннадцатаякогда адам отстраивал содом
и любовался собственным трудом
телеги с черепицею скрипели
по глинистой дороге, мастерки
сновали, словно ласточки, легки,
молчали плотники, а каменщики пели.
в чем смысл творенья город расскажи
десятники свернули чертежи
грядущее плотнее и бесплотней
охотник на оленей лжец кузнец
и ростовщик и мельник наконец
обнявши жён справляют день субботний
один адам на ложе земляном
скорбит и размышляет об ином
спи старец спи пускай тебе приснится
красавец Блок (уволенный рыбак)
с медовой папироскою в зубах
и бумазейной розою в петлице
Элегия двенадцатаяИ стартовал бы с чистого листа,
чтоб стала ночь прощальна и проста,
ан не выходит. Грустно. Тараканы
под плинтусом. Зима. Метаморфоз
не жалуем, ни в шутку, ни всерьез,
засим (привет, Лебядкин!) и стаканы
сдвигаем с тусклым звоном. Не хотим,
но кожа превращается в хитин,
а руки-ноги – в лапки, и свобода
сужается, как довоенный мир,
до точки, до одной из черных дыр
в развалинах живого небосвода.
А тараканы знай шуршат, шуршат,
кот ловит перепуганных мышат,
бездомный муж на вентиляционной
решетке, в древний кутаясь тулуп,
пьёт из горла. И песня льется с губ,
безмолвная, как пруд пристанционный
из Саши Соколова, с трын-травой
и радугой бензиновой. Постой,
на пышный град в убогой облицовке
из жженой глины – погляди! Жена
с тележкою бредет, обожжена
безумьем. Ни завязки, ни концовки.
Тем и скушна поэзия, ma chère,
что дышит только светом горних сфер
(шучу). Сужаясь от избытка чачи
(как бы зрачок), за истину не пьет,
невнятицу бесшумную поет.
И рад бы изменить ей, но иначе —
не смог бы, нет. Прощальна и проста,
снимает тело мертвое с креста
и, тихо прихорашиваясь, плачет.
Интервью с Бахытом Кенжеевым
Беседу вела Ольга Афиногенова
О. А.: Рубрика на вашем сайте, где собраны стихи последних лет, называется «Позднее». А как бы вы описали разницу между ранним и поздним поэтом Бахытом Кенжеевым?
Б. К.: Полагаю, что это дело читателей и критиков. Впрочем, пожалуй, в юности я писал попроще, раз, и значительно больше, как бы сказать, нервничал в стихах. А теперь мне это кажется мальчишеством.
О. А.: Благополучная литературная судьба – это вопрос удачи или вопрос таланта? Может ли быть не замечен читателями и, так сказать, литературной общественностью действительно одаренный человек, или тут другая логика: если тебя не заметили, не оценили, значит, ты недостаточно талантлив? Как известно, Сократа тоже не печатали, так стоит ли писателю переживать из-за отсутствия признания?
Б. К.: Ну, Сократа не печатали отчасти по причине отсутствия издательского дела в те далекие годы. Но это к слову. Что до отсутствия «славы», то это вещь при жизни поэтов вполне обычная – «у нас любить умеют только мертвых». В наши дни даже самая благополучная литературная судьба – это две-три литературные премии, несколько сборников тиражом от 500 до тысячи экземпляров, да несколько тысяч подписчиков в социальных сетях. Можно ли назвать это признанием? Наверное, да. Однако на улице узнают лицедеев, политиков и богачей – а поэтов как-то нет. Отмечу еще, информационная революция привела к тому, что остаться совсем непризнанным стало ну очень трудно, почти невозможно. Свои поклонники находятся у всякого.
О. А.: Литературный мир – явление сложное и противоречивое, так как его образуют непростые и противоречивые люди. Как вы относитесь к конфликтам между поэтами разных взглядов и направлений? Это все досадная суета сует или, может быть, это проявление закона драматургии, где конфликт – неотъемлемая часть сюжета?
Б. К.: Я в литературных конфликтах стараюсь не участвовать, (если, конечно, они вызваны чисто эстетическими, а не этическими причинами). Одни направления мне нравятся больше, другие меньше, но при наличии таланта всякий автор приносит в литературу хотя бы отчасти новое слово – а это всегда следует приветствовать. Впрочем, бывает и так, что человек не слишком даровитый использует «новую» форму, чтобы скрыть недостатки содержания, а потом жалуется на неблагодарность консервативной публики, не желающей восторгаться его новаторством.
О. А.: У вас есть персонаж или даже alter ego – остроумный и дерзкий Ремонт Приборов, автор стихов в жанре гражданской лирики. А если брать стихи, подписанные вашим именем – есть ли в них лирический герой и насколько он близок лично вам или, наоборот, далек от вас?
Б. К.: Мне всегда казалось, что я пишу о себе самом (или на разные темы, но рассматривая их со своей колокольни). На самом деле, вероятно, стихи все-таки воплощают концентрированную духовную жизнь, а не наше повседневное, порою достаточно вялое и скучноватое существование. Так что в данном смысле человек, описанный в моих стихотворениях, в чем-то лучше вашего покорного слуги, во всяком случае, сообразительнее и горячее сердцем.
О. А.: Часто можно слышать два полярных мнения о современной литературе: 1. сейчас и в прозе, и в поэзии наблюдается настоящий подъем, невероятное количество талантливых авторов и т. п. 2. литература кончилась, и после «Дон Кихота» не появилось ни одного гениального произведения, все, что происходит – всего лишь инерция культуры. Вы читаете и хорошо знаете современную литературу, пишете не только стихи, но и прозу. Вы верите в то, что в рамках современной литературы, неважно в каком жанре, создаются произведения, равные признанной классике?
Б. К.: То или иное произведение, как правило, ставится на полочку с ярлыком «классика» уже после смерти автора, так что это слово следует употреблять самым осторожным образом. Разумеется, случаются и исключения. Скажем, классиком уже при жизни стал Пастернак, да и Ахматова тоже – но Мандельштаму такой судьбы не выпало. Только время сможет расставить все книжки по правильным полкам – если конечно, в будущем останутся книжные полки. Что до расцвета или упадка литературы, то ни того, ни другого не наблюдается. Сотни и тысячи литераторов по всему миру производят свою продукцию, одних осыпают умеренными почестями, другие пишут в свободное от земных занятий время, иной раз и бедствуют. Но так было всегда. Реальную известность и благополучие некоммерческая литература (и особенно поэзия) приносит редко. Однако же сама причастность к этому занятию – небывалое счастье.
Примечание:
Ольга Афиногенова – поэт, сотрудник журнала «Плавучий мост».






























